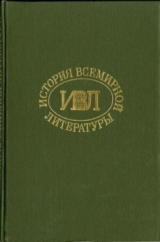
Текст книги "История всемирной литературы Т.8"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 101 страниц)
Сильной стороной творчества Хейерманса было не прокламирование романтической программы будущего, как у Гортера, а реалистическая критика настоящего. В своих пьесах (а их более пятидесяти) он бичует, кажется, все пороки буржуазного общества: эксплуатацию человека («Добрая Надежда», «Ora et labora», «Глюкауф!»), гнет религиозных и собственнических предрассудков («Гетто», «Агасфер», «Всех скорбящих»), затхлую мораль брака и семьи («Дора Кремер», «Седьмая заповедь», «Звенья цепи»), погоню за деньгами («Восходящее солнце», «Ева Бонэр»). Трагическая фигура Книртье («Добрая Надежда», 1900), мужественной, терпеливой женщины, у которой море и нужда отняли мужа и сыновей, стала «символом своего народа» (С. Флаксмен).
Но эта народная трагедия, как и другие драмы о борьбе труда и капитала, содержит у Хейерманса зерно социального оптимизма, связываемого с образом мятежного Герта и его невесты, стихийно протестующих против бесчеловечности «хозяев жизни». Аналогичный смысл несут в себе фигуры студента-марксиста Барта («Седьмая заповедь», 1900), молодой крестьянки Эльке из «игры о земле» «Ora et labora» («В трудах и молитвах», 1903), Риты («Всех скорбящих», 1905), о которой А. В. Луначарский отозвался после русской премьеры этой семейной драмы (1906): «Жизнерадостная, глубоко языческая и глубоко социалистическая фигура – что-то вроде первой частички пролетарского романтизма».
В пьесах, написанных на рубеже столетий, драматург нередко обращается к прямому изображению быта, психологии, труда и политической борьбы пролетариата; таковы «драма для народа» «Машина» (1899), «романтическая игра о солдатах» «Панцирь» (1901), «игра о городе» «Цветущий май» (1903) и особенно «игра о шахте» «Глюкауф!» (1909). К концу 900-х и в 10-е годы понятие трудящегося класса у Хейерманса постепенно тает в нечетких границах «народа», от которого все более отдаляется вышедший из него положительный герой, наделяемый чертами «вечного типа». Антагонизм труженика и капиталиста уступает место конфликту бессребреника и толстосума. Хейерманс прибегает к юмору и сатирической аллегории («злонравная сказка» «Мудрый кот», 1917; «веселая пьеса» «Летучий голландец», 1920), ищет опору в стоической мудрости резиньяции, которыми он наделяет своего нового героя из «среднего сословия»: Матейса («Восходящее солнце», 1908), Яспера («Ева Бонэр», 1916). Впрочем, ноты примирения были слышны уже ранее – даже в «Глюкауф!», во взаимной исповеди шахтеров и директоров, обреченных на гибель обвалом шахты.
У драматурга, считавшего, что «художественное выражение невозможно без тенденции», эта эволюция от социального критицизма к социальному компромиссу не могла быть вызвана только обстоятельствами жизни – такими, например, как организация собственного «дела», труппы «Нидерландское сценическое объединение» (1912). Она тесно связана с политической эволюцией писателя, который постепенно все больше склоняется к прекраснодушию «христианского социализма».
Противоречия творчества Хейерманса проясняются в контексте современной ему борьбы художественных течений. Писатель испытал влияния и натурализма французской школы (роман «Город бриллиантов», драма «Дора Кремер» и др.), и символизма в духе Метерлинка (повесть «На крыльях», драмы «Исход», «Заря» и др.).
Но возобладали в его произведениях поры расцвета национальная традиция достоверного и любовного изображения среды и обычаев, демократическая близость к трудовому люду, реалистическая типизация характеров и обстоятельств. Не случаен интерес к Хейермансу в России начала века: кроме романов на русский переводятся и его драмы. Особый успех снискала «Добрая Надежда», неоднократно переведенная и поставленная на русской и советской сцене под названием «Гибель „Надежды“», (впервые – студией МХТ под руководством Л. Сулержицкого в 1913 г.).
Интерес к Хейермансу на родине Чехова и Горького имеет глубокие причины. Утверждая на сцене правду жизни, нидерландский драматург стал активным соучастником процесса обновления драмы, совершавшегося на рубеже столетий: перехода традиционной «драмы развития» в «драму ситуации», или «статическую драму» (термин Х. Метерлинка). Именно этим, а не подражательством объясняется типологическое сходство «Доброй Надежды» с «Ткачами» и «Столпами общества», «Исхода» – с «Вознесением Ганнеле», «Восходящего солнца» – с «Вишневым садом». Внутреннее действие завязывается, как правило, задолго до начала пьесы. Трагическая развязка не завершает его, а лишь подчеркивает перманентность ситуации (самоубийство Розы в «Гетто», смерть маленького Яна в «Исходе»).
«В социальных драмах Хейерманса превратная ситуация не дает видов на перемену к лучшему, и именно против этого направлен протест автора» (Э. де Йонг). Не Бос лично, который совсем не похож на «хищника», а вся капиталистическая система виновата в нищете и гибели рыбаков всех «Добрых Надежд» прошлого и будущего. В ряде случаев («Восходящее солнце», «Ева Бонэр») Хейерманс создает «статическую драму характеров», где допускает изменение обстоятельств как фон, акцентирующий постоянство убеждений и духовную значительность героя. Вневременной, статический характер драмы усиливается введением «вечных» понятий (море, земля), «непреходящей» народной мудрости (пословицы, приметы, сказочные мотивы), а также композиционными приемами (контраст ситуаций, их повтор в начале и в конце и др.).
Будучи одним из творцов реформы европейской драмы и театра, Хейерманс остался глубоко национальным и своеобразным художником. Рядом с Гауптманом, например, он кажется более непосредственным, конкретным, тенденциозным. Эти качества обогащены эпичностью его дарования, послужившей внутренним фактором его перехода в драме от динамического принципа структуры к статическому: внешним фактором, как полагают, было следование линии Чехова и Метерлинка». Нельзя, однако, упускать из виду и скрытой полемики Хейерманса с близкими ему драматургами (ср. «Звенья цепи» и «Перед заходом солнца» и др.), и открытого его влияния (ср., например, «Добрую Надежду» и «Скачущих к морю» Дж. Синга).
В известном смысле Хейерманс принадлежит к числу предшественников некоторых форм современной драмы.
НЕОРОМАНТИЗМ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ
Та же социальная атмосфера «эпохи полного господства и упадка буржуазии... подготовки и медленного собирания сил новым классом» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 143), которая определила поворот Гортера и Роланд-Холст от поэтического индивидуализма к рабочему движению, совсем по-иному сказалась на творческом пути Фредерика ван Эдена (1860—1932) и Альберта Вервея (1865—1937). Оба поэта тоже вышли из «восьмидесятников», были в числе основателей и редакторов «Нового Вожатого», увлекались философией Спинозы и романтиками. Эдена даже захватили идеи утопического социализма, приправленного толстовством, и он попытался реализовать их в основанной им, по примеру Г. Торо, колонии Уолден (1898—1907), над чем впоследствии (в драме «Земля обетованная», 1909) сам горько посмеялся. Его идейные искания, начавшиеся с увлечения немецким романтизмом и теософией, через «христианский социализм» приводят на склоне лет к католичеству.
В разноплановом творческом наследии Эдена преобладает религиозно-этическая тема предпочтения вечных ценностей скоропреходящим радостям бытия, преодоления или искупления земных соблазнов ради потустороннего блаженства.
Надреальная «материя» заставляет писателя прибегать к иносказанию, символике, абстракции. Таков, например, цикл его медитативных стихов «Песня о явлении и сути» (1895, 1910, 1922) – три книжки, написанные терцинами. В форме притчи, насыщенной сказочной фантастикой, создано и лучшее произведение Эдена – роман «Маленький Йоханнес» в трех частях (1887—1906), в котором Эден, находясь под обаянием «Странного ребенка» (из «Серапионовых братьев» Гофмана) и «Ваутера Питерсе» Мультатули, рисует картину формирования и взросления подростка. Лейтмотив «Маленького Йоханнеса» и его сказочное изложение подхватывает «Сириус и Сидериус», вызвавший восхищение Г. Гессе: этот трехчастный роман (1912—1924) в духе Жан-Поля уводит читателя еще дальше от действительности в горние сферы.
Но, углубляясь в тайники внутренней жизни, Эден доходит порой до клиницизма натуралистов, парапсихология заводит его в дебри психопатологии, как это произошло в романе «О ледяных водах смерти» (1900). Этический пафос Эдена всего органичнее соединен с ситуацией реальной жизни в стихотворных драмах, герои которых – выдающиеся личности, наделяемые чертами фаустовского типа: русский царь Петр («Братья, трагедия права», 1894), «добродетельная грешница» королева Лиоба («Лиоба, драма верности», 1897), мучимый совестью бургомистр Каусарт («Гарлемская ведьма», 1915). Если исторические драмы правдоподобны, но не достоверны, то «профетические» можно считать скорее достоверными – в той мере, в какой они автобиографичны, – чем правдоподобными. Образ пророка и раньше (в «Маленьком Йоханнесе») привлекал Эдена, исторический идеализм которого был чужд социальной пассивности, хотя и обречен, как его герои, самой реальностью, – вспомним снова «Землю обетованную».
Отношение к поэту как пророку, вынесенное из романтического культа «восьмидесятников», сближает с Эденом Вервея. Но его пророк не пастырь душ человеческих, как у Эдена, а проповедник жизни в органическом единстве многообразия, которое Вервей толкует в духе пантеизма Спинозы: так, жизнь и бог для него синонимы. «Что в боге именуется творением, то в человеке воображением», поэт служит рупором творящего начала, инструментом творческих сил природы. Дань почти языческого поклонения Природе и Красоте приносит он в сборниках «Персефона и другие стихи» (1885), «Земля» (1896), «Новый сад» (1898), цикле сонетов «О любви и дружбе». Прекрасное и жизнь для Вервея неразрывны – его социальная активность носит, таким образом, не столько этическую, как у Эдена, сколько эстетическую окраску. Несоответствие мечты и деяния – тот узел трагического конфликта его стихотворных драм, самые значительные из которых «Ян ван Олденбарневелт» (1895), о религиозно-политическом конфликте в Нидерландах в XVII столетии и «Якоба Баварская» (1902) – из истории гражданских войн так называемых «крючков» и «трески» в Нидерландах в XV в.
Политической борьбой своего времени поэт Вервей интересовался так же мало, как Вервей-критик – современной ему реалистической драмой или романом. В своем журнале «Движение» (1905—1919) он публикует множество эссе об отечественной и зарубежной поэзии, объединенных впоследствии в десять томов «Прозы». Высоко оценивая животворную роль традиции, Вервей пишет серьезные исследования о поэтическом творчестве ван дер Нота (1895), Вондела (1892, 1927), Спигела (1919), Потгитера (1903, 1908), читает лекции по истории нидерландской литературы с профессорской кафедры в Лейденском университете (1924—1935). Последним его вкладом в отечественную поэзию была подготовка полного собрания сочинений Вондела, завершенная незадолго до смерти.
В основных тенденциях литературного процесса XIX – начала XX в. можно увидеть зарождение главных направлений нидерландской литературы последующих десятилетий. Социалистическая поэзия предугадывает страстный характер антифашистской поэзии 40-х годов и «ангажированной» литературы последующего периода. Неудовлетворенные жизнью, презрительно отвернувшиеся от общества поэты и прозаики «герметического» толка уходят в этико-эстетические эмпирии, подобно бывшим «восьмидесятникам». Наконец, значительно число тех, кто ищет первопричину бед и несчастий человека в нем самом, его неизменной натуре, а если и считает человека жертвой социальных обстоятельств, то полагает их тоже вечными и неизменными.
Эту группу писателей можно условно объединить под эгидой психологического реализма, у истоков которого на рубеже веков стоят Эмантс и Куперус.
Марселлюс Эмантс (1848—1923), работавший много и в различных жанрах, словно бы перебрасывает мостик от романтизма XIX в. к реализму XX в. В молодости, как редактор своего журнала «Знамя» (1875—1880) и критик, а еще больше – как поэт, автор эпических поэм «Лилит» (1879) на смело переделанный библейский сюжет о прародительнице рода человеческого и «Сумерки богов» (1884) по мотивам «Старшей Эдды», Эмантс с романтической горячностью борется за свободу индивидуальности, силой духа и страстей сокрушающую буржуазные условности. Но уже здесь выражена и цель этого бунта: сбросив оковы предрассудков, докопаться до корней бытия. Не прекрасное, а «истина есть суть искусства»: абсолютным, «вечным законом природы» и жизни объявляется причинно-следственная связь.
Пройдя через влияние позитивизма Тэна, эстетики Золя, психологизма Тургенева (сохранилась их переписка), Эмантс выработал собственный, холодно-аналитический и экономный стиль, который отличает его романы «Посмертное признание» (1894), «Заблуждение» (1905), «Любовная жизнь» (1916) и др. В центре внимания автора – человек как продукт наследственности и общества, кризис семейных и любовных отношений, «пласты душевной жизни, обычно скрытые, но выходящие наружу в отклонениях от нормы». Эмантс стремится заглянуть не только в подсознание, уловить движение «низменных» инстинктов пола и т. д., но и в трансцендентальные сферы духа, однако взгляд его остается сумрачным – шопенгауэровский пессимизм был, по собственному признанию писателя, сердцевиной его убеждений. От ранних романтических драм о сильной личности, противопоставляющей себя массе («Юлиан Отступник», 1874; «Адольф ван Гелре», 1888), к «физиологическому очерку» жизни заурядного человека («Всесилие глупости», 1904; «Среди людей», 1916) – путь Эмантса как драматурга в общем тот же, что и у романиста.
Нидерландский реалистический роман конца XIX – начала XX в. достиг своей вершины и европейского признания в творчестве Луи Куперуса (1863—1923). Выходец из потомственной колониальной аристократии, он провел юные годы в Индонезии, впоследствии много путешествовал по странам Средиземноморья и Юго-Восточной Азии. Эти путешествия дали богатую жатву в виде многочисленных сборников малой прозы («Из белых городов под синим небом», 1912—1913; «Обо всем и о каждом», 1915, и многие другие), где журналист собирает материал и очиняет перо романисту.
Действительно, к античности и Востоку Куперус обращался всю свою творческую жизнь. В большинстве ранних романов на почерпнутые отсюда сюжеты («Мир над ойкуменой», 1894; «Психея», 1898; «Вавилон», 1901; «Дионис», 1903), свободно их интерпретируя, писатель создает сказочный, ирреальный мир образов. Но кроме изысканного стиля нельзя не заметить в них попытки выражения идей своего времени. Таково, например, предчувствие вполне реальной угрозы колониальному господству Нидерландов в Индонезии, которому положит конец восстание угнетенного народа. Название романа «Тайная сила» (1900), где оно высказано, получает пророческий смысл, хотя речь в романе идет о оккультных «тайнах» жителей Востока. В романе «Сыновья солнца», который скорее похож на лиро-эпическую поэму в прозе, Куперус облекает в оболочку античного мифа тревожащую его мысль о деградации человека (сыновья солнца превращаются в титанов, а те – в простых смертных) и кризисе нравственных ценностей (свет обратился в пламя, а пламя – в золото).
Эта мысль звучит лейтмотивом во всех произведениях гаагского цикла, начиная с «Элин Вер» (1889), романа из жизни столичной аристократии. Разорванность прежних духовных связей делает человека даже среди людей своего круга одиноким, вместо бога им управляет случай, трагический исход – самоубийство заглавной героини – становится закономерным. «Элин Вер» написана Куперусом под сильным влиянием «Анны Карениной», хотя последующие романы («Судьба», 1890; «Экстаз», 1892) уступают первенцу, и лишь дважды – в «Книгах малодушия» (1901—1903) и романе «О стариках и о том, что проходит» (1904) – Куперус, умудренный опытом, с немалой глубиной и мастерством раскрывает ущербную психологию того же верхнего общественного слоя, но теперь шире и обобщенней.
Перерождение человека, контраст между высокими устремлениями и низкими деяниями, как у римского императора Гелиогабала («Лучезарная гора», 1906), между внешним великолепием и внутренним убожеством («Геракл», 1913) или суетностью помыслов («Ксеркс, или Высокомерие», 1919; и особенно «Искандер», 1920, об азиатском походе Александра Македонского) – вот что волнует Куперуса, ищущего смысл жизни. «Под каждой легендой, мифом, под всей поэзией должна скрываться истина», – пишет он. Этот покров прозрачен в «Комедиантах» (1917), где писатель противопоставляет многоголосую и вольную уличную жизнь Рима его вырождающейся верхушке во главе с душевнобольным императором Домицианом, чья жестокость была подсказана автору бессмысленным кровопролитием первой мировой войны. Но чаще истина вуалируется идеей рока, обреченности злу, созвучной и догме предопределения (Купере был кальвинистом), и натуралистской концепции судьбы. Самый яркий пример – Геракл, античный «гомо универсалис», обреченный на вырождение и муки «трагической виной» предков.
Однако было бы, вероятно, еще неуместней,
чем Эмантса, целиком причислять Куперуса к натурализму. Отмеченное (в разной мере) элементами натуралистической эстетики, творчество обоих выдающихся прозаиков, как бы различны они ни были, дало нидерландской литературе немало художественных открытий, расширило ее арсенал социально-критического и психологического исследования жизни, обогатило традиции реализма, открыв простор соперникам, сподвижникам и последователям.
За три неполных десятилетия, с 1890 по 1918 г., в немецкой литературе произошли качественные изменения. Реализм Теодора Фонтане и Вильгельма Раабе еще представлял на излете прошлого столетия мир упорядоченным. Но почти одновременно появляются произведения, создатели которых увидели в той же действительности конец, слом, приближение катастрофических перемен. Новое мироощущение изменило строй литературы – рождалась словесность XX в. Новое было разительно не похоже на старое.
Литература 90—900-х годов отличалась крайней пестротой и многообразием. Некоторые дебютанты предпочитали придерживаться традиционных форм (Я. Вассерман, Л. Тома и др.). Но одновременно громко заявляли о себе нереалистические течения, порой обладавшие четкой программой или так и остававшиеся художественной идеей, недолговечным поветрием. В пестроте этой было, однако, свое единство: литература стояла перед задачей постижения кардинально менявшейся действительности.
Симптоматичным для 90—900-х годов был декаденс. Декадентское мироощущение проявлялось по-разному и получало разные названия: литература «рубежа веков» или «конца века» (fin de siècle), применительно к изобразительным искусствам – модерн, югендштиль. С декадансом соприкасались неоромантизм и неоклассицизм. И все же это был вполне определенный идеологический и художественный комплекс. Чувство конца оборачивалось в декадансе пресыщенностью. Воля и разум человека казались ненадежными и бессильными.
Антидекадентским по своим главным художественным устремлениям был экспрессионизм. Пассивности декаданса в экспрессионизме противостоит энергия художественной мысли, пытавшейся своими особыми средствами обнажить закономерности жизни. Современность была воспринята экспрессионистами не только как конец, но и как начало. Ни одно другое авангардистское течение в литературах Европы и Америки не может сравниться с немецким экспрессионизмом по своему активному отношению к действительности, ни одно не оказало столь значительного влияния на дальнейшее развитие национальной культуры.
Существенно в литературе этого времени постепенное созревание нового качества реализма. Для Германии этот процесс был тем более важен, что в предыдущие десятилетия реализм не добился тут успехов мирового значения. Реалистическая литература стремилась осознать «конец эпохи» в его причинных связях. Г. Гауптман, Г. и Т. Манны дали в своем творчестве глубокую интерпретацию слома старого мира и надвигающихся перемен. Однако главные свои победы реализм одержал в следующий период. Новая его поэтика, блестящим образцом которой в творчестве Г. Манна в эти годы стал «Верноподданный», а у Т. Манна не столько написанный в старых традициях роман «Будденброки», сколько новелла «Смерть в Венеции», – эта поэтика только формировалась.
*Глава седьмая*
НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПОСТНАТУРАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
В 90-е годы во всех областях жизни сказывалась возросшая активность германского империализма. В конце XIX – начале XX в. Германия перегнала в экономическом отношении доселе лидировавшую Англию. Все яснее обозначается экспансионизм германской внешней политики. Культ слепого подчинения силе соединяется с прославлением немецкой нации, призванной отвоевать себе «место под солнцем». В социал-демократическом рабочем движении усилились вместе с тем умеренные и ревизионистские тенденции. Иссякло бунтарство интеллигенции. Экспансионистские пангерманистские амбиции находят косвенное отражение в прославлении волюнтаризма, вседозволенности, гедонизма.
На недолгий срок установилось видимое спокойствие, «непроходимое благополучие», как с иронией определил впоследствии характерное мироощущение тех лет Т. Манн. Миллионы немцев видели своего кумира в восшедшем в 1888 г. на престол императоре Вильгельме II.
Однако это спокойствие было зыбким и ненадежным.
Крупные успехи науки не укрепили в среде художественной интеллигенции веры в силу знания. Именно теперь широкое внимание привлекает философия Ницше, он, а позднее З. Фрейд формируют представление об огромной мощи иррационального, бессознательного начала. В книгах Ницше история человечества начиная с античности («Рождение трагедии из духа музыки», 1872) трактовалась как торжество необузданных дионисийских инстинктов.

Г. Гауптман. «Ткачи»
Литография Эмиля Орлика. 1897 г.
Другой стороной тогдашнего мироощущения было питавшееся реальностью, подтвержденное предвидением Ницше чувство исчерпанности эпохи, приближения слома. На этой почве рождался скепсис по отношению ко всем еще недавно казавшимся незыблемыми институтам и представлениям (морали, нравственности, религии, вере в прогресс). Характерны для тогдашней интеллектуальной атмосферы и сомнения в подлинности реального вообще. Вниманием пользуются новейшие субъективно-идеалистические теории. Многим писателям этой поры близка философия Маха («Анализ ощущений», 1886), подвергнутая В. И. Лениным критическому разбору в книге «Материализм и эмпириокритицизм». Заметное влияние приобретают философия Г. Зиммеля, феноменология Э. Гуссерля, интуитивизм А. Бергсона. Оформляется неокантианство во главе с Г. Когеном.
Самой заметной приметой нового художественного этапа становится постепенный отход многих писателей от натурализма. Герхарт Гауптман (1862—1946) после пьес «Перед восходом солнца» (1889) и «Ткачей» (1892) пишет «Вознесение Ганнеле» (1894), где натуралистический план (страшная жизнь обитателей ночлежки) совмещается с грезами умирающей девочки о загробном блаженстве, и символистскую пьесу-сказку «Потонувший колокол» (1896). Один из основоположников и теоретиков немецкого натурализма Иоганнес Шлаф (совместно с Арно Хольцем им созданы такие показательные для натуралистической эстетики произведения, как «Папа Гамлет» и «Семейство Зелике») отдает дань импрессионистической прозе. Для немецкой литературы натурализм сохранил свое значение на годы и десятилетия. И дело не только в том, что, к примеру, в реалистических пьесах Гауптмана 900—10-х годов («Михаэль Крамер», 1900; «Крысы», 1911) сказался натуралистический опыт. Для немецкой литературы, традиционно склонной к высокой абстрактности и философичности, особенно ценно было широкое освоение современной социальной и бытовой реальности. Этой стороне натуралистической литературы, так же как небывалой резкости изображения отдавали должное крупнейшие писатели XX в. Когда Брехт создавал свою «Мамашу Кураж», перед ним уже была гауптмановская расчетливая и смелая Вольфиха из «Бобровой шубы» (1893). Альфред Деблин писал о неисчерпанности натурализма для немецкого романа.
Однако на рубеже XX в. проблема рассматривалась с другой стороны. Протест вызывала главная концепция натурализма: человек был показан в полной, детально исследованной зависимости от мира (среда, наследственность). Критика от имени тогдашних читателей требовала, чтобы литература выдвинула активных героев.
Персонажи литературы, поднявшейся на волне отрицания натурализма, не отличались подвижничеством. Однако их выделяли подававшиеся как достоинство индивидуализм и даже странность, частным случаем которой казалась болезнь. Человеческая судьба представлялась загадочной. Поэтому не признавался тщательный анализ причинности, которым был одержим натурализм. Если в драме «Перед восходом солнца», по-ученически отвечавшей канонам натурализма, Гауптман занял четыре действия обоснованием главного драматического события – разрыва героя со своей отягощенной наследственностью невестой, то теперь в мотивировках не нуждались. Провозглашался лозунг «Долой Гауптмана!». Так была озаглавлена вышедшая в 1900 г. книжка театрального критика Г. Ландсберга, главной идеей которой было освобождение искусства от тяготевших над ним научных методов. Тайна действительности должна была познаваться интуитивно и «художественно». «Мы идеалисты, индивидуалисты, романтики!» – провозглашал автор от лица всей посленатуралистической литературы.

Герхарт Гауптман
Фотография 1930-х годов
Натуралистическая драматургия отбросила монолог, считая его нарушением правдоподобия. Та же забота о достоверности побуждала натуралистов вести борьбу против распространенной в Германии исторической пьесы, уводившей театр от современности. На рубеже веков сомнение в достоверном усугубляется. В 900-х годах публикуется ряд статей на театральные темы, высказывающих недоверие к сценическому слову вообще. Огромное значение придавалось подтексту. Паузы, которые умело расставляли драматурги-натуралисты (следующее поколение видело в этом не искусство, а лишь уподобление жизни), стали теперь распространенным драматургическим приемом.
В значительной своей части литература показывала человека исключительно изнутри. Всякий поступок, событие обусловливались не внешней жизнью, а изменчивостью внутреннего состояния.
Искусство будто не замечало устойчивых форм действительности. Предметы и люди воспринимались в бесконечной переменчивости, переливах, подобных той изогнутой, льющейся линии, которая преобладала на полотнах югендштиля, воплотившего то же мироощущение в живописи (Ф. фон Штук, Л. фон Гофман) или в графике молодого П. Беренса и англичанина О. Бердслея. Огромное значение приобретает орнамент, составленный из всякого рода растительных мотивов. Человек будто бы не знает границ, отделяющих его от природного мира.

К. Кольвиц. Конец
1900 г.
«Здесь, окруженные шелковой бахромой, переплелись люди, растения и животные», – писал Ст. Георге в стихотворении «Ковер» из сборника «Ковер жизни» (1899).
Даже в прикладном искусстве, в интерьере господствовала двузначность: каждый предмет маскировал свое подлинное назначение – нож для масла получал форму турецкого кинжала, рыцарский шлем оказывался пепельницей, барометр стыдливо прятался в футляр миниатюрного контрабаса. Как отмечал историк культуры Э. Фридель, это была эпоха «принципиальной подмены материала»: крашеная жесть выдавала себя за мрамор, папье-маше – за розовое дерево, гипс – за блестящий алебастр, стекло – за изысканный оникс.
Писатели облачали своих героев в костюмы других культурных эпох. Как на картинах русских художников «Мира искусства», в немецкой литературе возникают сценки из «галантного» XVIII в. – этого, по выражению С. Георге, «резвящегося столетия» (стихотворение «Маска»). Однако привлекали и другие времена – стилизованные античность, средневековье, поздний Ренессанс, эпоха романтизма, как и дальние края, экзотические страны (на рубеже веков вновь разгорелся интерес к Дальнему Востоку – Японии, Индии, Китаю). Сама форма и стиль этой литературы, так же как соответствующий стиль жизни, свидетельствовали об отсутствии твердых ориентиров, о временном равнодушии к социальным проблемам, еще так недавно занимавшим натуралистов.
Но зыбкость и неустойчивость в литературе были и точной реакцией на неустойчивость жизни.
НЕОРОМАНТИЗМ И НЕОКЛАССИЦИЗМ
Показательным для состояния литературы было возникновение двух разных художественных концепций, ориентировавшихся на романтизм и античность (в ином варианте – на классицизм). Интерес к прошлому был сам по себе знаменателен: прошедшие эпохи должны были стать заимодавцами общезначимых идей, которых писатели не обнаруживали в современности.
С неоромантизмом в Германии связано творчество Р. Хух 90—900-х годов, некоторые пьесы Г. Гауптмана, а также Э. Хардта, К. Фольмеллера, произведения молодого Г. Гессе, ранние романы Я. Вассермана и Б. Келлермана, поэзия П. Шеербарта, М. Даутендея и др.
Объединяющим «романтическим» началом был отказ от исповедуемого натурализмом отражения современной действительности в ее конкретных формах. Переживаниям героев обычно придавалось особое метафизическое значение. Человек существовал в состоянии постоянного нервного возбуждения, охваченный тоской по приоткрывшимся ему иным, нездешним мирам. Как говорилось о молодой героине в ранней новелле Хух «Хадувиг в монастырской галерее» (1897), «с ней то и дело случались самые невероятные происшествия, что-нибудь такое, что никак не вписывается в наш земной зримый мир, где все имеет свои разумные причины». Душа человека будто мучительно разрывалась между двумя правдами – правдой земного и иного, неземного существования. Мистическое значение получала порой сама полнота земного существования: земное, чувственное, внедуховное, «жизнь» становились – в развитии идей, идущих от Ницше и его последователей, – высшим и единственным воплощением смысла существования. Привычное получало непривычную многозначительность. Формой, характерной не только для немецкой, но и для всей европейской литературы, становится фрагмент, оставляющий просторы невысказанному, дающий возможность наметить, но не закончить картину, намекнуть на целое, мерцающее за частностью. Мастером фрагмента в Германии был Петер Хилле (1854—1904), представитель нарождавшейся богемы.
Неоромантическая окрашенность получала, однако, неодинаковое значение в творчестве разных писателей. Показательным примером может служить творчество Рикарды Хух (1864—1947). На рубеже веков она писала новеллы и романы, героям которых свойственны многие неоромантические черты – исключительность, гениальность, «дар божий» (новелла «Фра Челесте», 1899) и в то же время болезненность, утонченность, отдаленность от реальной жизни. В принесшем ей широкую известность романе «Воспоминания Лудольфа Урслея младшего» (1893) писательница изображает патрицианский род ганзейского города, представители которого считают главным содержанием жизни красоту и радость. Отнюдь не наделяя своих героев свойствами сверхчеловека, романистка с симпатией описывает их стремление жить по собственным высоким законам, не подчиняясь обыденности. Противоречащие друг другу истины уживаются в душе героя наиболее известной новеллы Хух «Фра Челесте»: священник, с необычайным вдохновением проповедующий отказ от земных благ и смирение, втайне любит одарившую его ответным чувством женщину, и эта любовь, ее «песня», кажется ему столь же значительной, как религия. Рикарда Хух не упивалась, однако, подобно многим своим современникам, относительностью истины и глубочайшей противоречивостью человека. Гораздо точнее было бы сказать, что она их констатировала. Писательнице – образованнейшему историку и филологу – принадлежит двухтомное исследование «Расцвет романтизма» (1899) и «Распространение и упадок романтизма» (1902). В этом труде она, вслед за литературоведом Оскаром Вальцелем, подчеркивает веру ранних немецких романтиков в разум, их интеллектуализм, впоследствии сменившийся мистикой. В художественном творчестве Хух эти идеи нашли отражение в дистанцированности нарисованной ею картины. В ее новеллах часто появляется рассказчик, посредник между героями и автором, оставляющий писательнице простор для отстранения и иронии. Язык Хух отмечен благородной простотой, свидетельствующей о глубине ее связей с немецкой классикой. В литературе рубежа веков стилю Хух был ближе всего стиль Томаса Манна и прозы австрийца Гуго фон Гофмансталя.








