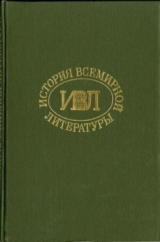
Текст книги "История всемирной литературы Т.8"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 101 страниц)
Отношения новой русской поэзии к западной не сводились к заимствованиям, как полагала тогдашняя критика (Н. Михайловский, И. Игнатов и др.). Символизм на Западе и в России возникал как следствие одноприродных процессов в общественном сознании конца века; разочарование в эмпирико-рационалистическом подходе к миру, в «позитивном» знании и приземленном «жизнеподобном» искусстве, поиски «тайны» бытия, его «мистической правды», утверждение новых ценностей за пределами господствующей морали и общепринятых вкусов.
Настроения упадка, окрасившие символистское творчество на Западе и в России, во многом объяснялись подобием социально-политической ситуации. «...Если б в Париже в восьмидесятых годах дрались на баррикадах, – в девяностом году декадентов не было бы», – писал Горький. Подпочвой русского декадентства явились годы победоносцевской реакции, когда, по словам Блока, «в сердцах царили сон и мгла». Поэзия 80-х годов, в русле которой начинали многие символисты, была проникнута переживаниями безвременья. «Болевое» состояние иных умов и душ создавало восприимчивость к веяниям упадка. Они проявятся двояко: то меланхолия, чувство тупика, обессиливающий пессимизм, то «компенсаторные» мотивы бурного жизнелюбия, жажда «дерзновений» за пределы общепринятого, проповедь эгоизма, имморализма. Черты декадентского мировосприятия были присущи не одним «эстетам» – Брюсову, Сологубу, Бальмонту, Лохвицкой, Анненскому, но и адептам мистического символизма – Мережковскому, З. Гиппиус, Минскому.

З. Н. Гиппиус
Портрет работы Л. С. Бакста. 1906 г.
В начале 90-х годов преобладали настроения декадентского «сплина». Мотив «томления» в земной юдоли пронизывает элегии Сологуба. Сетования на скуку бытия с его «бессмысленным мученьем», «томительной игрой» часты в поэзии Минского, Мережковского. Лирического героя Бальмонта пугает житейская «трясина», что «заманит, сомнет, засосет». Веря тому, что «В беспредельности пространства где-то есть земля иная», герой Сологуба не видит пути к ней. Если в революционно-романтическом сознании жил «порыв к возможному» (Н. Берковский), то пассивный романтик, осознавая недостижимость «запредельной» цели, идеализировал невоплотимость идеала. «Мне нужно то, чего нет на свете», – писала З. Гиппиус.
Выступившие на грани двух эпох, русские неоромантики 90-х годов осознавали себя «детьми рубежа». Их лиризм питали противоречивые «предрассветные» настроения. «Я в сумерки веков рожден, когда вокруг // С зарей пугливою боролись ночи тени», – писал Минский. Его герой тот, кто «жаждал веровать, безверием томим» («Над могилой Гаршина», 1896). Для Мережковского люди его поколения и среды – это тщетно ждущие утра «дети ночи»: «Умирая, мы тоскуем // О несозданных мирах, // Мы неведомое чуем....»
В первых сборниках Бальмонта и Брюсова, в стихах Сологуба, Мережковского, Минского, З. Гиппиус, в лирике юного Блока, составившей позже цикл «Ante lucem», присутствовал весь спектр чувствований романтика-идеалиста: отречение от «здешнего» ради «горнего», максималистское понимание свободы, культ искусства и художника-избранника, устремленного к «вечному». Но побеги новой поэзии от давнего романтического корня оказывались нередко болезненными, надломленными. «Пламенный протест... против мещанского безличия» (М. Горький о Байроне) оборачивался эпатирующим аморализмом, поэтизацией «греха»; «мировая скорбь» мельчала до слепого ужаса перед жизнью и славословий «смерти-избавительнице»:
Жизнь утомила меня,
Смерть, наклонись надо мной!
В небе – предчувствие дня,
Сумрак бледнеет ночной,
Смерть, убаюкай меня! —
восклицал Бальмонт.
Сердце чарует мне смерть
Неизреченною сладостью, —
уверял Мережковский. Возникала та «поэтизация ущерба» (Е. Тагер), которая стала отличительным признаком декадентского жизнечувствования и декадентского лиризма.
Наибольшую деформацию претерпела при этом проблема индивидуума, бывшая осевой для романтизма с его «апофеозой личности» (Тургенев). Индивидуализм мятежных романтиков как бунт против царящего зла и тех, кто склонился перед ним, терял у неоромантиков конца века освободительный пафос, вырождался в эгоцентризм. Культ «я» вел к разрыву социальных связей, к отказу от общественного служения.
Во времена декадентского Sturm und Drang’а в России 90-х годов декларации «разобществленной» личности звучали особенно вызывающе. Знаменателен пример Минского. В 70-е годы он – участник изданий «Народной воли», автор политических стихов, ходивших в списках. В конце 80-х – индивидуалист, звавший интеллигенцию освободиться от привязанности к «колесу народолюбия». Ревизуя свои недавние убеждения в книге «При свете совести» (1890), Минский выступил против социального долга, отстаивал всевластие «я». В позу гордого одиночки становился лирический герой Бальмонта:
Людей родных мне далеко страданье,
Чужда мне вся земля с борьбой своей...
Брюсов в 1896 г. напутствовал юного поэта:
...никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби беспредельно.
«Люблю я себя, как Бога», – заявляла З. Гиппиус («Посвящение», 1894).
Характерны образы «башни», «пустыни», «кельи», «скита» – эмблемы уединения художника, отрешенного от земного («В башне с стеклами цветными // Я замкнулся навсегда...» – Бальмонт; «Окно мое высоко над землею... // Я вижу только небо с вечернею зарею...» – З. Гиппиус). Идеи элитарности творчества варьировал Бальмонт в сборнике статей «Горные вершины», переосмыслив в его заглавии метафору Гёте—Лермонтова. «Царство белого снега» в начальных строфах сборника Брюсова «Me eum esse» («Это – Я», 1897) – характерный образ бесстрастия художника и его созданий:
А я всегда, неизменно,
Молюсь неземной красоте;
Я чужд тревогам вселенной,
Отдавшись холодной мечте.
Образы «слепых» небес, «вечно закрытых дверей», житейской «пыли» в стихотворениях Гиппиус «Песня», «Крик», «Пыль», «Цветы ночи» воссоздавали круг депрессивных эмоций «разобществленной» личности конца века.
Душевную усталость поколения, формировавшегося в условиях общественного застоя, впечатляюще выразил талантливый поэт и прозаик Федор Кузьмич Сологуб (1863—1927). В его выстраданных лирических признаниях «декадентская надломленность встает уже как объект изображения», «свидетельствует о себе» (Е. Тагер). «Тяжелые сны» жизни (так назвал Сологуб свой первый роман, 1896), ее обманы и мо́роки, блужданье в лабиринте бытия без «ариадниной нити» идеала – таковы главные мотивы его музы. Неприятие зла и кривды в мире, где «человек человеку дьявол», сочувствие обездоленным (из их среды вышел и он сам) переплелись у Сологуба с настроениями фатализма; возникли образы роковых сил бытия («лиха», «недоли»), знаки его абсурдности, пугающей нелепицы («недотыкомка»). Тягостное ощущение «земного плена» рождало мотив смерти-отрады. Благо небытия как отрицания «злой воли к жизни» (Волынский назвал Сологуба «подвальным Шопенгауэром») – сквозная тема сологубовской лирики. «О, смерть! я твой. Повсюду вижу // Одну тебя, – и ненавижу // Очарования земли», – говорилось в стихотворении 1894 г.; такие признания постоянно звучали у Сологуба; ценой гибели достигалась даже сказочная Ойле, «страна любви и мира» (цикл «Звезда Маир», 1898). В известном стихотворении «Чертовы качели» (1907) они – эмблема человеческого существования с его заданной дьяволом маятой и роковой неизбежностью конца:
Я знаю, черт не бросит
Стремительной доски,
Пока меня не скосит
Грозящий взмах руки,
Пока не перетрется,
Крутяся, конопля,
Пока не подвернется
Ко мне моя земля...
Стабильность подобных переживаний подтвердит один из итоговых сборников Сологуба «Пламенный круг» (1908), вобравший стихотворения 90—900-х годов. Отмеченная высоким поэтическим мастерством, эта книга даст своего рода «пессимистическую систему взглядов поэта на мир и человека» (М. Дикман). Эстетику Сологуба определяла идея романтического двоемирия. Художника он сравнивал с Дон Кихотом, чье ви́дение преображает грубую Альдонсу-жизнь в прекрасную Дульсинею искусства. Этот девиз «творимой легенды» Сологуб вынесет и в заглавие своей романной трилогии 1907—1909 гг. с ее крайним произволом в смешении реального и фантастического. Экзистенциальный смысл лиризма Сологуба и некоторые созданные им формы отзовутся в последующей модернистской литературе.
Более многострунным было творчество другого зачинателя русского символизма, Константина Дмитриевича Бальмонта (1867—1942). Декадентство стало для него на рубеже веков и позицией и позой. Подобно французским «про́клятым поэтам», Бальмонт эпатировал обывателя эксцентричными выходками, старался подражать «безумствам» Э. По, Бодлера, Верлена. В отличие от Сологуба и Гиппиус, этих «певцов своей печали», Бальмонт выразил в своей лирике обе стороны декадентского жизнечувствования – депрессивную и бравурную. Первая сказалась в его ранних книгах; другая – в славословиях эгоизму, имморализму в стихотворениях конца 90-х годов (вошли в сборник «Горящие здания», 1900).
В индивидуалистических декларациях первых символистов слышались отзвуки ницшеанства. Увлечение Ницше развивалось тогда в русском сознании на разных уровнях – от ученых статей в журнале «Вопросы философии и психологии» до упрощенных перепевов ницшеанства в массовой беллетристике. В духе социологии и этики Ницше символисты ополчались против буржуазности и материализма, якобы равно обедняющих личность. Залогом ее цельности виделся разрыв с общепринятой моралью, способность стать «по ту сторону добра и зла». Тона ницшеанства интенсивно окрашивали «лирику современной души» в русской символистской поэзии и прозе с середины 90-х годов – у Брюсова, Сологуба, Мережковского, Минского. В одежды ницшеанского имморалиста охотно рядился лирический герой Бальмонта: «Все равно мне, человек // Плох или хорош, // Все равно мне, говорит // Правду или ложь». Свое новое кредо поэт заявлял «кинжальными словами»:
Я хочу порвать лазурь
Успокоенных мечтаний.
Я хочу горящих зданий,
Я хочу кричащих бурь!
В стихах «Горящих зданий» присутствовал весь набор декадентских клише: относительность добра и зла, их роковое двуединство («В душах есть всё», «Полночь и свет»), любовь-ненависть («Я сбросил ее с высоты»), гимны жестокой силе («Скорпион», «Морской разбойник», «Скифы»); в стихотворении «Я люблю далекий след – от весла» Бальмонт, эпатируя общепринятые моральные нормы, назвал своим «братом»... Нерона, сжегшего Рим. Но подобными мотивами даже в ту пору смысл лирики Бальмонта далеко не исчерпывался. В 1900 г. были написаны «Придорожные травы» с их сочувствием «обделенным» на празднике жизни. А в «Молитве о жертве» (из «Горящих зданий») поэт завидовал «расчетвертованной березе», которая, сгорая, служит людям. Не случайно Горький, Брюсов, Анненский воспринимали эгоизм и имморализм Бальмонта, автора поэмы «Художник-дьявол», как маскарадный. Но сам выбор «ветроподобным» лирическим героем Бальмонта инфернальной маски был неслучаен.
Чертами ницшеанского «сверхчеловека» наделил Мережковский в своей трилогии римского императора Юлиана, Леонардо да Винчи, Петра I. К свободе от моральных норм стремился герой романа Сологуба «Тяжелые сны» учитель Логин; совершив убийство, он испытал радость «дерзновения».
В 1892 г., когда Мережковский заявил в своей лекции о возникновении нового течения, он был полководцем без армии. Но вскоре положение изменилось. Помимо «Русских символистов», «Me eum esse» Брюсова, упомянутого выше сборника А. Добролюбова появилось множество изданий новой поэзии; среди них – «Chefs d’oeuvre» («Шедевры», 1895) Брюсова, три книги стихов Бальмонта («Под северным небом», 1894; «В безбрежности», 1895; «Тишина», 1898), «Новые стихотворения» (1896) Мережковского и «Стихи» (1896) Сологуба. Существование символизма в русской литературе стало фактом. Параллельно развивались символистские искания в русской живописи (Врубель, Нестеров, Борисов-Мусатов, Рерих), музыке (Скрябин). Проводником модернистских веяний в художественной культуре рубежа веков стал журнал «Мир искусства» и его выставки, организованные С. Дягилевым. Литературный отдел журнала направляли Мережковский, З. Гиппиус и близкий к ним публицист Д. Философов; здесь печатались также Брюсов, Бальмонт, Сологуб, молодой Белый. Вместе с тем в 1902 г. в «Мире искусства» выступит с работой «Достоевский и Ницше. Философия трагедии» Л. Шестов, в философской прозе которого заявит о себе формирующийся русский экзистенциализм.
В 1896 г. Горький отметил, что публика «жадно читает и смотрит» произведения символистов. Пресса всех направлений встретила новое искусство градом насмешек и пародий. Неприемлемыми были необычность формы, скандализовавшая привычный вкус, и черты декадентства в содержании. (Притчей во языцех было тогда, например, однострочное стихотворение Брюсова «О, закрой свои бледные ноги!».) В статье «Еще о символистах» (1895) Вл. Соловьев зло и метко пародировал Брюсова, Бальмонта и их подражателей, высмеивал перенасыщенность нового стиха тропами, звукописью, экзотической лексикой. Одна из пародий Вл. Соловьева кончалась так: «Мандрагоры имманентные // Зашуршали в камышах, // А шершаво-декадентные // Вирши в вянущих ушах».
Многие современники видели в символистском творчестве черты душевной патологии; так думали и Л. Толстой, Репин, Стасов, Н. Михайловский. Фельетонисты изощрялись в нападках на обитателей «символистского Бедлама». Как симптом «вырождения» оценил новое искусство австрийский врач М. Нордау в одноименной книге, ставшей популярной в России 90-х годов; о «дегенератизме» в литературе говорили тогда и русские психиатры Г. Россолимо, Н. Баженов. Недооценивалось «игровое» начало, присущее модернистскому творчеству, «поза» и «фраза» декадентских деклараций, то стремление озадачить, ошарашить буржуа, которое шло от бутад ранних романтиков, а через десятилетие повторится в футуристическом «бунте». Примечательно, что Чехов не принял версии о психопатологизме приверженцев новой поэзии, называл декадентов «здоровыми мужиками». Протесту против обветшалых эстетических форм Чехов сочувствовал. В центр «Чайки», начатой в 1895 г., он хотел поставить конфликт между приверженцами «новой красоты» и рутинерами в искусстве (З. Паперный).
Восприятие символизма и декадентства Горьким было неоднозначно. Известны его отрицательные суждения 90-х годов о «недоступной» массам живописи Врубеля, Галлена, о «нервозно-болезненных стихах» З. Гиппиус, Бальмонта, Мережковского. Но в статье «Стихи К. Бальмонта и В. Брюсова» (1900) Горький предостерег от односторонне отрицательной их оценки, счел «очень значительным» брюсовское «Сказание о разбойнике», писал о «музыке стиха» Бальмонта. Объективный анализ декадентства и его социально-психологических причин был дан в горьковских статьях «Еще поэт» (о Сологубе) и «Поль Верлен и декаденты» (обе 1896 г.). Предыстория декадентства, по Горькому, – в антибуржуазном протесте романтиков: они «задыхались» в атмосфере меркантилизма и умирали «с оскорбленной душой»; таков трагический Бодлер, обличитель буржуазного мира, ждавший его гибели. Декаденты стали «розгами» породившего их общества, «мстителями ему». Но их бунт в условиях общественной депрессии был подточен ее ядами – анархическим всеотрицанием, имморализмом. Лучшие из декадентов – «люди с действительными талантами», «с глубокой тоской в сердце», «взыскующие града». Однако их доминанта – «бессильный порыв», отсутствие идейных «камертонов»; отсюда искание «точки опоры» в мистицизме.
Противоречия декадентского сознания проявились у русских символистов особенно драматично. Для них, детей безвременья, ставших современниками революционной эпохи, существенным оказалось не только погружение в стихию упадка, но и процесс его преодоления, освобождения «тайника души» от «плесени» эгоцентризма и скепсиса (как скажет впоследствии Блок). Именно эта положительная динамика определила судьбы течения на русской почве и пути лучших его представителей.
Ноты декадентской «самокритики» ощущались уже у героя раннесимволистской лирики: он то упоен своей обособленностью, то удручен ею: «Одиночество – общий удел... // И оно тебе ад создает, // И не рад ты, и рад ты ему...» (Сологуб).
Брюсова, певца героического одиночки, тяготило бремя разобщенности: «И нет никого на земле // С ласкающим, горестным взглядом, // Кто б в этой томительной мгле // Томился и мучился рядом».
А в брюсовской брошюре «О искусстве» (1899) неожиданно выдвигалась его коммуникативная роль; поэт заявлял, что искусство дает «счастье единения людей», и соглашался с подобными воззрениями Л. Толстого.
Эстетическому пути преодоления индивидуализма у Брюсова противостояли идеи религиозной интеграции, к которой звали Мережковский и З. Гиппиус. Драму одиночества «бездонного, безгранного», роковую замкнутость человека «в своей щели» Гиппиус стремилась преодолеть, уйдя за «ограду» веры. «Молотом» христианской любви к людям пытается поэтесса разбить «стекло» между собой и ими. Но даже молитвословное в ее лирике было пронизано нотами декадентского скепсиса, разочарования в «пустой пустыне небес» («Только о себе», «Не знаю», «Пауки» и др.). Сознание своей подвластности упадку и попытка сопротивления ему – эта контроверза подсказала Гиппиус ее наиболее выразительные строфы. Тот «кризис индивидуализма», который символистские теоретики отметят в 1905—1906 гг., подспудно присутствовал уже в противоречивом сознании «поэтов рубежа».
Тяготения крайне субъективного поэтического «я» к реальному и общезначимому определили суть лиризма Иннокентия Федоровича Анненского (1855—1909). В его искусстве переплелись воздействия французского символизма и заветы русской гражданственности; погруженный в себя эстет и интеллигент «гаршинской» складки – два лика Анненского. Он признавался, что ему близка «мопассановская» драма современного человека, который «не ищет одиночества, а, напротив, боится его» и хочет творчески «впитать» реальное. Состояние лирического «я» у Анненского было многообразно связано с «не-я»; в его поэтике это дало «овеществленность» переживания: знаками душевной жизни стали реалии предметного мира (Л. Гинзбург). Вразрез с традицией, они нередко почерпнуты из будничного городского обихода. Старая шарманка, будильник, выдохшийся воздушный шарик – таковы эмблемы человеческих судеб и чувств у Анненского, чье внимание к «малым вещам» подобно отношению к ним в поэзии Рильке (Г. Ратгауз).

Ф. Сологуб
Портрет работы К. Сомова. 1910 г.
Стихи Анненского 90—900-х годов увидели свет со значительным опозданием (сб. «Тихие песни», 1904, и «Кипарисовый ларец», 1910, – посмертно). Преобладавший в них тип ассоциативной символизации в духе «соответствий» Бодлера и экзистенциальный смысл лиризма Анненского, устремленного к драме человеческого удела с его фатальной неотвратимостью конца, покажутся устаревшими теоретикам мистического символизма второго призыва с их широкими «жизнестроительными» задачами. Разноречие с младосимволистами сказалось и в «античных» драмах Анненского («Меланиппа-философ», 1901; «Царь Иксион», 1902; «Лаодамия» и «Фамира-кифарэд», обе 1906), их автор остался верен лирико-психологической интерпретации мифа и антииерархической поэтике.
Анненскому-психологу был дорог опыт русского реализма в исследовании душевной диалектики, глубинных эмоций. Свои поэтические циклы он строил как триптихи и диптихи («трилистники» и «складни»); названное в их заглавиях переживание («Трилистник тоски», «Трилистник проклятия», «Две любви») здесь раскрывалось с разных сторон. Для этики Анненского, стремившегося, как скажет о долге истинного поэта М. Цветаева, «в свою боль включать всю чужую», был весьма существен социальный гуманизм русской литературы. Ему близка гоголевская защита «маленького человека», лиризм «тревожной совести» в духе Достоевского (стихи «В дороге», «Картинка», «Старые эстонки»; критическая проза двух «Книг отражений», 1906, 1909). Впечатляюще выразил поэт чеховскую тему «одури» будней, гаснущих порывов, загубленных жизней («Кулачишка», «Квадратные окошки», «Март» и др.), хотя творчество Чехова Анненский необоснованно третировал как бескрылое бытописательство. Пример Анненского, стремившегося преодолеть субъективизм и замкнутость, утверждавшего социальную роль искусства, важен для понимания неоднозначности путей русских символистов. Свою близость к внутреннему опыту Анненского отметит Блок.

Л. С. Бакст.
Заставка для журнала «Мир искусства».
К стихотворению К. Д. Бальмонта «Предопределение» 1901 г.
Преобладающей стилевой сферой Анненского был импрессионизм. Впечатления реальности оказывались внешним слоем образного целого, эквивалентами душевных состояний лирического «я». Отталкиваясь от прямого параллелизма физического и психического в устной поэзии и от традиционного «пейзажа души», поэт стремился всячески утончить связи внешнего и внутреннего. Так, в стихотворении Анненского «Электрический свет в аллее» зрительное впечатление (луч света «вырвал» из тьмы ветку клена, отделив ее от ночного сада) имеет не одну живописную ценность; оно и знак душевного состояния героя, которого настойчивость чьего-то чувства тоже хочет «вырвать» из привычного покоя.
Субъективный импрессионизм нашел наиболее полное выражение у Бальмонта, лирика «всегда и во всем» (Вяч. Иванов). Поэт был верен импрессионизму и художнически и этически. Его герой постоянен лишь в одном – в своей всегдашней изменчивости: «Я каждой минутой сожжен, // Я в каждой измене живу».
Стремясь передать прихотливо-переменчивые состояния внутреннего и внешнего, импрессионистская поэзия значительно обогатила музыкальную выразительность стиха и его цветовую палитру («Цвета у поэтов – суть души» – А. Белый). Эта прокламированная романтиками и усилившаяся в раннесимволистской лирике опора на средства других искусств получила особое развитие у Бальмонта. Музыка стиха стала у него «существенным методом символизации», писал Эллис. Звуковую инструментовку – ассонанс и аллитерацию, внутреннюю рифму, повтор, ве́домые поэзии и прежде, Бальмонт значительно изощрил, поставив на службу «поэзии как волшебства» (так назовет он свою книжку 1915 г. о стихотворстве). «Певучая сила» принесла Бальмонту небывалый успех; Брюсов писал даже, что равных Бальмонту в искусстве стиха в русской литературе не было. Но тот же Брюсов обрушивался на Бальмонта, когда его фонические опыты становились самоцельными, когда содержательную сферу, и без того занимавшую в его лирике подчиненное место, оттесняла звуковая «магия» стиха.
Господство в творчестве Бальмонта субъективно-лирической стихии было небезраздельным; об этом говорят его гражданская поэзия и политическая сатира 1905 г. – стихотворения «Русскому рабочему», «Начистоту» и другие в большевистской «Новой жизни», памфлеты на «Николая Последнего», навлекшие на поэта полицейские преследования. Сатиру «Маленький султан» (1901), как передающую «общественное настроение», В. И. Ленин предлагал напечатать в «Искре». В агитационно-политических стихах Бальмонта появились лаконизм плаката, лапидарность лубка, лозунговые интонации: «Наш царь – Мукден, наш царь – Цусима, // Наш царь – кровавое пятно [...] Кто начал царствовать Ходынкой, // Тот кончит, встав на эшафот».
Более опосредованно связь с событиями революционного времени проявилась в лучшей книге Бальмонта, сборнике «Будем как Солнце» (1903). Его эмоциональная доминанта —
радость рассвета, призыв к «солнечному» бытию, этому осуществлению высших человеческих потенций, – была созвучна освободительной патетике начала века в русском романтическом искусстве с его «космизмом» (напр., Третья симфония А. Скрябина, 1903—1904). Животворному щедрому солнцу и всему «четверогласию стихий» (так озаглавил Бальмонт начальный цикл сборника) близка вольная всеобъемлющая душа их певца:
Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце
И синий кругозор.
Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце
И выси гор.
............
Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце,
А если день погас,
Я буду петь... Я буду петь о солнце
В предсмертный час!
Многозначно преломились настроения революционного времени у Сологуба. Как «соборный благовест» воспринял он события освободительной борьбы в стихах одноименного цикла 1904 г. (вошли в сб. «Родине», 1906). Вместе с Бальмонтом и Вяч. Ивановым Сологуб сотрудничал тогда в сатирических журналах. «Его жалящие пародии на духовенство и власть были широко распространены в Петербурге», – писал Белый. «Волчье» самодержавие и фальшь буржуазного демократизма обличали «Политические сказочки» (1906), в которых Сологуб оправдывал протест масс. Общественным событием стал роман Сологуба «Мелкий бес», «прочитанный всей образованной Россией» (Блок). Он был написан на рубеже столетий и впервые напечатан (не полностью) в 1905 г. в журнале «идеалистов-общественников» – С. Булгакова, Н. Бердяева и др. – «Вопросы жизни».
Имя героя романа, провинциального учителя Передонова, каверзника, ретрограда и тупицы, стало синонимом косной российской обывательщины, этого порождения политической реакции и одной из ее опор. Блок подчеркивал «великое общественное значение» психологической правды «Мелкого беса» как романа-предостережения против ядов «разбушевавшейся пошлости», угрожающих каждой душе. Сам Сологуб говорил о романе, что это обращенное к современникам зеркало. Действительно, социально-сатирическое задание «Мелкого беса» сразу бросалось в глаза; затхлый мирок уездного чиновничества и обывателей, страхи и амбиции холопствующего мещанина, атмосфера сплетни, доносительства, сыска были воссозданы с острейшей художественной убедительностью и силой типизации; «передоновщина» стала понятием нарицательным.
Но сгущенность традиционного сатирического нраво– и бытописания (что отличало, например, типологически параллельный сологубовскому и близкий ему некоторыми формами гротеска роман Г. Манна «Учитель Гнус, или Конец одного тирана», 1905) не исчерпывала эстетического своеобразия «Мелкого беса» с его сложной диалектикой традиционного и новаторского. Текст романа насыщен множеством реминисценций; в их кругу, выявленном исследователями, – повести Гоголя, мотивы пушкинской «Пиковой дамы», «подпольный» человек Достоевского, Иудушка Головлев Щедрина, чеховский Беликов; вне «метаязыка» этих ассоциаций возможно лишь поверхностное прочтение «Мелкого беса» (Л. Силард). Вместе с тем традиция была и вобрана и преодолена. Белый писал, что в аналитике Сологуба, который «взвешивает действительность на атомные весы», уже «заканчивается реализм нашей литературы». В символистски двуединой структуре повести инфернальный план не менее существен, чем социально-обличительный; общественное зло в глазах писателя лишь один из ликов зла мирового, хотя носителем его выступает всего лишь «мелкий бес». Нагнетая атмосферу абсурда (в создании ее художественных эквивалентов Сологуб предвосхитил одну из линий позднемодернистского искусства), писатель постепенно снимает грань между психопатологическим и бытийным: злокозненная юркая нежить «недотыкомка» не только симптом передоновского безумия, она и «угрожающий знак страха, уныния, отчаяния, бессилия» (Блок). Под пером Сологуба передоновщина – атрибут бытия.
В духе символистской утопии преображения мира красотой Сологуб противопоставил мрачному убожеству существования Передонова «языческий» идеал «расцветающей Плоти» в отношениях юных героев романа. Некоторым современникам, например Блоку, эта антитеза казалась убедительной. Но сцены «просветленной» эротики, порой слащавые, противовесом передоновщине не стали, на них – печать того же обывательского царства.
К началу нового века русский символизм мог подвести первые итоги своего развития. То, что в 90-е годы воспринималось критикой как «литературная хворь», стало самостоятельным течением, выдвинувшим ряд своеобразных и значительных талантов. К еще недавно осмеянным Брюсову, Бальмонту, Сологубу пришел несомненный успех. Выйдя из стадии эксперимента, символистская поэзия и проза проникли в прежде недоступные для них органы прессы, в популярные демократические издания («Журнал для всех», «Жизнь», «Мир божий»).
Распространению нового искусства способствовало с 1899 г. символистское издательство «Скорпион» и его альманахи «Северные цветы» (пять выпусков, 1901—1903, 1905, 1911). В творчестве символистов выявились черты художественного новаторства, усилившие изобразительные и выразительные возможности слова. Сложился специфический тип двупланной образной структуры, в которой субъективно преломленные впечатления действительности или импульсы истории, мифологии, культуры выступали как психологические символы – знаки душевной жизни индивидуума. Тогда же наметился и другой путь символизации: насыщение глубинных слоев образа религиозно-философским содержанием.
Новая волна обозначилась в символистском течении с начала 900-х годов. «Младшие» участники движения – Белый, Вяч. Иванов, Блок, С. Соловьев, – значительно изменили его идейно-эстетическое и творческое лицо. Обостренный революционным временем «кризис жизни, кризис мысли, кризис культуры» (А. Белый) стимулировал мистико-общественнические искания символистов, вселяя веру в интеграционные возможности искусства, в его «жизнестроительную» роль. Соответственно менялись и ориентиры. Падало влияние пессимизма Шопенгауэра, в Ницше видели не только адепта имморализма, но и пророка нового бытия, в его «сверхчеловеке» – эмблему совершенствующейся личности. Увлечение новой западной поэзией уступало пиетету перед наследием отечественной мысли и литературы (славянофилы, Достоевский, Тютчев).
Ранняя смерть Вл. Соловьева вновь обратила к его личности и творчеству взоры молодых мистиков. Им было близко завещанное Соловьевым внеконфессиональное, «мифопоэтическое» (Д. Максимов) представление о высших ценностях, влекла в стихах философа его мечта о преодолении мирового зла, вражды, разобщенности в грядущем «положительном всеединстве». Их вдохновлял сам облик соловьевского идеала, в котором «бесполая гегелевская абсолютная идея превращалась в Вечную Женственность» (Л. Силард). Простор поэтическому воображению давала и трансформированная Соловьевым Платонова концепция Эроса, пан-стихии Любви:
Смерть и Время царят на земле, —
Ты владыками их не зови;
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.
Особенно влиятельной в символистской среде была эстетика Вл. Соловьева. Заветный для русской литературы образ поэта-пророка философ толковал в духе мистической гражданственности. Посредника между горним и дольним, художника наделял «теургической», «боготворческой» миссией, преображающей бытие в духе высшей красоты; искусство виделось «реальной силой, просветляющей и перерождающей весь человеческий мир». Соловьевские образы, поэтические формулы его идей, аллюзии его мотивов переполняли лирику «младших», их переписку. О Вяч. Иванове, авторе мистико-философских стихов, говорили, что он «рукоположен Соловьевым». Блок называл философа «властителем дум» своих, правда имея в виду «откровения» соловьевской лирики, а не «скуку и прозу» его собрания сочинений. «Пророческая тень» Вл. Соловьева возникнет в картине Москвы начала века у Белого:








