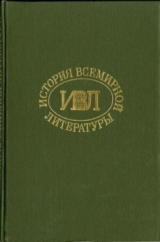
Текст книги "История всемирной литературы Т.8"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 51 (всего у книги 101 страниц)
Экспрессионистов не устраивало в практике венской школы и вообще импрессионизме исчезновение «я», ядра личности в эмпирике потока ощущений. С художественной точки зрения их не устраивало слишком пристальное внимание к оттенкам и тонкостям душевной жизни субъекта, в которых субъект растворялся, отдаваясь бесконечной рефлексии. В центре внимания экспрессионистской прозы, поэзии и драматургии уже не характер, а характерность, духовно-душевная ситуация – страх надежды, отчаяния, любовного экстаза, братского порыва и т. п. Эту ситуацию экспрессионисты часто пытались запечатлеть с помощью иносказания или «шифра», каким были, например, многие рассказы-притчи Франца Кафки. Разумеется, переход литературы к новым идеям и формам изображения совершался не механически и не быстротечно, но его тем не менее можно проследить даже на примере отдельных творческих биографий, хотя бы того же Тракля. Аналогичное накопление «вещных» и бытийномасштабных тенденций совершалось и в творчестве Рильке. Да и в недрах самой венской группы со временем усилились поиски «единства», росла неудовлетворенность Гофмансталя, Шаукаля и других венцев игрой «масок», на которые распадался индивидуум. В этом сдвиге виден шаг навстречу экспрессионизму. Еще дальше пошел в этом направлении Бар, который в 1913 г. выпустил роман «Вознесение», где порицал современников за отсутствие миросозерцания, упрекая их в безудержном гедонизме, который сам так рьяно насаждал.
Для понимания некоторых пражских экспрессионистов важна их определенная причастность к отдельным моментам иудаистской мистики в модернистской трактовке М. Бубера. Провозглашенное Бубером единство «я» и «ты», единство человека и всего внешнего мира, когда человек приравнивался к богу и растению, животному и камню, во многом питало, например, причудливые картины и фантастические превращения Франца Кафки (1883—1924), словно бы демонтирующего в своих рассказах и романах структуру мира, которая держалась веками; разбирающего и снимающего, как строительные леса, психологические, биологические, социальные и прочие детерминанты. Результаты такого «демонтажа» были столь трагичны и безысходны, что повергли в смятение и страх самого писателя: умирая, он завещал сжечь все свои неопубликованные произведения, т. е. больше половины всего своего труда.
Библиографическая статистика свидетельствует: Франц Кафка в настоящее время занимает первое место среди писателей XX в. по количеству исследований его творчества. Этот факт чаще всего объясняется тем, что Кафка – писатель-пророк, визионер, отгадчик будущего, предвидевший еще в начале века жестокие изломы истории, осуществившиеся в последующие десятилетия. Аргумент существенный, но вряд ли решающий: были в австрийской литературе его времени не менее мрачные визионеры; достаточно назвать Альфреда Кубина с его романом «Другая сторона», Альберта Эренштейна с его повестью «Тубуч», а также Мейринка, Перуца, Верфеля и др. Очевидно, объяснение такой грандиозной славы Кафки нужно искать в своеобразии и силе его художественного мира, в чем-то существенном перекликающегося с определяющими эстетическое лицо века веяниями.
Юрист по образованию, скромный служащий пражского страхового агентства, никогда не бросавший работу ради литературы (но вынужденный часто оставлять ее из-за туберкулеза), Кафка стал одним из основоположников европейского модернизма. Многими чертами своего творчества он вписывается в поэтику экспрессионизма. Однако особую выразительность его прозе придает резко отличный от других экспрессионистов стиль – классически ясный, педантично правильный, сухой, уснащенный канцеляризмами, которые, разбухая, тяготея к абстракции, создают стерильно-ирреальное игровое пространство. Внутри этой, словно бы стеклянной, формы помещены чудовища, уродцы, ужасы, кошмары, привидения. Вероятно, художественный эффект Кафки и заключается в этом контрасте, он был бы значительно меньшим, если бы писатель, подобно другим экспрессионистам, предпочел смятенную, захлебывающуюся в рваных ритмах речь.
Совмещение фантазии и реальности, самого резкого и непредугадываемого гротеска и фотографически точно запечатленной действительности составляет одну из примечательных особенностей новелл и романов Кафки и близких ему по духу писателей-пражан (М. Брод, А. Эренштейн, Л. Перуц и др.). Наибольшей известностью у современников среди них пользовался Густав Мейринк (1868—1932), создавший в романе «Голем» (1915) и многочисленных новеллах свой фантастический, пронизанный представлениями восточной мистики и напоминающий об Эдгаре По мир, художественно, впрочем, гораздо более плоский, чем у Кафки.
В полной мере выражен у Кафки столь характерный для экспрессионистов мотив конфликта отцов и детей, отражающий столкновение двух поколений в начале века, столкновение позитивизма с различными вариантами его модернистского пересмотра. Для Кафки, болезненно порвавшего со средой и окружением, этот мотив был глубоко выстраданным лично, что запечатлелось в новелле «Приговор» (1913) и «Письме к отцу» (1919), где частное обращение перерастает в исповедь поколения.
Характерно при этом – как раз для экспрессионистского поколения, – что реальный жизненный конфликт перерастает в противоборство надмирных сил, власть отцов предстает как сатанински окрашенная власть тиранов.
Так и всякую другую свою душевную ситуацию Кафка-художник экстраполировал в мировые пространства. «Основа моего существа – страх», – писал он возлюбленной. Предельной концентрацией страха как экзистенциального состояния, причем не только «соли души» (М. Хайдеггер), но и как бы стержневой характеристики бытия, становятся все его создания. Они – несколько абстрактные притчи, но не привычные, знакомые нам, к примеру, по литературе Просвещения, где всегда был ясен логический смысл и очевидна мораль, а алогичные, принципиально хаотичные по смыслу, требующие бесконечного разгадывания. Это ребусы с неисчислимым множеством решений – недаром Кафку интерпретировали едва ли не больше и разнообразнее, чем любого немецкоязычного писателя XX в.
Гротеск у Кафки, в отличие от реалистического, где он заострял реальные стороны бытия, приобретает самодовлеющее значение. Ад у него – не фон, оттеняющий уродливые черты действительности, ад – сама эта действительность, где человек может в любой момент превратиться в гада не фигурально, а буквально, и лишь тупость взгляда не позволяет большинству это реально осознать («Превращение», 1916). Надо отдать должное провидческой зоркости Кафки: в иных случаях его, казалось бы, насквозь абстрактные и выдуманные построения реализовались в дальнейшей истории именно в представленных им формах и даже превзошли их по жестокости – так печи Освенцима превзошли самые изощренные пытки, описанные в новелле «В штрафной колонии» (1914).
Точно так же по видимости абстрактный, немыслимый в своей абсурдности судебный процесс над невиновным, но приговариваемым к смерти, изображенный в романе «Процесс» (написан 1914—1915, опубл. 1925), был многократно превзойден в показных, непостижимо трагических в своей роковой нелепости судилищах XX в. Герой «Процесса» Йозеф К., мелкий банковский служащий, безымянный герой нашего века, проснувшись однажды утром, узнает, что он арестован и будет вскоре судим. Никакие его судорожные потуги уразуметь смысл обвинения ни к чему не приводят, его затягивают хваткие бумажные жернова судебной машинерии, для которой он принадлежность протокола, абстрактно-стандартный казус. Попытки Йозефа оправдаться моментально оказываются на весах этой странной Фемиды неопровержимыми доказательствами вины. Он наг и беспомощен «перед законом», как называется включенная в роман притча, и будет неизбежно раздавлен в силу неведомой, недоступной ему логики, но постоянно внушаемой стражами закона. Годы спустя так были раздавлены миллионы людей карательным прессом судопроизводства фашистского образца.

Франц Кафка
Фотография 1910-х годов
Оправдавшийся художественный прогноз – по-видимому, немаловажная причина все нараставшего в последующие десятилетия успеха Кафки. Первый, неоконченный его роман «Америка» (написан 1912—1914, опубл. 1927) – довольно точное предсказание дальнейшего хода развития технической цивилизации на капиталистических основах с ее комплексом неразрешимых общественных противоречий, с трагическим ростом отчуждения человека в механизированном мире. И последний роман Кафки «Замок» (1922, опубл. 1926) дает достаточно точную – при всей смещенной гротескности изображения – картину окостенения бюрократического аппарата, который на деле подменил буржуазную демократию. Полувековой опыт последующей истории позволяет воспринимать этот роман как художественное предвестие современных форм манипулирования сознанием человека и самой его судьбой в буржуазном обществе.
Но параболистическая абстрактность творчества Кафки – видимая. Генетически, да и реально оно ярко отражает тяжелый кризисный этап в истории Австро-Венгрии в связи с разложением государственного аппарата накануне его конца. В нем нашли отражение и общие беды Австро-Венгрии, и характерные особенности «пражского острова». Об Австро-Венгрии Энгельс еще в 1848 г. писал, что «ни в одной стране феодализм, патриархальщина и рабски покорное мещанство, охраняемые отеческой дубинкой, не сохранились в столь неприкосновенном и цельном виде» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 471). Внутренние противоречия империи с тех пор, естественно, только углубились, начиналась агония. Это показано в таких ретроспекциях, как драма Карла Крауса «Последние дни человечества» и роман Роберта Музиля «Человек без свойств» (1930—1943).
На развитии немецкоязычной литературы «пражского острова» сказалась специфическая атмосфера социального, литературного и бытового гетто. Эта литература создавалась (за исключением Рильке) евреями, писавшими по-немецки, в столице одного из древних славянских государств. Была в таком положении своя положительная сторона: славянские темы, мотивы, просто жизненные связи, наконец, обогатили личность и творчество как Рильке, так и Кафки.
Но в то же время это приводило к социально-национальной отъединенности, неизбежно искажавшей взгляд на реальное положение вещей и на исторические перспективы. Писатели-пражане смотрели на мир остраненно, поддаваясь фантасмагориям. Кафка в этом смысле – классический пример.
Кстати, и стерильно-протокольный язык большинства участников пражской школы – тоже, конечно, порождение искусственной, инкубаторской литературной среды, отрезанной от стихии живой речи. Мейринк в этом смысле особенно показателен. Он оставляет впечатление «безъязыкого» писателя, для которого слово – только именное значение предметов или передатчик прямого смысла, но никак не завораживающая тайна, никак не образ по самой своей природе. Более сильное дарование Кафки помогло ему добиться значительной суггестивности, освободившись от блекло-протокольной, однотонной палитры, однако и его словесный строй, конечно, стерилен.
Такая – вовсе не из недр слова вытекающая – суггестивность была явлением, уникальным для немецкоязычной литературы. Кроме – отчасти – Гофмана у Кафки и других пражан в этом смысле не было предшественников. Но связь с Гофманом – это уже указатель на определенную традицию: романтическую. С романтиками Кафку роднит многое: и гротескное восприятие быта, и томление по абсолюту, расплывающемуся в туманной дымке метафизической неизвестности, и склонность к фантастике, сновидениям, в которых произвольно смешиваются элементы реальности, а их комбинации выступают в качестве смутного, неразгаданного шифра. Многие кафковские новеллы, притчи, рассказы строятся именно по законам сновидения; это характерный штрих всей европейской модернистской прозы того времени (в русской литературе – А. Ремизов, Ф. Сологуб). Сохранились рисунки Кафки к его роману «Процесс». Вряд ли нашелся бы лучший иллюстратор – сюжетная (хотя скорее бессюжетная) хроника романа распадается под пером Кафки-художника на отдельные «кадры» ирреалистического характера. Это нечто противоположное толстовскому органичному «сцеплению слов».
Не случайно живший одной только литературой («Я весь состою из литературы»), Кафка в то же время не имел устойчивых литературных пристрастий, даже любимых своих Гёте, Клейста, Достоевского воспринимал не цельно, а как-то фрагментарно и только в тех моментах, которые напоминали ему собственные состояния или, напротив, были совершенно непонятны. Нельзя сказать, чтобы Кафка лишен был всяких литературных корней; помимо романтиков необходимо вспомнить Адальберта Штифтера с его сухим и точным «вещизмом». Но Кафка – антиидиллик, и вместо штифтеровского «кроткого закона» согласной гармонии у него в мучительных судорогах корчащийся мир. Стоящий как бы вне потока литературы, против него, Кафка не породил и школы. Его опыт уникален, и хотя имел огромное воздействие на литературу, но создавал в дальнейшем главным образом эпигонские подражания.
Крупнейшим поэтом пражского экспрессионизма был Франц Верфель (1890—1945). Роль лидера ему сразу же обеспечила книжка стихов с программным для «левого» экспрессионизма названием «Друг человечества» (1911). При всех громких прокламациях Верфель с самого начала отличался не слишком типичной для экспрессиониста лирической раздумчивостью. Ни словотворчества Тракля, ни кафковских ужасов в его арсенале нет. В связи с Верфелем скорее вспомнится поэзия Шиллера («Гимн к радости»), но эти мотивы оттенены предвидениями катастрофы. Подобное настроение заметно усиливается с началом первой мировой войны (сб. «Друг другу», 1915). В отличие от Тракля, основа поэтики Верфеля не метафорика и не мелодика, а риторика. В 10-е годы Верфель считался едва ли не «мессией» пражского экспрессионизма. В дальнейшем, обратившись к прозе, Верфель попал под обаяние психологически насыщенного письма венцев («Прага взрастила меня, Вена влекла и манила...»). В новелле «Лестница в отеле» он создал изящную вариацию на тему Шницлера. В самом конце новеллы преобладает,
однако, чисто экспрессионистский тон: не приводя никаких видимых мотивов самоубийства героини, автор возлагает вину и на ее соседей по отелю, не остановивших ее. Этот несколько неожиданный ход Верфеля заставляет вспомнить о его декларациях и манифестах, в которых людская солидарность и общность объявляются высшим благом и путем к спасению. Впрочем, экспрессионистские черты зрелых рассказов Верфеля уже едва заметны. Теперешний читатель воспринимает прозу зрелого Верфеля как реалистическую.
Верфель-драматург, начавший с переложения в экспрессионистском духе «Троянок» Еврипида (1913), тяготел в своих тяжеловатых, выспренним языком написанных пьесах на исторические и мифологические сюжеты к морализаторству абстрактно-философского толка. Это, пожалуй, наиболее слабая часть наследия писателя. Относительное значение имел только «Человек из зеркала» (1920) – трилогия с типичной для постэкспрессионизма патетикой и тяготением к метафизическим отвлеченностям. Более заметных успехов Верфель добился как прозаик в период между двумя войнами и в годы антифашистской эмиграции.
В лице Эгона Эрвина Киша (1885—1948) пражский кружок и вся австрийская литература обрели горячего приверженца социалистических идей.
С 1906 по 1913 г. Киш служил репортером в крупнейших пражских либеральных газетах. Журналистская находчивость и хватка, неутомимая активность и оперативность, меткий глаз и острое слово, обширные связи в различных социальных кругах и особенно тесные контакты с пестрой литературной средой Праги начала века сделали его знаменитостью. После тяжелого ранения на фронте первой мировой войны Киш поселяется в Вене и продолжает свою репортерскую деятельность. В частности, он, как заправский сыщик, раскрыл тайну известной шпионской аферы – измену начальника австрийской контрразведки полковника Редля, подкупленного русской агентурой, и написал об этом броский, сенсационный репортаж. Киш был активным и отважным репортером, исследующим и провоцирующим действительность, тип журналиста, прочно утвердившийся в XX в., вплоть до Гюнтера Вальрафа в наши дни.
Путь Киша в последние годы существования Австро-Венгрии и в дальнейшем после ее распада – это путь от анархизма до сознательного и активного служения прогрессивным общественным идеалам в рядах коммунистической партии.
Немецкоязычная литература Праги первых двух десятилетий века, вобравшая в себя самые противоречивые и разнонаправленные тенденции – от декадентства до устремлений к социалистической идейности, была полем идеологических битв. Общественно-политическая агония Австро-Венгерской монархической империи высвободила значительную духовную энергию, в которой чрезвычайно устойчивая и здоровая культурная традиция столкнулась с ощущением кризиса, катастрофы, конца. В литературе и искусстве это вызвало к жизни круговорот новых течений, то сосуществовавших, то вытеснявших друг друга.
Уже в 1891 г. Бар опубликовал брошюру «Преодоление натурализма», и с тех пор это направление действительно отошло на задний план. Банализировались и некоторые традиционные формы критического реализма, ставшие арсеналом тривиальной литературы. Тот же Бар явился активным проводником «модерна», в котором соединялись неоромантические, импрессионистские, а позднее и экспрессионистские тенденции. В большинстве случаев, однако, новомодные «измы» представляли собой лишь прививку на мощном реалистическом стволе: многие крупные австрийские писатели рубежа веков – в своих лучших произведениях, реалисты, хотя и преодолевшие искусы «модерна». Тем не менее венская школа окрашена по преимуществу в импрессионистские цвета, а позднее, уже к 10-м годам нашего века, сложившаяся пражская школа – в тона экспрессионистские.
В целом австрийская литература этого времени – из-за того, что Австро-Венгрия с ее кризисом оказалась, по Музилю, «особенно показательным частным случаем Европы», – приобретает большое международное значение, впервые становится фактором мировой литературы, воздействующим на художественный процесс эпохи.
*Глава девятая*
ШВЕЙЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ГЕЛЬВЕТИЧЕСКОЕ ОБЛАСТНИЧЕСТВО
В 90-е годы швейцарская литература пережила невосполнимые утраты: в самом начале десятилетия умер Готфрид Келлер, прекратилась творческая деятельность другого классика – Конрада-Фердинанда Мейера; в 1897 г. скончался философ и историк Якоб Буркхардт. Завершилась чрезвычайно плодотворная эпоха швейцарской культуры. Подъем, начавшийся в стране после победы буржуазной революции 1848 г., сменился застоем и упадком во всех сферах духовной жизни.
Во второй половине XIX в. конфедерация прошла ускоренный путь буржуазного развития. Из отсталой аграрной страны она превратилась в развитое индустриальное государство с густой сетью железных дорог, промышленных предприятий и банков. Укрепление местной – преимущественно мелкой и средней – буржуазии сопровождалось ростом пролетариата. Однако концентрация капитала проходила замедленными темпами. В стране, где мелкий буржуа чувствовал себя представителем «народа», классовые противоречия выступали в менее острой, чем в соседних государствах, форме. Рабочему движению сопутствовали либерально-демократические настроения, оказавшиеся здесь достаточно стойкими, а несколько позже – влияние социал-демократического реформизма.
Швейцария не отказалась от надежд на демократический «особый путь», избавляющий от противоречий капитализма, хотя оснований для этого становилось все меньше. Широкие массы по-прежнему активно участвовали в общественной жизни, но решение кардинальных вопросов, определявших судьбы страны, целиком зависело от правящих кругов. В политике стали брать верх откровенно консервативные настроения. Отсталое общественное сознание стимулировало укрепление регионалистских, «почвенных» тенденций в литературе и искусстве, в то же время непомерно возросли аполитичность и обывательский индивидуализм.
Особенности социально-политической жизни конфедерации на стыке столетий определили своеобразие литературного процесса. Охранительные идеологические тенденции породили феномен культурного отставания. В наследии классиков подхватывались и развивались далеко не лучшие стороны, скорее наоборот – абсолютизировались заблуждения. Областникам были недоступны широта духовного кругозора и пафос социального критицизма Келлера, страстный этический гуманизм Готхельфа, художническая взыскательность Мейера. Регионалистам оказалось не под силу художественно отразить процессы, происходившие в швейцарской действительности на рубеже веков. Писатели считавшие себя реалистами, утратили вкус к познанию действительности в ее реальных противоречиях. Исследованию закономерностей общественного развития они предпочитали поверхностное описание.
В творчестве регионалистов, особенно тех, кто находился в орбите так называемого крестьянского романа И. Готхельфа, личность вычленялась из потока истории; «остальной мир» воспринимался с глухой недоброжелательностью, как нечто враждебное, как «зло». Областники искренне полагали, что нравственное здоровье народа сохраняется только в условиях патриархального сельского быта. Такого рода антицивилизаторские настроения издавна были константой духовной жизни Швейцарии, порождая недоверие к новому – в общественной жизни, идеологии, искусстве. Несомненно, областническая литература сыграла на рубеже столетий известную сдерживающую роль – она была преградой на пути распространения декадентских веяний «конца века». Однако эту роль бастиона не следует переоценивать – от его стен откатывались и передовые идеи времени. Диалектика исторического процесса чужда областничеству, анахроничному по своей сути.
Присматриваясь к характеру конфликтов, разрабатываемых в сочинениях областников, – и явных «почвенников», как Я. К. Геер или Э. Цан, и обладавших более широким кругозором, как Г. Федерер, – нельзя не заметить, что эти конфликты утрачивают социальную определенность. Перед читателем предстают не личность и общество на фоне движущейся истории, а человек и природа на фоне вечных гор («Король Бернины» Геера, «Горы и люди» Федерера), не жизнь социального организма, а жизнь маленькой общины, изображаемой в качестве неповторимого «особого случая». Личность как бы растворяется в скрупулезно выписанной среде, утрачивает энергию сопротивления обстоятельствам.
С этим связаны особенности авторской позиции в областнической прозе (поэзия и драма не получили развития ни в одном из языковых регионов). Чаще всего автор – всеведущий и вездесущий «демиург».
Так, Я. К. Геер (1859—1925) активно вторгается в повествование, выдает аттестации персонажам и оценивает события с позиций областника. Хотя Э. Цан (1867—1952) умеет скрываться за своими персонажами, однако его герои от этого не становятся богаче и объемнее, потому что небогат внутренний мир самого «творца», который по роду своих повседневных занятий был владельцем трактира в швейцарских Альпах.
Сложнее творчество Г. Федерера (1866—1928), священника, а позже редактора католической газеты в Цюрихе. Мягкий, снисходительный юмор позволяет ему избегать морализаторства, не выглядывать из-за плеча персонажа с указующим перстом проповедника. Повествование Федерера близко келлеровскому – глубоким знанием жизни простого народа, мягкой иронией. Как художник он следовал традициям швейцарских классиков XIX в., но остался лишь их эпигоном. Федерер так и не смел разорвать оковы регионализма, застрял в кругу локальных проблем, приноровился к узости и тесноте художественного пространства. Это, естественно, не могло не сказаться на качестве реализма Федерера.
Оставаясь в рамках жизнеподобия, швейцарские писатели в то же время сосредоточивали внимание на внутренней жизни личности, охладевали к вопросам жизни общества. Неверие в будущее отвращало их от сложных духовных проблем, побуждая замкнуться в повседневном быте, отмеченном пошлостью и практицизмом. Швейцарские современники Гауптмана и Золя сочиняли «идиллические эпосы», сводя вопросы этики и нравственности к правилам поведения в обществе, а гуманизм – к вере в «наслаждение красотой жизни на основе подобающего образа мыслей» (Э. Эрматингер). Беспощадная резкость в изображении уродливых сторон жизни, присущая натурализму в его немецком варианте, в Швейцарии не прижилась. Здесь больше в ходу была идиллическая самоуспокоенность.
Конечно, бескрылое бытописательство, пристрастие к мелочной детализации, фатальная привязанность личности к «почве» и другие приметы «литературы родного края» типологически сходны с натурализмом. Но корни областничества уходят глубже, питаются издавна присущими швейцарцам партикуляристскими тенденциями. Натурализм в целом не мог утвердиться в стране, всегда избегавшей крайностей и отдававшей предпочтение «золотой середине».
Специфика художественного метода областников не поддается однозначному толкованию. Есть в их произведениях и реалистические тенденции, и натуралистические черты, и романтическая устремленность в прошлое. Она в конечном счете оказывается преобладающей. Родовые признаки областнической литературы – привязанность к крошечному клочку земли, отсутствие историзма, идеализация патриархальности, невысокий художественный уровень – делают излишними четкие методологические дефиниции. Определение «областническая литература» (Heimatdichtung) само по себе уже содержит и типологическую характеристику, и идейно-художественную оценку явления, указывая на его основные структурные принципы.
Другие языковые регионы Швейцарии ни в чем не уступали немецкоязычному по части культивирования духовного регионализма. В Романдии, в италоязычном Тессине не было столь богатых традиций художественного творчества, как в немецкой Швейцарии; литературы этих регионов отмечены засильем морализаторства, религиозности и «местного колорита». Значительно сложнее, неоднозначнее была литературная ситуация в Граубюндене, где исконные жители – ретороманцы – составляют менее четверти населения, находясь у себя дома на положении национального меньшинства. Пестование национальной самобытности здесь носило прогрессивный характер, ибо было сопряжено с борьбой за сохранение реликтового языка: лишенный прав на существование (ретороманский был объявлен четвертым национальным языком конфедерации только в 1938 г.), этот язык на рубеже столетий был близок к исчезновению. Но именно на этот период приходится расцвет творчества Пейдера Ланселя (1863—1943), первого поэта, поднявшего ретороманскую лирику на уровень высокой художественности. Его лирика связана с народной поэзией, которую он с увлечением и упорством собирал на протяжении всей жизни (антология «Ладинская муза», 1910). В поэтических сборниках «Примулы» (1892) и «Колыбель янтаря» (1912) Лансель предстает не только как страстный защитник ретороманской самобытности («не хотим быть ни немцами, ни итальянцами, хотим остаться ретороманцами»), но и как тонкий лирик, прекрасно владеющий возможностями родного языка.
С ПОЗИЦИЙ ДУХОВНОЙ ЭЛИТАРНОСТИ
Наряду с областничеством и в противовес ему на стыке столетий в Швейцарии наметилась тенденция, главным признаком которой было стремление проникнуть во внутреннюю, автономную жизнь индивида. Она охватывала крайне неоднородные с эстетической и историко-литературной точки зрения явления – символизм, неоромантизм, импрессионизм, разного рода мифологические школы и т. д. Все эти течения возникали в Швейцарии несколько позднее, чем в соседних родственных по языку странах, и нередко по своим программным положениям противостояли друг другу. Но в плане философском и идейно-политическом у них были точки соприкосновения – отрицание бездуховности, мещанства, всех форм массовой культуры, духовное высокомерие и склонность к мифотворчеству и мистике, субъективизм, негативное отношение к широким народным движениям, глубоко пессимистический взгляд на развитие человеческого общества и культуры. Изображение жизненных процессов переносилось из сферы социальной действительности в область внутренней жизни личности, причем личности одаренной, наделенной богатым воображением и гипертрофированным чувством своей исключительности. Это направление было представлено именами Я. Буркхардта, К. Шпиттелера, А. Штеффена, Э. Рода, Ф. Кьезы и развивалось под знаком неприятия тенденций буржуазного развития и «культурной ярмарки».
В первое десятилетие XX в. оживился интерес к Я. Буркхардту (1818—1897), развивавшему теорию элитарности искусства и его служителей. Историко-философские взгляды Буркхардта, стороннего наблюдателя и эстетического «сопереживателя» исторического процесса, во многом были определены ситуацией Швейцарии как относительно благополучного государства: подвергая общество уничтожающей критике за враждебность искусству, он в то же время умел уживаться с этим обществом и даже по-своему утверждать его. В молодости он нередко сетовал на то, что приходится жить «среди этих толстосумов», однако в зрелые годы пришло признание «малого государства» как удобного для созерцателя островка в бушующем море истории. В заключительных главах посмертно изданных «Рассуждений о всемирной истории» (1905) Буркхардт утверждал, что прогресс, величие, счастье не что иное, как оптический обман; в мире нет ничего, к чему стоило бы стремиться, кроме душевного покоя, познания сущего и примирения с ним. Культ красоты, эстетическое созерцание истории оказываются единственным средством сделать этот безнадежно порочный мир выносимым.
Естественно, такие взгляды и настроения не могли не встретить сочувствия и понимания в среде людей искусства, разочарованных в «особом пути» Швейцарии и искавших способов ухода от постылой действительности. В трудах базельского патриция они находили обоснование своих воззрений на мир и своих художественных склонностей. Одним из таких художников был Карл Шпиттелер (1845—1924), крупнейший и своеобразнейший швейцарский писатель рубежа веков. Разлад между художником и обществом, между искусством и действительностью, который болезненно ощущали Келлер и Мейер, становится у него центральной темой творчества. От действительности, воспеваемой областниками посткеллеровской формации, Шпиттелер бежит в высокие сферы космической мифологии, в абстрактные аллегории. От своего учителя Буркхардта он усвоил позу высокомерного презрения к посредственности и тривиальности, осуждение буржуазной демократии, неприятие прозы жизни, которой противопоставляется возвышенная поэзия и восхищение одиноким и мужественным героем прометеевского типа, призванным принести людям избавление от засилья материализма.








