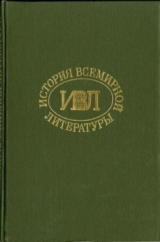
Текст книги "История всемирной литературы Т.8"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 101 страниц)
А ведь еще в конце 80-х годов прошлого века ничто, казалось, не предвещало надвигавшейся смуты. Идеалами общества оставались уют и довольство. Главным культурным достоянием – оперетта и незлобивая комедия или мелодрама. Наиболее почитаемым и развитым литературным жанром был – как нигде и никогда больше в мире – не слишком глубокий, но по возможности остроумный, легкий культурфилософский «фельетон», т. е. эссе или статья (преимущественно на театральные темы). Даже романы читали значительно меньше, не говоря уже о стихотворных трагедиях или лирике. А каждый новый фельетон обсуждался повсюду – на улице, в кафе, в клубах, и какой-нибудь особенно удачный опыт в таком жанре мог мгновенно прославить начинающего литератора. Литературными кумирами эпохи были набившие руку журналисты, чьи имена давно забыты. Об интеллектуальной атмосфере Вены этого периода выразительно рассказано в мемуарах Стефана Цвейга.
Но уже 90-е годы внесли заметные изменения в эту идиллическую картину. Одно за другим происходили культурные события, шокировавшие буржуазного обывателя. Причем дело заключалось не в активности какого-нибудь отдельного направления. Направлений и тенденций было немало, и они сосуществовали в сложном взаимодействии. Натурализм, импрессионизм, неоромантизм, неоклассицизм, критический реализм выступали на протяжении 90—900-х годов одновременно, часто переплетаясь в творчестве одного автора, определяя отдельные этапы его эволюции (Герман Бар) или образуя причудливый симбиоз в одном произведении (Гофмансталь).
Главенствующим направлением 90-х годов оставался все-таки импрессионизм. Но он не был и не мог быть однородным – в силу особенностей собственной эстетики, эклектичной по самой своей сути: ведь она была ориентирована на вживание в стиль самых разных культурных эпох и наслаждение игрой в прекрасное – с самыми различными толкованиями этого понятия. Как раз это гедонистическое начало связывало импрессионизм с предыдущей, «опереточной» эпохой, а через нее органически – с идилликой бидермайера и даже с «золотым» веком Марии Терезии.
*Глава восьмая*
АВСТРИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ВЕНСКАЯ ШКОЛА «МОДЕРН»
Характерным выражением мятущейся поэтической эклектики рубежа веков было творчество Германа Бара (1863—1934). Он начинал как натуралист, но чутко отреагировал на популярный общеевропейский, с английских прерафаэлитов и Суинберна начавший свое восхождение стиль «модерн» с его самолюбованием, фривольностью, орнаментализмом. Этот стиль, постепенно обраставший унифицирующими традициями, таил в глубине своих туманно-изящных покровов предчувствие катастрофы. Насаждавшийся им пессимизм и ощущение красивого мира накануне неотвратимой чумы придавали ему декадентскую окраску.
Взаимодействие с заведомо чуждой подобным настроениям австрийской культурной традицией привело к особенно интенсивным и по-своему обаятельным в своей противоречивости формам этого общего для всех развитых европейских стран явления.
Бар стал его первым адептом в Австрии. Он выпестовал не только венскую школу «модерн» в литературе, но заложил и теоретические основы «Сецессиона», родственной ей группировки живописцев с Густавом Климтом во главе.
Выступая в роли главного теоретика венской школы «модерн», в которую входили Петер Альтенберг, Артур Шницлер, Гуго Гофмансталь, Рихард Беер-Гофман, Рихард Шаукаль и многочисленные их эпигоны, Бар вдохновлялся идеями эмпириокритициста Эрнста Маха,
учение которого, сводившее истину к ощущению, прямо называл «философией импрессионизма». По мнению Бара, в импрессионизме многое соответствовало австрийскому, в особенности венскому, душевному складу: способность отдаваться настоящему моменту и тонко его чувствовать, незначительная роль деятельной воли, созерцательность, направленная на анализ многообразной игры настроений и переживаний.
Наиболее адекватное художественное воплощение идеи Бара получили не столько даже в его собственном – хотя весьма обильном, многожанровом и разностороннем, но быстро оскудевшем творчестве (значение сохранили только некоторые остроумные комедии из жизни венского света и артистической богемы – «Венские женщины», 1900; «Концерт», 1909), а в новеллах и миниатюрах Петера Альтенберга (1859—1919). Сборники Альтенберга с их чрезвычайно точно характеризующими повествовательную манеру автора названиями – «Как я это вижу», «Что приносит мне день», «Сказки жизни» и др. – выразили легкий, как бы скользящий взгляд на бесконечно изменчивую и пеструю действительность. Альтенберга интересуют фигуры неброские, малоприметные, его взгляд задерживается по преимуществу на мелочах, «паутинках бытия».
О том, сколь значительная роль отводилась Альтенбергу, этому, казалось бы, типично богемному литератору, просиживавшему дни напролет в «декадентском» кафе «Гриенштадль» в центре Вены, свидетельствует оценка, данная Гофмансталем: «Его истории словно крошечные озера, над которыми склоняешься, чтобы рассмотреть золотых рыбок или камешки, и вдруг видишь в них лик человека... Тройственная сила породила этого поэта. Сила художника, упивающегося отношениями с людьми и внешней своей судьбой как театром. Сила радостного жизнеприятия, смиренно улыбающегося перед неотвратимой тяжестью жизни. Сила литератора, любящего слово, артиста, любящего спектакль».
Альтенберга волновали не мысль, не чувство, а настроение. Его восприятие мира эмоционально по сущности. В миниатюрах и парадоксах венского импрессиониста заметно неприятие окружающей жизни, но это неприятие питомца богемы. Альтенберг далек от резкого эпатажа, которому посвятят себя экспрессионисты и футуристы, его удел – скорее меланхолическая отрешенность от социально инструментованного шума времени, не лишенная самолюбования обращенность к нюансам индивидуальной душевной жизни артиста, художника в широком смысле этого слова. Бессилие перед несправедливостью жизни выражается в меланхолической грусти и снисходительной иронии. Альтенберг – миниатюрист, его излюбленный жанр всегда – род фрагмента: от житейского анекдота до короткого стихотворения в прозе или афористичного парадокса. Нюансы лирической интроспекции – вот преобладающие темы Альтенберга, как и всего австрийского импрессионизма. Собрав «мед» с творений Штифтера, Альтенберг в свою очередь положил начало целой жанровой традиции, сохранявшейся и в австрийской литературе последующих десятилетий.

Артур Шницлер
Рисунок Б. Ф. Дольбина. 1920-е годы
Гораздо более широко и полно венский импрессионизм воплотился в творчестве Артура Шницлера (1862—1931). Медик по образованию, более двадцати лет занимавшийся врачебной практикой, Шницлер обнаружил в своих произведениях тонкое знание глубинной, на уровне подсознания, психологии человека – не столько заимствованное у коллеги Фрейда, сколько созвучное его учению.
Творческий путь Шницлер начал как эссеист и лирик импрессионистического склада. Признания он добился сначала в качестве драматурга.

Генрих Фогелер.
Заставка к драме Гуго фон Гофмансталя «Кайзер и ведьма»
Журнал «Инзель», 1899 г.
Его дебют на сцене состоялся в 1893 г.: из семи интермедий составленная пьеса «Анатоль» представила зрителям обаятельного и блестящего, но Социальную наблюдательность и остроумие автора подтвердила пьеса «Любовные игры» (1896), запечатлевшая быт и нравы венских кокоток. Эта тема была продолжена и в драме «Хоровод» (1900), которую цензура не раз запрещала «вследствие порнографии». Легкость, живость, естественность и меткость диалога обеспечили успех этих первых, по содержанию не слишком глубоких, но импрессионистически изящных пьес Шницлера.
Его «серьезный» театр начинается с исторической комедии «Зеленый попугай» (1899), прославляющей демократические завоевания Великой французской революции. Культурно-историческим оптимизмом проникнута другая историческая пьеса Шницлера – «Юный Медард» (1910). По мере приближения конца Австро-Венгрии в творчестве Шницлера заметно нарастание общественного критицизма. Большой резонанс вызвала его социально-критическая драма «Профессор Бернгарди» (1912), в которой автор поднял свой голос против расовой дискриминации, против антисемитизма. Подчеркивая личное достоинство своего героя, Шницлер в то же время осуждает его за уклонение от политической борьбы: аполитичность трудовой интеллигенции показана как сомнительное непротивление, как негативный и опасный общественный фактор. Та же тема развивается в самом большом прозаическом произведении писателя – романе «Путь на свободу» (1908).
В прозе Шницлер, психолог по преимуществу, задолго до Джойса применил, причем весьма виртуозно, «поток сознания»: сначала в ставшей знаменитой благодаря этому новелле «Лейтенант Густль» (1900), затем еще более изощренно в повести «Фрейляйн Эльза» (1924).
Шницлера отличает особая тщательность психологических характеристик героев. Действие его пьес, новелл и романов всегда зиждется на безупречно выстроенной цепи мотиваций. Однако в них заметна и внеисторическая сконструированность: ядро конфликта в произведениях Шницлера, как и его сподвижников по школе, оставалось неизменным, независимо от эпохи, когда развертывается действие. Тут сказывалось стремление вынести ощущение за пределы конечного и мгновенного, желание оторваться от навязанной временем натуры. Особенно повезло в этом смысле «золотому» XVIII в., представавшему в художественной практике венской школы (кроме Шницлера в первую очередь у Гофмансталя, Шаукаля, Блея) как обворожительная эпоха придворных интриг, томной любовной игры, менуэтов, кринолинов и фижм. (Вспомним аналогичные явления в искусстве других стран, например в России, у К. Сомова, А. Бенуа, М. Кузмина и др.) Это не были «исторические» новеллы и пьесы в собственном смысле слова. Современные костюмы и декорации лишь заменялись в них на старинные, а персонажи оставались, в сущности, неизменными – слабые люди, которые оплетены сетями Эроса и беззащитны перед богом смерти Танатосом. Смерть одерживает победу над любовью как в галантном веке, так и в современности.
Антиномия любви и смерти (нередко в ипостаси «вечного» искусства и «бренной» жизни) занимает и юного Гуго фон Гофмансталя (1874—1929), присоединившегося к школе Бара, еще будучи гимназистом. Гофмансталь – вообще, пожалуй, едва ли не исключительный во всей мировой литературе пример чрезвычайно раннего созревания поэта: стихи пятнадцатилетнего юноши ныне признаны классикой немецкоязычной поэзии. Никто в ней не выразил так чутко и совершенно тончайших дуновений, импрессионистических нюансов жизни. Едва уловимая череда летучих настроений запечатлена Гофмансталем в строках столь музыкальных, что они вызывают ассоциации с фортепьянными «Мгновениями» Дебюсси.
Гофмансталь – чрезвычайно взыскательный мастер, за всю жизнь он напечатал лишь несколько десятков сравнительно небольших стихотворений, почти каждое из которых стало шедевром импрессионистической лирики, окрашенной в неоромантические философские тона. Гораздо чаще выступал он в других жанрах. В 90-е годы Гофмансталь активно сотрудничал в эстетских «Листках искусства» Стефана Георге, семнадцати лет от роду дебютировал в качестве драматурга, начав с лирических одноактных драм – «Вчера» (1891), «Смерть Тициана» (1892), «Глупец и смерть» (1893). Идейная коллизия этих произведений строится на противопоставлении «чистого» и «возвышенного» вечного искусства и «грязной» и «пошлой» преходящей жизни.
Эти же темы – с оттенком декадентского надрыва – предстают и в античных драматургических стилизациях Гофмансталя «Электра» (1904), «Эдип и сфинкс» (1906).
Отвращение к будничности, зараженной буржуазной деловитостью, определяло и в дальнейшем своеобразный сценический пассеизм Гофмансталя в его легких, непритязательных комедиях. Он рядил своих героев в костюмы многих ушедших эпох, особенно часто и успешно – в камзолы и кринолины галантно-куртуазной эпохи рококо («Возвращение Кристины», 1907; «Кавалер роз», 1910).
Оставило след в австрийском театральном искусстве и предпринятое Гофмансталем стилистическое подновление средневекового миракля – пьеса «Имярек» (1911), которой по традиции в продолжение многих лет открывались ежегодные театральные фестивали в Зальцбурге. Это символически емкая притча о тщете суетных потуг человека и об очищающей силе страдания. Христианская проповедь смирения соединяется в ней с заветами европейского гуманизма, но и с горьким осознанием кризиса и того и другого. Вариация этой темы возникает у позднего Гофмансталя в драматургическом опыте необарокко – пьесе «Зальцбургский большой мировой театр» (1922).
Большинство пьес Гофмансталя – стихотворные, многие из них составили либретто к театральным произведениям Рихарда Штрауса. Однако наиболее жизнестойкими оказались пьесы, написанные прозой, – «серьезная», социально-критическая и философски фундированная драматургия, которой Гофмансталь посвящает себя после первой мировой войны и развала империи. Это пьесы «Трудный характер» (1921) и «Башня» (1927), составляющие наиболее ценную часть его наследия наряду с лирикой и немногочисленными новеллами на псевдоисторические сюжеты. Единственный роман Гофмансталя «Андреас, или Соединенные» – «роман воспитания» из эпохи рококо – остался неоконченным.
Творчество Гофмансталя в художественном отношении неровно. В «глухое время», очевидно, коренящаяся особенность поколения Гофмансталя и других неоромантиков состояла в том, что мощные всполохи истинной художественной энергии, жадно стремящейся к освоению жизни, пробиваются у них лишь сквозь напластования абстрагирующих умозрительных аллюзий и схем. Однако по мере нарастания социальных антагонизмов времени творчество лучших писателей этого поколения все увереннее вливалось в русло реализма. И по драматургии, по литературно-критической эссеистике Гофмансталя хорошо заметно, как писатель преодолевает свой неоромантический эстетизм.
Меняется в его эстетическом сознании и само понятие жизни. Если на первых порах «жизнь» для Гофмансталя – это гедонистическое смакование всех подробностей и оттенков индивидуального восприятия как «игры дробящихся морских волн» (все это в согласии с постницшевской «философией жизни» – Дильтея, Зиммеля и др.), то в дальнейшем, особенно под влиянием первой мировой войны, понятие «жизни» стремительно расширилось: индивидуальная судьба сопряглась с судьбой народной, возникла идея ответственности индивидуума за духовную традицию нации. Постепенно изживаются неоромантические мечты о слиянии литературных и философских жанров в некоей «новой мистерии», а на их место приходит и бережное отношение к традициям фольклора и классического искусства. Новыми значениями наполняются и понятия культуры и литературы, понимаемой Гофмансталем под конец пути как «духовное пространство нации», т. е. живой, неиссякающий родник прогрессивной национальной традиции, противопоставленный убогому шовинизму «крови и почвы».
Гофмансталю принадлежат наибольшие заслуги в деле постижения самобытности австрийской культуры и литературы, в обосновании различия, а во многом даже и противопоставления австрийской и немецкой литературных традиций.
РИЛЬКЕ. КРАУС. ТРАКЛЬ
В тесном соприкосновении с венской школой «модерн», особенно в свой ранний период, развивалось творчество пражанина Райнера Марии Рильке (1875—1926), одного из крупнейших лириков XX в. Здесь, как нигде, сказался переломный характер эпохи: высшие достижения и идеалы классической поэзии, вновь возведенные на уровень самого высокого мастерства, должны были бороться с тенденциями тяжелого культурного и мировоззренческого кризиса.
Поэзия Рильке вобрала в себя сложнейшие духовные проблемы времени. Комментаторы непрестанно подыскивают ей какой-либо философский адекват – то в неоплатонической физиогномике Касснера, то в феноменологии Гуссерля, то в экзистенциализме Хайдеггера. Однако при этом поэзия Рильке с самого начала была предельно демократична, полна «слов простых». Свои первые книжки, напечатанные за собственный счет, Рильке сам распространял среди трудового люда. Фольклорные мотивы содержат его ранние сборники «Жизнь и песни» (1894), «Жертвы ларам» (1896) и др.
В духовном становлении Рильке исключительная роль принадлежит России. Он был подготовлен к встрече с ней, был изначально ей близок. Паломничества в Россию были тогда поветрием среди писателей Австрии и Германии. Однако никто из них – ни Бар, ни Касснер, ни Кайзерлинг, ни Барлах – не «заболел» Россией так, как Рильке, который на несколько лет превратился в завзятого славянофила, а под конец жизни в письмах к М. Цветаевой признавался, что Россия сформировала самые основы его духовного существа. Поэтическим итогом двух поездок Рильке в Россию (1899—1900) стала книга «Часослов» (1905), написанная в форме стихотворных молитв русского монаха. Рильке писал, что был принят в России как брат, и эту атмосферу людской общности, несколько мистически воспринятой соборности ощущал очень остро. Он побывал у Л. Толстого, тесно сошелся с литературно-художественными кругами Москвы и Петербурга, особенно сблизился с крестьянским поэтом С. Дрожжиным и даже сам пробовал писать русские стихи («Родился бы я простым мужиком, то жил бы с большим, просторным лицом...»). Целую эпоху составили переводы Рильке с русского «Слова о полку Игореве», Лермонтова...
Австрийскому поэту оказались близкими течения в русском искусстве этого времени, связанные с поисками орнаментализации и стилизованного подновления древнерусской старины (так называемый псевдорусский стиль). Аналогом этих явлений в литературе были прежде всего «Симфонии» Андрея Белого и стилизованные апокрифы А. Ремизова, размывавшие (подобно древнерусским «словесам») грань между поэзией и прозой, создававшие образцы ритмизованной прозы или сросшейся с прозой поэзии. На тех же путях лежали опыты самого Рильке, чья ритмизованная новелла «Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке» (1906) свидетельствует об этом с наглядностью. Собственные апокрифы Рильке создает в книге «История о господе боге» (1899).
Вторым духовным прибежищем для Рильке после России стал Париж, дружба с О. Роденом и П. Валери, переживание утонченных достижений и изощренной, устоявшейся символики европейской культуры. Все это воплотилось в «Новых стихотворениях» (1907—1908), где Рильке стремится перейти от былой аморфности и символической зыбкости к отчетливой и монументальной пластике, к осознанию вещности как самополноты бытия. Однако внутри этой внешней статуарности скрыта живая динамика, культура осознана как аккумулятор живой энергии, библейские образы и сюжеты – как вместилища вечной страсти. Памятники искусства предстают как двуликие Янусы, связывающие в полноте кругозора посюстороннее с потусторонним, бывшее с будущим. Оттого велика у Рильке роль буддийских тем и мотивов, скрещенных с привычной для европейской культуры христианской символикой.
Но Париж для Рильке – это и переживание острой социальной несправедливости, нищеты, отчуждения, разобщенности, холода механистической цивилизации. Кризисное восприятие этих явлений нашло отражение в написанном в форме дневников романе Рильке «Записки Мальте Лауридс Бригге» (1910) с его темой отчаяния индивидуума перед лицом неизбежной смерти, раздумьями над самоубийством как выходом из «пограничной ситуации» и другими мотивами, типичными для тогдашней литературы.
Идеей богооставленности человека проникнуты создававшиеся во время первой мировой войны «Дуинские элегии» (1923). От пантеистичности ранних стихов или «Часослова» здесь не остается и следа. Умиление сменяется трезвостью, мужественным осознанием одиночества человека перед лицом мировых катаклизмов. Но это осознание человеческого одиночества и бренности означает полноту приятия бытия и содержит упование на своего рода смиренную гордость и высокое достоинство человека. Космический гимн человеку, этой неразличимой пылинке мироздания, продолжен в «Сонетах к Орфею» (1922), где напряжению самоценного духа обещано бессмертие.
В собственно эстетическом отношении развитие поэзии Рильке сопровождается постепенным размыканием орнаментальности. Его стих со временем становится строже, суше, поэт все меньше играет аллитерациями и ассонансами, на которых поначалу держалась вся его инструментовка. В последних стихотворениях он все больше тяготеет к «открытой» форме, к верлибру. Однако его стих не утрачивает своей завораживающей музыкальности, которая лишь становится сложнее и тоньше. Вместе с тем в поздней лирике Рильке появляется некоторая философская холодность, обаяние непосредственной и доходчивой эмоциональности в ней ослабляется.
Поздняя лирика Рильке свидетельствует о его духовной переориентации, о значительном углублении его философско-поэтических представлений. Если на рубеже веков смысловой акцент им ставился на самоценности изощренного и сложного индивидуального мира, а «мир вещей» был лишь эманацией надмирной и безличной творческой воли, то в «Дуинских элегиях» и «Сонетах к Орфею» доминирует сфера объективного существования, а миссия поэта видится в особом служении всенародному единству, людскому братству, обретенным на гуманистических основах. Эти мотивы позднего Рильке привлекли к нему восторженное внимание М. Цветаевой и Б. Пастернака. Тройственная переписка этих поэтов, относящаяся к 1925—1926 гг., сама по себе – уникальный литературный памятник, показывающий реальное и обогащающее общение двух соседних культур.
Среди явлений, так или иначе связанных с венским импрессионизмом, – дебют Стефана Цвейга, во многом близкого в своей ранней новеллистике Шницлеру, а также Роберта Музиля (1880—1942), опубликовавшего в 1906 г. свою первую повесть «Смятение воспитанника Тёрлесса». Основные достижения этих писателей приходятся на более позднее время, на период между двумя войнами, но и их дебют не прошел незамеченным. Особенно многообещающими были первые опыты Музиля, неустанно проводившего и в повести, и в сборнике рассказов «Соединенные» (1911) заповеданный венской традицией «анализ ощущений», но последовательно избегавшего всякой расплывчатости и приблизительности.

Райнер Мария Рильке
Фотография 1910-х годов
Литературное утверждение венской школы осуществлялось отнюдь не триумфально. Школу подвергли нападкам с разных сторон – и из консервативно-католического лагеря, и со стороны националистов «крови и почвы», и со стороны приверженцев демократической традиции. Сильным оппонентом школы был выдающийся сатирик Карл Краус (1874—1936), человек редкой духовной мобильности и энциклопедически широкой одаренности. С 1899 г. и до самой смерти он издавал журнал «Факел», все рубрики которого с 1911 г. заполнял собственными писаниями.
Краус сражался за чистоту и живое развитие классического наследия языка, неустанно засоряемого, по его мнению, наемными борзописцами и претенциозными «модернистами». Журнализм в искусстве (т. е. халтурное, идеологически нацеленное ремесленничество, то, что Гессе называл «фельетонизмом») был предметом его ядовитых насмешек. В венской школе Краус увидел попытку создания касты, сдерживающей свободное развитие искусства. На выступления группы он немедленно отозвался книгой «Дряхлеющая литература» (1896), где язвительно развенчивал и декадентов из кафе «Гриенштадль», и их идейного вдохновителя Германа Бара.

Карл Краус
Фотография (ок. 1915 г.)
Кризис эпохи для Крауса – это прежде всего кризис языка. В регулярно выходивших тетрадках «Факела» он устраивал настоящее сатирическое аутодафе языку практически всех общественных институтов прогнившей монархии, особенно министерств, судов, средств массовой информации. В «жаргоне полуобразованных», стремительно вытеснявшем живую образную речь народа и классической литературы, ему виделся верный признак грядущего духовного одичания.
Статьи, комментарии были поначалу исключительными жанрами Крауса. К ним вскоре прибавились афоризмы, быстро становившиеся крылатыми («Справедливо запрещают сатиры, которые понимает цензор», «Фрейдизм – это болезнь, за терапию которой он себя выдает», «Немецкий язык – самый глубокий, немецкая речь – самая мелкая» и др.). В 10-е годы Краус начал писать и стихи, в 20-е – выступил как драматург. Его гигантская по объему драма «Последние дни человечества» (1920) дает панораму дряхлеющей и гибнущей монархии с ее социальной и национальной рознью, прогнившим бюрократическим аппаратом, коррумпированной армией, оторвавшейся от демократических масс интеллигенцией и т. д. Драма прозвучала страстным обвинением войне и социальной несправедливости, хотя Краус и оставался на весьма расплывчатых пацифистски-либеральных позициях.
К зарождавшемуся экспрессионизму Краус отнесся благосклоннее, чем к импрессионизму, особенно к «тирольскому» варианту экспрессионизма – к поэту Георгу Траклю и выпестовавшей его редакции журнала «Бреннер». Собственно, предощущением экспрессионизма была уже в начале века драматургия Карла Шенхерра (1867—1943). Его пьесы представляли собой синтез самых разных направлений и идейно-стилевых тенденций начала века. Шенхерр стал крупнейшим в Австрии мастером народно-крестьянской драмы, соединившей в себе натурализм с его пристрастием к социальной проблематике и быту, некоторую романтизацию патриархальных устоев в духе почвенничества, наконец, близкую к «философии жизни» героизацию и демонизацию иррационально-природных начал народной души, приводившую к экспрессионистической напряженности и даже экстатичности действия. Все это соединялось со свойственной классическому народному театру простотой мотивировок, лукавым юмором, здравым взглядом на вещи. Тяга к натурализации изображения обязала Шенхерра писать свои пьесы на родном для него тирольском диалекте. Творчество Шенхерра не знало эволюции, в жанровом отношении оно тоже едино, ибо его исторические драмы так же воспроизводят некие константы национальной жизни, как и драмы на современные темы. Из обширной драматургии Шенхерра наибольший успех выпал на долю пьес «Земля» (1907), «Вера и родина» (1910), «Народ в нужде» (1915). Свойственная Шенхерру мифизация национальной, особенно крестьянской, жизни определила те спекуляции на его творчестве, которые проводила нацистская пропаганда и псевдоэстетика.
Движение от импрессионизма к экспрессионизму выразилось в поэзии Георга Тракля (1887—1914), принадлежащей к наиболее весомым немецкоязычным поэтическим достижениям XX в.
Ранние стихи Тракля полны импрессионистической зыбкости и сумеречности. Их пронизывают мотивы неоромантического томления: блеклые краски заката в покинутых парках, пришедшие в запустение дворцы и замки, подернутые ряской пруды, руины. Здесь преобладают настроения одиночества, бренности, неизбывной печали, скорбной тоски.
Постепенно в поэзию Тракля входит тема очищающего страдания, тема духовного подвига как прорыва к устойчивым ценностям. Зло мира сосредоточивается в пределах городских, понятие «города» становится равнозначным понятиям ада, проклятия. Антиурбанистические виде́ния Тракля придают этой поэзии колорит мрачной фантазии. Осквернение святынь и гибель народов – таким провидится поэту будущее Европы («Страна заходящего солнца»). Само понятие «закат Европы», распространившееся в 20-е годы благодаря нашумевшей книге О. Шпенглера, впервые предстает в поэзии Тракля.
Постепенно он вырабатывает свой поэтический стиль с емкой, но весьма устойчивой символикой. Носителями былой, гибнущей органики становятся такие древние христианские символы, как «хлеб» и «вино». Возникают сквозные метафоры – «осень», «тление», «безумие», «сон», «забытье». Чрезвычайно уплотняется и метафоризуется, как вообще в экспрессионизме, ощущение цвета. «Золотой», «белый», «голубой», «серебряный», «красный», «черный» – это не поверхностные характеристики вещей, а знаки их внутренне-ценностной иерархии.
Апокалипсические озарения приобретают особую напряженность и экстатический размах с началом первой мировой войны, в которой Тракль принял участие в составе санитарных частей. Картины войны, гибели, беспомощной отверженности человеческой плоти и нищеты духа входят в полные отчаяния гимны, которыми полнится лучшая книга Тракля «Себастьян во сне» (1915), изданная уже после трагической смерти поэта. В таких стихотворениях сборника, как «Осень одинокого», «Детство», «Гродек», «Ночная песнь», повседневность, чреватая катастрофой, предстает как мрачное бесовское действо, «демония жизни». Стихотворческий диапазон Тракля простирается от классически выверенного сонета, выразительность которого достигается соединением строгой чеканки мелодичного ритма и благородной певучести, до дерзкой, неожиданной и причудливой метафорики, до выплескивающегося за рамки всякой грамматической логики витийствующего гимна, написанного свободным стихом, нервным, захлебывающимся, переходящим в ворожбу ритмизованной прозы.
В этой ворожбе значение магических символов приобретают такие образы, как «юноша», «сестра», «чужой», «ангел», «смерть», «призрак». Давнишние, в христианской традиции возникшие словосочетания (подобные «сестра моя смерть» Франциска Ассизского) переосмысляются в резком и неожиданном наложении их на трагические картины действительности. Такие стихи Тракля проникнуты страстным гуманистическим пафосом, обличением людской вражды, экспрессионистскими по духу призывами к всемирному братству.
Традиция Тракля оказалась особенно плодотворной для дальнейшего развития австрийской поэзии. Его опыт чрезвычайно интенсивного лирического освоения картины мира, но такого, которое избегает всякого оригинальничающего произвола, а стремится – при всей своей необычности – к объективной характерности, к скрытой за внешними деформациями типичности, на долгие годы определил поэтические устремления последующих поколений.
ПРАЖСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ШКОЛА
С экспрессионизмом прежде всего связывается представление о так называемой пражской школе, хотя возникшая в Праге в предвоенные годы литература на немецком языке представляла собой арену борьбы различных литературных групп и течений. Однако значительная часть противоборствовавших литературных сил действительно разворачивала свои порядки под знаменем экспрессионизма. Сопряжение хотя бы таких имен, как Мейринк и Верфель, Кафка и Урцидиль, показывает, насколько разные тенденции объединял пражский экспрессионизм. В то же время невозможно отрицать наличие ряда общих моментов, позволивших и «левым» и «правым» экспрессионистам находить общий язык.
Основывалось это единство на неприятии искусства предшествующего поколения, на бунте против «отцов», на борьбе с реализмом, понятым прямолинейно как внешняя достоверность изображения. Это борьба, на которую поднимались с лозунгами возрождения суверенной мощи духа и пророческой миссии художника, выливалась в своевольную деформацию природы на полотнах живописцев и «речетворчество» – ломку синтаксиса и высвобождение «самовитого» слова – в творениях поэтов-экспрессионистов.








