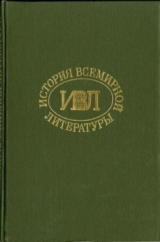
Текст книги "История всемирной литературы Т.8"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 101 страниц)
«Приобщение к народной душе и занятие общественной деятельностью» – таков, по мнению Блока, путь к возрождению личности. Впервые с народной судьбой, с горемычной бродячей вольницей поэт братался в стихах «Осенней воли» (1905). Близкая Блоку участь героя, «выломившегося» из своей среды (коллизия, знаменательная для революционного времени), легла в основу автобиографической пьесы «Песня судьбы» (1908), этой блоковской попытки создать социальную драму. «Мировой ветер» исторических перемен выносит героя пьесы Германа из «тихого белого дома» его юности на вьюжные русские просторы, сталкивает с Фаиной, манящим подобием стихийно-демонической народной души, и с некрасовским Коробейником, который выводит заблудившегося в метельном мраке героя на широкую дорогу.
Лирической патетикой родства с народным началом отмечены упоминавшиеся выше статьи 1907—1909 гг., стихи о России и сюита 1908 г. «На поле Куликовом» (впоследствии вошли в цикл «Родина»). В них, говоря словами поэта, «прошлое страстно глядится в грядущее»: вставшая против монгольского нашествия Русь – образ будущей России, свободной от всех оков. Куликовскую битву в примечаниях к поэме Блок причислил «к символическим событиям русской истории», им «суждено возвращение» и разгадка их «еще впереди». Иносказания сюиты полисемантичны: национально-освободительная тема, данная в метафорах русской истории, может быть прочитана как антисамодержавная (если иметь в виду распространенное мнение о «восточном» деспотизме царской монархии), и как антибуржуазная: «сонная тишина» страны разбужена гулом «татарского нашествия» капиталистической цивилизации. Но у России свой путь «древней воли», лёт ее «степной кобылицы» неудержим. Еще один слой символики приоткрывала блоковская статья «Народ и интеллигенция» (1908). В образованном меньшинстве поэт видит враждебный полуторастамиллионному народу «татарский стан»; однако черта, разделяющая их, «как туманная река Непрядва», где «трубы лебедей» пророчат не одну сечу, может и должна стать «согласительной». Вместе с тем подобные толкования лишь частично отвечают своеобразной историософии Блока, чье лирическое переживание прошлого «уничтожало расстояние между поэтом и историей» (Л. Долгополов).
В 1909 г. Блок писал матери: «Ничего из жизни современной я до смерти не приму и ничему не покорюсь». Об углубившемся конфликте с буржуазной действительностью говорила блоковская лирика этого времени, выразившая «гамлетовские» переживания поэта в распадающемся «страшном мире». В стихах одноименного цикла (1909—1916) романтическая ирония сменяется тонами сатиры в изображении одряхлевшего общества, где мертвый хватает живого. Зловещий маскарад нежити в сюите «Пляски смерти» напоминает гротески Бодлера, Гейне, Случевского; слышатся порой и интонации Лермонтова, его стих, «облитый горечью и злостью». Порочный круг бытия впечатляюще очерчен в восьмистишии «Ночь, улица, фонарь, аптека...»; такова формула безысходного удела современного человека. В «Голосе из хора» (1914), одном из мрачнейших прорицаний поэта, его пессимизм принимает очертания космические: «Все будет чернее страшный свет // И все безумней вихрь планет // Еще века, века!». Но «страшный мир» поэт судит не только вовне, но и в своей душе, не прощая себе «безверия», отъединенности от реального. В стихах цикла «Жизнь моего приятеля» (1913—1915) саркастически изображена как действительность в ее «сумасшествии тихом», так и сам поэт, тот, кто «невзначай... душу свою потерял»; ирония становится самоиронией. «Ненавижу свое декадентство и бичую его в окружающих», – признавался Блок. Выразительно писал он о драме художника, оказавшегося «на почве болотной и зыбкой», противопоставлял его «грешную» жизнь и светлые порывы, его «всемирный запой» прозябанию в «обывательской луже» («Поэты», 1908).
Ненависть к обывательщине Блок переносил и на «красивые уюты» интеллигентского быта, и на бесконфликтное, баюкающее искусство. В блоковской поэзии и прозе 910-х годов слышны тревожные предчувствия бури; перед ее лицом поэт говорит свое «да» трагической эпохе, осознает, что рассеялась последняя тень индивидуализма: «И все уж не мое, а наше, // И с миром утвердилась связь». «...Растет предо мной понятие „гражданин“, – писал тогда Блок, – и я начинаю понимать, как освободительно и целебно это понятие...» Гражданственная лирика цикла «Ямбы» (1907—1914) зовет открыть глаза «на непроглядный ужас жизни», спуститься в ее низины, молвить настоящему гневное «нет». Пафос этих строф – героическое преодоление мрака бытия; в них почти одновременно с «Голосом из хора» прозвучало признание поэта о «безумной» жажде жить и творить, о стремлении к «свету» наперекор «угрюмству». В «Ямбах», ориентированных на античный образец и гражданственную лирику пушкинской эпохи, пела, говоря словами Блока, «медь торжественной латыни». Они стали явлением блоковской «неоклассики», к которой теперь «возвращался один из наиболее энергичных разрушителей „классического“ стилевого канона» (Д. Благой). Таковы «Итальянские стихи» (1909) и другие произведения четвертого блоковского сборника «Ночные часы» (1911) с их стремлением к уравновешенности и соразмерности формы, к точной рифме и к традиционной для русского стихосложения строфике.
«Трагически обретаемая гармония» личности с народным и общемировым целым (Е. Тагер) развивалась у Блока под знаком активного романтизма. Им овеяна поэма «Соловьиный сад» (1915), говорившая о мужественном приятии «каменистого пути» жизни и о каре за измену ему. Поэма Блока – своеобразный отзвук средневековой легенды о Тангейзере, в которой сталкивались религиозно-этические требования христианства и языческий идеал полноты жизни (Б. Михайловский). До Вагнера, чьим творчеством в эти годы был особенно увлечен Блок, сюжет предания, вслед за Тиком, Брентано,
Гофманом, использовал Гейне (баллада «Тангейзер», 1837); Блок, возможно, знал и эту ироническую версию. В его поэме конфликт легенды переключен в социально-этический план: чарам «сада», обольщениям красоты и «соловьиной песни» противопоставлена трезвая реальность труда и долга.
О героике долга, верности, чести и об искусстве, зовущем к высокому, говорил Блок в драме «Роза и Крест» (1912—1913). Лейтмотив ее – «радость-страданье» – был характерен для романтизма (Гейне в книге «Романтическая школа» вел его от христианской апологии мук подвижничества); в замысле пьесы Блока эти импульсы встретились с влияниями этики Достоевского, певца очищающего страдания. Содержание «Розы и Креста» объективировано. Поэт стремился соблюсти черты исторического правдоподобия, использовал бретонский фольклор.
Но задание пьесы не историческое, а психологическое (поединок самопожертвования и эгоизма, возвышенных и прозаических душ). «События идут, как в жизни», – писал Блок о пьесе, и этот уход от принципов лирического театра был для поэта закономерен.
Общезначимость эпики Блок все чаще противопоставляет «лирическим ядам» субъективистского творчества, приветствует «встречу» символистов с реалистами. В зрелом блоковском творчестве стих утрачивает свою зыбкую метафоричность, становится более предметным. «Здоровое», «реальное», «жизненное» – вот что, по словам поэта, волнует его все больше. И хотя Блок продолжал порой декларировать верность мистическому искусству (доклад «О современном состоянии русского символизма», 1910), в стихах он все больше отходил от символистского канона.
В начале 10-х годов Блок увлечен замыслом широкого полотна о судьбах личности и страны в переломную для России пору рубежа веков. Поэма «Возмездие» (1910—1911, 1916, 1921, не закончена) была задумана, по словам автора, как полное «революционных предчувствий» повествование о судьбах дворянской семьи. «Род, испытавший на себе возмездие истории, среды, эпохи», в лице своего последнего представителя, которого растит в глуши «простая мать», становится из объекта исторического процесса его субъектом, обретя право «творить возмездие» на баррикадах свободы. Емкие обобщенно-образные характеристики «железного» XIX в. и трагедийного XX, сулившего «невиданные мятежи», размышления о перспективах самодержавия и капитализма, которым равно грозит революционный шквал, общественно-политическая насыщенность событийного фона, где русско-турецкая война, действия народовольцев, победоносцевская реакция были увидены как пролог Цусимы и Девятого января, – все говорило о стремлении поэта к эпическому творчеству большого социального размаха. Для художественного мира «Возмездия» характерна намеренная попытка возродить стилевой строй пушкинских поэм: импульсы «Евгения Онегина» и «Медного всадника» ощутимы в содержании, жанровой специфике, в ритмико-интонационной окраске. Но дать новую жизнь традиции оказалось невозможным; в «Возмездии» Блок так и не пришел к «единой синтетической форме» (Л. Долгополов). Новаторским оказался экспрессивный «симфонизм поэмы «Двенадцать», запечатлевшей крушение старого мира под натиском революционной стихии.
А. БЕЛЫЙ
Рядом с Блоком среди русских символистов высится фигура Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева, 1880—1934), выдающегося поэта и прозаика XX в. Горячую дружбу Белого и Блока, возникшую в начале столетия из общности их мистических и литературных исканий, не раз подрывали острые конфликты, братская близость сменялась взаимным отчуждением. Пути обоих, общие в своем истоке, в дальнейшем значительно разошлись.
Сын известного ученого-математика Н. В. Бугаева, Белый, естественник и гуманитарий, был человеком разносторонней одаренности и глубоких знаний. «Он говорил о <Нильсе> Боре и Резерфорде, когда о них знали только узкие специалисты», – писала жена поэта. Наделенный острым чувством современности, глубокопереживавший общественно-политические сдвиги эпохи трех революций, Белый считал, что «Русь – на гребне волны мировых событий». Его влекли проблемы философии, социологии, этики, психологии; осваивая их творчески, он предвосхитил некоторые тенденции, возникавшие на стыке гуманитарных и точных наук. Поэт остался верен идеалистической презумпции перестройки человека и мира силами обновления «духа».
Космизм, который был присущ символистскому искусству (Бальмонт, Брюсов, Вяч. Иванов, Рерих, Чюрлёнис, Скрябин и др.), принял у Белого очертания поэтической фантастики, граничившей с близкой по времени реальностью. Стихи и прозу о звездоплавании на сказочном межпланетном корабле «Арго», вошедшие в сборник лирики «Золото в лазури». Белый писал в те же 1902—1903 гг., что и К. Циолковский работу «Исследования мировых пространств космическими приборами».
Свою смятенную, неуспокоенную судьбу Белый, не знавший «оседлости» и благополучия, сравнивал с участью брошенного в небо камня, обреченного на вечное скитальчество:
Как камень, пущенный из роковой пращи,
Браздя юдольный свет,
Покоя ищешь ты. Покоя не ищи.
Покоя нет.
Горький, признаваясь в 1922 г., что его «восхищает напряженность и оригинальность творчества Белого», увидел его «как планету, на которой свой – своеобразный – растительный, животный и духовный миры».
Белый-художник с юности искал непроторенных путей, был более других склонен к эксперименту. С задором новатора требовал он простора нетривиальному эстетическому ви́дению. Причисляя себя к «безумцам», которых Ницше считал пророками, Белый писал в начале века, предваряя бравады футуристов: «Да здравствует безумие: посшибаем очки трезвости с близоруких носов!» Поэта привлекала идея романтиков о единстве искусств и о музыке как главном из них, проникающем в сопредельные ей сферы слова, пластики, цвета. В трактате «Формы искусства» (1902) Белый варьировал мысли Шопенгауэра о музыке как «сути бытия».
Музыкальному началу стремился подчинить слово и Белый-писатель. Четыре его «Симфонии» (1900—1907, изд. 1902—1908) были попыткой строить повествование по принципу сонатно-симфонической формы, в которой спорят контрастные темы. Ви́дение мира в его «симфонических» противоречиях и единстве не было новым. Новалис воспринимал «мир как симфонию», Ф. Шлегель говорил о «сим-философии», а в «увертюре-симфонии» к комедии Тика «Перевернутый мир» то утверждалось, то иронически опровергалось право поэта «выражать мысли в музыкальных звуках и производить музыку словами и мыслями». Тип «музыкальной» организации повествования интересовал В. Одоевского; имитировать сонатные формы пытались русские декаденты 90-х годов (А. Добролюбов и др.).
Близкие к подобным исканиям «симфонии» Белого дали своеобразный художественный результат, подготовивший новаторство прозы его «Петербурга». Структурный принцип «симфоний», где сталкиваются разрозненные эпизоды, объединенные лишь авторским замыслом, оказался сродни приему кинематографического монтажа. Как и некоторые другие формальные эксперименты Белого, принцип «симфонизма», особенно избыточный и навязчивый в «Четвертой симфонии» («Кубок метелей», изд. 1908), имел свои издержки. Но прием монтажа дал поэту бо́льшую емкость повествования, позволил вести действие одновременно в разных пространствах и временах, сочетать контрастные планы, лаконично воссоздавать пестроту жизненного потока. Иные эпизоды «симфоний» воспринимаются как кадры киносценария:
3. В «Эрмитаже» давали обед в честь Макса
Нордау [...]; сегодня прогремел Макс Нордау,
бичуя вырождение [...].
4. Он братался с московскими учеными.
5. Мимо «Эрмитажа» рабочий вез пустую бочку;
она грохотала, подпрыгивая на мостовой.
6. Это Москва не нуждалась в Нордау.
(«Вторая симфония», ч. 2)
Лейтмотив в «симфониях» Белого – прием тотальный, проникающий во все сферы изображения и усложненный в своей знаковой функции, ритмических и фонических свойствах. В дальнейшем у Белого-прозаика роль лейтмотива будет особенно велика.
Содержание и структуру «симфоний» определял принцип символистского двоемирия. Но эстетическая значимость внешнего и глубинного планов нередко оказывалась неравноценной. Так заветная для Белого-мистика тема духовного подвига, победы светоносного героя над силами тьмы в посвященной Э. Григу «Первой (героической) симфонии» (1900) облекалась в метафоры традиционной сказочности и модных тогда полотен А. Бёклина с их кентаврами и фавнами. «Четвертая симфония», которую автор считал лучшим выражением принципов жанра, оказалась перегруженной субъективированными образами «метельной» стихии, символизировавшей то вьюгу земной страсти, то «белый» экстаз мистической любви, то «зычный» зов к воссоединению людей, «ко вселенской обедне». Как побочная возникала тема «метели» литературной; с иронией изображал Белый круговерть анархических теорий в символистской среде (с которыми он воевал в своих статьях). Но и эти эпизоды тонули в разливе мистических фантазий поэта, подчас трудно дешифруемых.
Более насыщенной впечатлениями реальности оказалась фактура «эмпирического» образного слоя во «Второй (драматической)» 1901 г. и третьей («Возврат», 1902), «симфониях». Здесь уже сказались присущие Белому зоркая наблюдательность, вкус к социальной и бытовой характерности, увлеченность многоголосием реального. Пародийные контроверзы планов Времени и Вечности, ирония и автопародия во «Второй симфонии», отличавшейся особенной причудливостью и остротой звучаний, напоминали о Вл. Соловьеве-сатирике, в чьих шуточных пьесах и стихотворениях проступала «поэзия нонсенса, балаганность, гиньоль» (З. Минц).
Мишенью своей сатиры во «Второй симфонии» Белый считал «некоторые крайности мистицизма». Действительно, пародийное изображение богоискательствующей интеллигенции заняло здесь большое место. Но это не только имевшие «групповую» подоплеку сатирические зарисовки Религиозно-философских собраний и их лидеров – Мережковского, Розанова. В стихию романтической иронии Белого вовлечено наряду с неприемлемым, низким также и высокое, заветное. Черты автопародии сквозят в насмешливой обрисовке «аскета»-соловьевца Сергея Мусатова. Едучи по российским ухабам в родовые Грязищи, он мечтает о великой роли России, чья «восточная кровь» оживит «скелет» погибшей Европы. Перед «подслеповатыми» очами Мусатова неприятно двоится лик Вечно-Женственного: вместо Жены, облеченной в Солнце, герою мерещится лицо светской кокетки в облаке рыжеватых волос: «она обмахивалась веером, отвечая глупостью на глупость». В сатирическом зеркале Белого претендовавшее на «жизнестроительную» роль мистическое движение (с которым был связан и сам поэт) выглядит как безвредное поветрие: «Сеть мистиков покрыла Москву. В каждом квартале сидело по мистику, квартальному это было известно». Для иронии Белого нет ничего святого. Вл. Соловьев трубит в свой пророческий рог, шествуя по московским крышам. Он предрекает спящей Москве близкий восход «Солнца любви», а няньки крестят детей, напуганных странным звуком. В гротескно-фантастической сцене похорон «великой блудницы» Европы за гробом идут «самые страшные» ее могильщики – Ибсен, Ницше, Л. Толстой, Метерлинк, Рёскин. Но и о них повествуется саркастически: «толстокожий Емеля Однодум» топором «строгал щепку, приговаривая: „По-мужицки, по-дурацки, тяп да ляп и вышел карапь“». А рядом шел «сэр Джон Рёскин, перепутавший понятия добра, истины и красоты».
Ткань второй и третьей «симфоний» прошита яркими штрихами русской жизни начала века в ее социальной и временно́й характерности. Журфиксы у «аристократического старичка», который «не чуждался направлений», и толпы утренних улиц, спешившие в «притоны работы», литературные вечера, где «заигрывали с Ницше», а с Достоевским обращались «запанибрата» – и давка в «магазине всего модного». «Одинокий крестьянин, босой и чумазый», что «затерялся где-то среди нив» – и молодой философ, до умопомрачения «зачитавшийся Кантом». Спектакль ибсеновского «Бранда» в Художественном театре и споры о вреде радиоактивности в университетской пивной. Голодный поэт и процветающий буржуа, пожелавший купить у художника созданное им «чудо», – таковы лишь некоторые фигуры и сцены мозаик Белого, обрамляющих мистическое ядро симфоний.

Андрей Белый
Портрет работы Л. С. Бакста. 1906 г.
Примечательна попытка автора «Возврата» сатирически обозреть новый для читателя мир факультетов и лабораторий. На его фоне дана окрашенная авторским лиризмом фигура пролетария от науки. Магистрант университета Евгений Хандриков, чьи родители «были люди бедные» и кто «уже восемь лет бегал в лабораторию и уже плевал кровью», удручен жестоким и нелепым порядком вещей, при котором труд лишает человека души, давая взамен «лишь необходимое право на существование». Его пугает одиночество в большом городе, где людей объединяет только маршрут конки (все они проделывали «одно общее дело: мчались по Воздвиженке к Арбату»). И хотя метафизическая предыстория Хандрикова-ребенка на берегу довременного моря может быть понята как «руссоистское» иносказание безмятежного детства человечества в его изначальном единстве с природой, хотя в глубинном слое «симфонии» ущербное бытие Хандрикова лишь модель «земного плена», этого второго звена мистической коллизии «вечного возвращения» (почерпнутой Белым ближайшим образом у Шопенгауэра и Ницше), реальный план истории магистранта имеет свою эстетическую и нравственную ценность.
Сквозь завесу романтико-утопических представлений в «симфониях» Белого проступал облик уродливой действительности, этого царства «счёта» и «свинарни», где «каждый боялся взглянуть в глаза правде». Здесь впервые у будущего художника-урбаниста вставала мрачная тень буржуазного города с его «бойнями» и «богадельней», хулиганом и обывателем, тупой скукой повседневности и мечтой художника о «чуде». Импрессионистическая разрозненность монтируемых Белым «кадров», алогичные сопряжения мотивов и тем приобретали содержательный смысл, становясь знаками крайней нелепицы сущего. Подобная «поэтика тождества», заявленная, как упоминалось выше, еще А. Рембо, дала у Белого уже на первом этапе его творчества выразительный результат.
Своеобразным явлением младосимволистского творчества стал сборник Белого «Золото в лазури» (1904). Как и у Блока в «Стихах о Прекрасной Даме» (хотя у Белого любовная тема снята), ощущение полноты бытия, восторг перед красотой природы, молодой порыв к высокому подчинены вере в духовное обновление мира. В соответствии с мистической экзальтацией лирического «я» образность Белого здесь пышно расцвечена. Напор ярких зрительных впечатлений призван не только передать «духоподъемное» настроение современника начинающегося бурного века, это было уже в сборнике «Будем как Солнце» Бальмонта, который, по словам Белого, «тонул в ликовании мира». У Белого же праздничные краски земных и небесных пейзажей, «розы» зорь, «золото» нив, воздушная «лазурь» и «снега» облаков становятся знаками близящегося преображения бытия; колорит имеет не один эмоционально-психологический, но и метафизический смысл.
В прихотливом репертуаре сборника преобладали стихи и проза, окрашенные соловьевскими тонами. Вновь возникли звучавшие в «симфониях» темы духовного подвига, бегства «сквозь время» к «возлюбленной Вечности», вставал образ поэта, чей «зов» пробуждает к борьбе с «горестным мраком» земного (стихотворения «Путь к невозможному», «Образ Вечности», «Душа мира» и др.). Восхождение к идеалу виделось как покорение скалистых вершин («На горах»), как штурм неба. В стихотворениях «Золотое руно», «За солнцем», в рассказе «Аргонавты» межпланетный полет ассоциировался с плаванием аргонавтов, героев античного мифа о золотом руне:
Зовет за собою
Старик аргонавт,
взывает
трубой
золотою:
«За солнцем, за солнцем, свободу любя,
Умчимся в эфир голубой!..»
«Аргонавтами» называли себя, подразумевая героику духовного поиска, участники возникшего в начале века содружества московских поэтов-символистов (Белый, Эллис, С. Соловьев) и нескольких молодых ученых, студентов. «Жизнестроительные» надежды «аргонавтов» питались не только идеями Вл. Соловьева, но и проповедью Ницше, в котором видели разрушителя окостеневшей системы ценностей и пророка нового бытия (А. Лавров). «Золоторунная» эмблематика распространится в символистском искусстве (сб. стихов Эллиса «Арго», журнал «Золотое руно», 1906—1909). В рассказе-утопии Белого «Аргонавты» первый звездоплан, златокрылый Арго, с его командором, «великим писателем», погибал в мировом пространстве, но через сто лет «флотилии солнечных броненосцев вонзались в высь, перевозя человечество к Солнцу». Завоевание «солнечного» символизировало обретение духовно-нравственных высот – то́ сердце, что «солнцем зажжено», противостоит мраку, обретает отсветы вечного (стихотворение «Солнце»).
Порыв к гармонии осложнялся у Белого, в духе присущей ему диалектики иронии и пафоса, сомнениями в достижении идеала, самообличениями поэта-пророка, который «слишком рано... к спящим воззвал». Возникали мотивы несостоявшегося чуда, тщетного ожидания мессии, горечи духовного одиночества («На закате», «Возврат», «Один», «Кладбище»). Драма слишком раннего предтечи «священных дней» обозначена в цикле «Багряница в терниях» евангельской метафористикой. Лирический герой здесь то осмеянный «Спаситель» с его напрасной «мольбой за всех», то безумец «с робким взором ребенка», наивно пытавшийся «разбудить» человечество («Возмездие», «Мания», «Жертва вечерняя», «Безумец»). Но, пройдя «сквозь огонь диссонанса» (Белый о сдвигах в развитии своих тем), верность соловьевским заветам звучала в финале книги с новой убежденностью: «вещее» сердце поэта «радостно чует»
близость «священной войны» во имя идеала.
Атмосферу высоких вдохновений Белый разряжал причудливо обытовленной фантастикой «низших» природных сил, знакомой по первой симфонии (гномы, силены в цикле «Образы»), или гротесками старинного и современного быта (цикл «Прежде и теперь»). «Прежде» навеяно ироническими стилизациями XVIII в. у К. Сомова и других художников «Мира искусства». Более перспективным для Белого оказалось «теперь» – насмешливые зарисовки современного быта, продолжившие начатое в «симфониях» художественное освоение жизни.
Характерный сдвиг от надмирного к земному, русскому, крестьянскому запечатлела лирика А. Белого 1904—1908 гг., окрашенная драматическими переживаниями времени. Она составила сборник «Пепел» (1909); мистические надежды и личные мечты поэта здесь словно сожжены и развеяны суровыми ветрами реальности. Посвященная памяти Некрасова и открывшаяся словами «Мать отчизна! Дойду до могилы, не дождавшись свободы твоей!» книга Белого полна горестных и гневных впечатлений скудости, бесправия многострадальной русской деревни. В картинах Белого теперь не «золото в лазури», а «свинец облаков», косые дожди, овраги с чертополохом, зловещие кабаки, «убогие стаи избенок». Лихие ветры гонят по бескрайним просторам нищих, странников, беглых арестантов («Каторжник», «Бурьян», «Шоссе», «Осинка», «Бегство», «Путь» и многие другие в циклах «Россия», «Деревня», «Горемыки»). Как собственную переживает поэт народную беду; его лирический герой – в рубище бродяги, «стертого» просторами в «злых» полях, гибнущего «на рельсовом пути», «вздернутого» на виселицу. Впоследствии Белый подчеркнет, что подобные образы помимо их реальной сути – знаки владевших им тогда настроений отверженности, непонятости, одиночества в прежде близкой среде. Подобные эмоции сгущаются в цикле «Безумие», где возникают мотивы бегства героя из палаты умалишенных, и в остро гротескных сценах post mortem, напоминающих о Гейне и Случевском; как и Анненский, Белый рисует в тонах «черного юмора» романтиков картину собственных похорон:
Приходите, гостьи и гости, —
Прошепчите «О боже»,
Оставляя в прихожей
Зонты и трости:
Вот – мои кости.
........
Меня несут
На страшный суд.
........
Мне приятно.
На желтом лице моем выпали
Пятна.
Подобных «кощунственных» нот немало и в бесшабашных сценках «Веселия на Руси», в песнях «Камаринской» и «Хулиганской» с их «балалаечной лихостью... плясовых ритмов» (Т. Хмельницкая); они перебивали преобладавшие в «Пепле» интонации «рыдающего отчаяния».
В цикле «Город» примечательны отзвуки революционных дней, уличных митингов, демонстраций, где слышится и «Вы жертвою пали», и «частый, короткий треск револьверов». Пророческими чертами наделен образ революционера в стихотворении «Народный вождь» («Пока над мертвыми людьми»), написанном в 1907 г.
Параллельно «Пеплу» Белый работал над сборником «Урна» (1909). В заглавии его – все та же тема утрат: «пепел», тягостных переживаний и дум собран в поэтическую «урну». Ее форму, отмеченную влияниями Баратынского, Тютчева, Брюсова, автор отделывал особенно тщательно: в то время он был увлечен исследованиями русского классического стиха (вошли в книгу статей «Символизм», 1910). Строфы «Урны» – история разочарований поэта, сердечных и интеллектуальных. В циклах «Зима», «Тристии», «Думы» отразились «любви неразделенной муки», надрывное чувство к Л. Д. Блок. Стихи раздела «Философическая грусть» – окрашенные иронией и юмором признания поэта об увлечении «искусителем» Кантом и разочарованиях в кантианстве и неокантианцах, носителях иссушающей «премудрости»: «Жизнь, – шепчет он, остановясь // Средь зеленеющих могилок, – // Метафизическая связь // Трансцендентальных предпосылок». Давшая ряд ритмических и фонических новаций в рамках классического стиха, «Урна» с ее «поэзией сердца» обозначила новую грань в лирическом мире Белого.
Линию своеобразного народничества «Пепла» продолжил роман «Серебряный голубь» (1909). Разбуженная событиями 1905 г. среднерусская деревня, которая уже не ломает шапки перед барами и помнит «девято января», доживающая век усадьба престарелой баронессы, само «западное» имя которой – Тотрабе-Граабен – говорит о чуждом и хищном, но мертвом; мещане, купцы, пестрый люд городка Лихова изображены здесь Белым в их социальной и бытовой характерности, даны объемно, сочно. Богатство красок отличает и языковую стихию романа. Белого влечет «духомётное» народное слово, возросшее под спудом «неряшества» и темноты. Он насыщает текст фольклорными речениями, диалектной лексикой, порой избыточно цветистой. Проза «Серебряного голубя» – проза поэта, она напевна, ритмически и метрически организована, оснащена инверсией, повторами, звукописью. Особенно тонка грань между прозой и стихом в лиризованных пейзажах (см., например, предвосхищающие метрику «Петербурга» вереницы трехсложников в зачине второй главы романа: «В день же, дождливый и серый, бедные, серые избы так сиротливо припали к бедной и серой земле, что было сквозь дождь различить их никак невозможно»).
Сказ «Серебряного голубя» полифоничен. Сквозь речевую маску рассказчика-очевидца с его просторечьем и насмешливой интонацией, напоминающей о повествователе гоголевских «Вечеров», то и дело пробивается авторский голос, исполненный патетики и лиризма, а в книжную речь главного героя вторгается устно-поэтическая образность. В языковой сфере повести как бы явлен ее идейный замысел об искомом взаимопроникновении народного и интеллигентского начал (Е. Старикова). В сюжете он дан как история студента Дарьяльского, «филолога, барина, поэта», отрешившегося от западничества ради спасительного идеала «Руси». На ее просторах герой пытается найти себя, подобно лирическому субъекту «Пепла» либо «Осенней воли» Блока и его «Песни судьбы». Дарьяльский оказывается связанным с сектантами. Уйдя из усадебной тишины и от утонченной Кати, он попадает под власть грубых чар крестьянки Матрены, «богородицы» секты «голубей». В союзе с ней видится ему мистическое воссоединение с народной стихией, пророчащее «будущий лик жизни». Но поиски этого «лика» в темных глубинах народной веры оказываются тщетными. В финале романа деревня исторгает чужака; Дарьяльский гибнет от рук изуверов, успев понять, что Матрена – «звериха», а в сектантстве – «ужас, петля и яма: не Русь, а какая-то темная бездна востока прет на Русь из этих радением истонченных тел».
В предисловии к изданию «Серебряного голубя» Белый назвал его первой частью трилогии «Восток или Запад». Но она не была создана. «Огненный» вопрос о «восточном» и «западном» в судьбах России Белый поставил и в своем главном произведении, романе «Петербург» (1911—1913). Время действия его – октябрь 1905 г., и в основе фабулы – политически злободневная ситуация покушения на влиятельного царского сановника. Как и в «Мелком бесе», общественный смысл приобрел внешний план романа Белого – гротескно-сатирическое разоблачение отжившей бюрократической государственности; ее олицетворяет «Глава Учреждения», сенатор Аблеухов, мертвенный старец с лицом, похожим на «серое пресс-папье» (один из прототипов Аблеухова – реакционер Победоносцев). «Антигосударственный» замысел романа затруднил печатание «Петербурга», отвергнутого редактором «Русской мысли» П. Струве.








