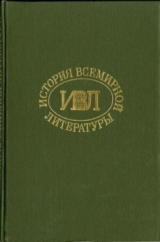
Текст книги "История всемирной литературы Т.8"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 77 (всего у книги 101 страниц)
Понятие «ренессанс» применительно к поэзии США 10-х годов, разумеется, допустимо лишь в качестве метафоры, и не только потому, что масштаб явления не соответствует значительности термина. 1912 год действительно стал определенным рубежом, но скорее волею случайности, чем логикой художественного развития: взлет подготавливался, по меньшей мере, с начала века. Авторам и редакторам «Поэтри» казалось, что они начинают на пустом месте, но они заблуждались. Своими предшественниками они считали Уитмена и Бодлера, однако был и предшественник, гораздо более близкий во времени, – их старший современник Эдвин Арлингтон Робинсон (1869—1935).
Многих американских поэтов впоследствии увлекла идея, которой поэзия США обязана книгам Робинсона, появившимся еще на исходе прошлого столетия: выстроить свою модель причудливо меняющейся действительности, рассказав о провинциальном городке, в чьей однообразной жизни то явственным, то далеким отголоском отражаются тревоги времени. У Робинсона контуры этого городка – перекрестка судеб, драм, конфликтов, – появились уже в сборниках «Дети ночи» (1898) и «Капитан Крейг» (1902).
Рожденный его воображением Тильбюри-таун был до неразличимости схож с десятками скромных городков Новой Англии, где прошла юность поэта. Впоследствии он сделался ньюйоркцем, служил контролером в метро, потом стал чиновником на таможне, был замечен президентом США Р. Рузьвельтом, любившим покрасоваться в роли мецената, и получил возможность целиком посвятить себя литературе. В жизни Робинсона происходили перемены, но в его поэзии они не находили прямого отклика. Он все так же обитал в своем Тильбюри-тауне, где разыгрывались невидимые миру человеческие драмы, а монотонность будней приглушала устремления людей к добру и красоте. Образ Тильбюри-тауна, окончательно сформировавшийся в лучшей книге Робинсона «Городок вниз по реке» (1910), сохраняя достоверность непосредственного свидетельства, приобрел добавочные измерения: летопись человеческих разочарований и надежд, хроника повседневности перерастала в своего рода лирический эпос движущейся истории.
Река исторического времени словно бы разбивается на множество протоков, рукавов, стариц, а то и вовсе иссякает в душноватой атмосфере тишайшего захолустья. Но ее глубинное течение непрерывно. Социальный контекст стихов Робинсона – это «позолоченный век», эпоха меркантилизма, торжествующей буржуазности. Он первым заговорил о надломе, апатии духа, кризисе веры, утилитаризме этических принципов, о невозможности достичь гармонии бытия, выразив ощущение жизни, возникшее в условиях бездуховной, антигероической действительности рубежа столетий, и найдя тему, которая стала одной из самых значительных для американской поэзии нашего столетия.
Он писал стихи, проникнутые грустной иронией и неясной мечтой о более гуманных отношениях между людьми. Мир, окружавший Робинсона, казался ему лишь неудачной копией подлинно гармоничного мира, который появляется в его поэзии вместе с образами людей шекспировской эпохи или героическими фигурами тогда еще близкой американской истории – Линкольном, Джоном Брауном. Высокий этический идеал, воплощенный в этих персонажах его лирики, находится в резком, подчеркнутом несоответствии с духовной опустошенностью и убогим практицизмом, всевластным над обитателями Тильбюри-тауна. Робинсона болезненно ранили свидетельства распада человеческой личности и крушение естественных нравственных норм. Его Тильбюри-таун выглядит городом без авеню и площадей, городом переулков, упирающихся в пустыри, городом индивидуалистов, отгородившихся от соседей глухой стеной, за которой скрыты повседневные драмы несостоявшихся жизней.
«Разнобой между призваньем и судьбой» – вот, пожалуй, самый неотступный мотив его стихотворений, обычно представляющих собой лаконичные портреты-характеристики провинциальных жителей. Сарказм и жалость к этим людям переплетаются в его книгах настолько тесно, что сравнительно очень редки как образцы беспримесной сатиры, так и создания истинной лирики. Робинсон не отделял себя от тех, о ком писал. По Тильбюри-тауну он бродил не как сторонний наблюдатель. И даже в самых мрачных по колориту стихотворениях он не был пессимистом, отчаявшимся когда-нибудь изменить существующий порядок вещей. Ценность личности и ее неповторимого жизненного опыта для Робинсона не может быть зачеркнута, даже если человек по лености и по неумению бороться с обстоятельствами, подобно одному его персонажу, «различая вкус всех вещей, понятья не имел о Хлебе Жизни».

«Международная выставка современного искусства» Армори
Нью-Йорк, 1913 г.
По своему мировосприятию, да и по особенностям поэтики Робинсон оставался романтиком, завершая великую традицию, которая восходит к Брайанту и Э. По, но вместе с тем во многом он принадлежал новой эпохе, начавшейся на рубеже столетий. Его романтические представления о социальном процессе, как и этический ригоризм, сразу выдающий в Робинсоне наследника пуританской традиции, выглядели старомодно на фоне социологических увлечений и бунтарских порывов тех поэтов, которые начинали в «Поэтри». Однако новое поколение сумело по достоинству оценить содержательную емкость созданных Робинсоном картин и восприняло его книги как явление реализма, становившегося главным художественным ориентиром для молодой поэзии. Микромир Тильбюри-тауна был воспринят как модель макромира Америки. В сборниках Робинсона прочли не просто о провинциальных драмах, но об упадке американского духа и узнали собственные истоки в этой панораме одноэтажной Америки, где люди точно заживо погребены, хотя и продолжают жить, тосковать, спиваться и оплакивать карточные домики рухнувших надежд.
«Человек на фоне неба» (1916) – последняя книга лирико-философских стихотворений Робинсона, она была признана одним из крупнейших литературных событий эпохи, пусть в ней лишь завершалась работа, начатая еще в «Детях ночи» восемнадцатью годами раньше. Робинсону остался чужд верлибр, который вдохновлял почти всех новых поэтов 10-х годов, хотя, превосходно владея ямбом, он все чаще отходил от классических образцов, прозаизировал стих, отказывался от рифмы. Поздний период его творчества отмечен увлечением большой формой и мифологическими сюжетами, связанными главным образом с легендами артуровского цикла. В собрании сочинений Робинсона поэмы конца 10-х и 20-х годов («Мерлин», 1917; «Ланселот», 1920; «Тристрам», 1927, и др.) занимают несколько томов, но в историю литературы он все-таки вошел прежде всего как творец Тильбюри-тауна, соединивший в поэзии США век минувший и век нынешний. Он наметил принципы реалистической поэтики, которую исповедует следующее поэтическое поколение, выступившее в 10-е годы.
Общим для этих поэтов было чувство исчерпанности романтической традиции и интерес к поискам европейской литературы и живописи начала века, общей была и страсть к эксперименту, жажда обновления арсенала выразительных средств. Преодоление эпигонских тенденций, отказ от условностей, приводивших к странному разделению явлений действительности на «поэтические» и «непоэтические», отрицание канонов, требующих классической метрики, строфики, рифмы, едва ли не единодушное пристрастие к верлибру, воспринятому не только как стиховая система, а еще и как определенный способ видеть и изображать мир, – все это, за редкими исключениями, было присуще поэтам, начинавшим в 10-е годы и решительно вознамерившимся перевернуть бытующие представления о сущности и призвании искусства поэзии.
Заговорили о «поэтической революции» – поспешно и неточно. Понимаемая как создание некоего всеобщего современного стиля – поверх резких различий в мировоззрении, проблематике и традициях, подобная «революция», конечно, не могла состояться. Деятельность «Поэтри» подтверждала это с непреложностью. Перед участниками журнала стояла общая цель. Необходимо было найти действенные формы, средства, принципы ви́дения, которые позволили бы поэзии передать облик современной действительности, выразить особенности сознания человека новой исторической эпохи.
Однако не мог не возникнуть и вопрос об отношении к этой действительности и о содержательных функциях обретенного к середине 10-х годов художественного языка, необычного даже на фоне поэтики таких близких предшественников, как Уитмен или Робинсон. Разумеется, новая поэтика была содержательной и в процессе своего становления. Но до известной черты эта содержательность оставалась замкнутой рамками формального обновления: дело шло о том, чтобы найти образные соответствия ритмам урбанистической реальности, распаду традиционных норм жизни, строю чувств отчужденной личности, перестающей ощущать единство своего частного и социального бытия.
Эзра Паунд (1885—1972), уже в 10-е годы приобретший авторитет не только крупного поэта, но и главного теоретика молодой поэзии США, считал задачу всестороннего обновления художественного языка предусловием того нового эстетического качества, которое в ту пору он называл реализмом. Его понимание реализма была достаточно узким, исчерпываясь требованием точного свидетельства о текущей действительности и точного слова взамен пустых красивостей и банальностей, пленявших воображение поздних викторианцев, а тем более их эпигонов. Черпая свои идеи преимущественно из французских источников – из эстетики Флобера, из творческого опыта Стендаля, Паунд не находил в американских художественных традициях ничего подлинно органичного формирующейся поэтике «точного слова». Уитмена он отверг за «выспренность» и патетику, но, впрочем, еще резче отозвался об адептах «благопристойности», по примеру Стедмэна и Олдрича пестовавших чахлые оранжерейные цветы «чистого искусства».
Уже в первых выступлениях Паунда как теоретика и критика можно обнаружить идеи, в дальнейшем ставшие фундаментом и его элитаристской концепции искусства, и модернистской эстетики в ее американском варианте. Однако провозглашенное им требование реализма как единственной поэтики, способной покончить в искусстве с «декламирующей личностью» и передать подлинную атмосферу современной жизни, для 10-х годов было существенным и актуальным. Не случайно предложенные Паундом эстетические принципы были поддержаны всем тогдашним поколением поэтов. А его деятельность в качестве фактического редактора «Поэтри» и европейского корреспондента журнала способствовала творческому становлению поэтов самой разной ориентации, включая и таких значительных мастеров реализма, как Сэндберг и Фрост.
При кажущейся парадоксальности ситуации, когда бесспорный лидер модернизма играет важную роль в создании реалистической поэтики, подобное положение для 10-х годов по-своему неизбежно. Неспособность выразить время теми художественными средствами, которыми, исключая Робинсона, довольствовались версификаторы времен «сумеречного промежутка», ощущается единодушно и болезненно, борьба за новый язык становится борьбой за новое зрение, за будущее американской поэзии. Паунд с его организаторскими талантами, тонким вкусом, европейской образованностью и способностью предугадывать тенденции художественной жизни воспринимается как воплощение подлинно творческих и бунтарских веяний поэтической эпохи (так будет и в 20-е, даже в 30-е годы, пока не выяснится истинная природа его радикализма и подлинный характер этой эстетики, неизбежно приводящей к герметичности).
Лозунг Паунда – «творить, обновляя» – становится лозунгом «Поэтри», а можно сказать, и всей молодой поэзии США. Для 10-х годов это перспективный, даже необходимый принцип. Он помогает освободиться от обветшалых эстетических норм, которые утверждали поздние романтики, и, без предвзятости оглядывая полученное художественное наследие, выделить в нем то, что действительно плодотворно: прежде всего Уитмена и Бодлера, которым суждена такая завидная судьба в поэзии XX в. Он способствует творческому пересмотру традиций, обогащаемых экспериментами нового поэтического поколения, чтобы из этого сплава возник художественный язык, которого требует время.
Но универсального «современного стиля» при этом не возникает. Слишком разнородны компоненты складывающейся поэтики, и слишком неоднозначно содержание, которым для каждого крупного поэта обладает само понятие современного эстетического языка. Даже верлибр, решительно потеснивший правильный стих, принят не всеми – Фрост, например, заявляет, что писать верлибром – значит играть в теннис без сетки. Еще существеннее, что сам верлибр принципиально несхож у столь последовательных его приверженцев, как, например, Сэндберг и начинающий Уильям Карлос Уильямс. Скорее их связывает урбанистическая образность и установка на предметность изображения. Но, например, в стихах Паунда преобладает совсем иной тип художественного мышления: мотивы, традиционные для мировой поэзии с древнейших времен, и жанры, обладающие многовековой историей, наполняются содержанием, актуальным для новейшей эпохи, и возникающий контраст оказывается главной поэтической идеей. Приметой «современного стиля» становится включение в ткань стиха «сырой» информации – газетных заголовков, обрывочных реплик из подслушанного разговора и т. п., – но таких форм решительно избегал не только Робинсон, а, к примеру, и Мастерс, один из наиболее ярких поэтов новой волны.
Можно говорить лишь о некоторых общих направлениях развития поэтики, наметившихся в 10-е годы и доказавших свою неслучайность последующим опытом. Одно из таких направлений обозначил верлибр уитменовского типа, однако по сравнению с «Листьями травы» строже организованный, отличающийся тяготением к «неустойчивому метру» (термин У. К. Уильямса). Другое направление обозначено урбанизмом, если иметь в виду не только преобладание образов, почерпнутых из повседневности большого города, но сам характер ассоциаций и метафор, несущих на себе следы мироощущения, складывающегося в индустриальном технизированном, динамично развивающемся обществе. И наконец, третье направление, наметившееся в 10-е годы, связано с перестройкой поэтического словаря, происходившей активно, хотя и совершенно разными способами: с одной стороны, все более широкое использование лексики обыденной жизни, жаргона, социально окрашенного диалекта, с другой – столь же интенсивно используемая архаика, книжность, многозначность слова-символа, абстрагированного от своей житейской семантики.
Содержание, выраженное с помощью всех этих новых средств, оказалось настолько разным, что уже к концу 10-х годов не приходилось говорить о единстве молодой американской поэзии в борьбе против эпигонов и приверженцев «благопристойности». Пропагандируемый Паундом реализм стал художественным фактом, но сам Паунд остался в стороне от поэтов, избравших реализм как свой творческий принцип. Паунду, а также дебютировавшему в 1915 г. Т. С. Элиоту было суждено стать наиболее значительными поэтами модернистской ориентации, создателями американского модернизма, возникшего из авангардистских экспериментов 10-х годов.
В отличие от Европы Америка не знала пестроты авангардистских течений и школ. Авангардизм, в сущности, остался не более чем непродолжительным этапом творческой эволюции Паунда, Элиота и Уильямса, позднее – в 20-е годы – выдвинув еще и яркую, своеобразную фигуру Каммингса. Тем не менее это явление существовало, а в 1912 г. даже возникла единственная в американской поэзии школа авангардистского типа – имажизм.
Правда, имажизм в равной мере принадлежит и истории английской поэзии.
Кружок имажистов сложился в Лондоне в 1908—12 г. Теоретиком школы был английский философ Т. Хьюм, фактическим руководителем – Паунд. В 1914 г. вышла составленная Паундом антология «Имажисты», представившая помимо составителя тогда еще никому не известных Эми Лоуэлл, Джона Гулда Флетчера и Хилду Дулитл, подписывавшуюся инициалами Х. Д., а также англичан Ф. М. Флинта, Ричарда Олдингтона и Дэвида Герберта Лоуренса (двое последних в дальнейшем стали известными романистами). Читатели «Поэтри» имели возможность познакомиться с имажистским творчеством еще раньше.
Имажизм просуществовал недолго – лишь до конца первой мировой войны. Паунда вскоре увлекли совсем иные художественные идеи, а Эми Лоуэлл явно не годилась в вожди поэтического движения. Впрочем, это причины скорее внешние. Имажистские антологии (всего их вышло четыре) выполнили свою роль, помогая общему в те времена движению нереалистической американской литературы от декаданса к модернизму. Собственной эстетики у имажистской школы, строго говоря, не было. И после того, как сложилась художественная система модернизма, имажисты сошли со сцены стремительно и почти незаметно.
Имажизм объединял одаренных и ищущих поэтов. Некоторые из них сумели создать подлинные художественные ценности. Античные стилизации Хилды Дулитл, ее прозрачный, легкий стих и емкая – при всей внешней безыскусности – образность восхищают и сегодня. Флетчеру принадлежат интересные опыты синтеза выразительных средств поэзии и живописи, он ближе других американских поэтов подошел к импрессионизму.
Однако в целом имажизм был явлением творчески бесперспективным. Хьюм сразу же заявил о том, что цель имажизма – «точное изображение», основывающееся на предметности и конкретности. Тематика была объявлена «нейтральной» и несущественной. Ей надлежало отступить перед «чистой» образностью, истолкованной как «объективная задача стиха». За этой декларацией стоял вызов романтической эстетике, и более того – гуманистической концепции человека, на которой основывалось романтическое видение. Хьюм и не скрывал этой «сверхзадачи» изобретенной им имажистской доктрины. Подобная ориентация в дальнейшем сыграла резко отрицательную роль в творчестве самых значительных из восприемников хьюмовских идей – Паунда и Элиота.
Эстетическим эквивалентом нравственных и философских воззрений Хьюма был «неоклассицизм», порывающий с идеей непосредственного личностного переживания как материала художественного творчества, и шире – с искусством подражания природе. Подражанию природе противопоставлялось «абстрагирование» от природы, т. е. искусство, основанное на идее сконструированности. «Объективная задача стиха» сводилась к тому, чтобы вычленять из сложной системы связей и отношений тот или иной «объект», и, произведя эту операцию, по возможности преодолевать субъективное, личное к нему отношение с целью выявить некие изначально присущие «объекту» свойства. Эти свойства и есть первоматерия художественного образа. Все прочее – не более чем следы романтического апофеоза личности, уже неспособного соответствовать духу дегуманизированной эпохи.
Поэт должен стремиться к точности изображения, ясности языка и суггестивности: стихотворение – непременно краткое, в идеале приближающееся к формам японской классической лирики, – сообщает минимум «информации», но подразумевает (суггестирует) некую поэтическую реальность, где имажистский образ включен в целую систему художественного мироощущения. Искусство, к которому приводит имажизм, по мысли Хьюма, будет являть собой совокупность «элементарных геометрических форм, знакомых еще художникам далекой древности, но вместе с тем заметно усложняющихся, поскольку такие формы ассоциируются в нашем сознании с идеей машины».
«Классическим» имажизмом остались лишь пять стихотворений самого Хьюма – лишенные всякой поэзии иллюстрации к собственным тезисам, далекое предвестие опытов комбинаторного стихотворчества с помощью ЭВМ. Никто из поэтов, сходившихся на лекции Хьюма в лондонском кафе осенью 1912 г., так и не смог добиться такой формализации стиха и такого обеднения лирики, которого требовал этот ранний пропагандист геометризированного творчества, убежденный, что оно станет магистральной дорогой современного искусства. У имажизма были свои завоевания: он сумел пошатнуть взгляд на поэзию как на бесконтрольное «лирическое» словоизвержение, перетряхнул рухлядь бесчисленных эпигонских баллад и медитаций, авторы которых молились на Теннисона. Он возвратил поэзии строгость формы. Когда имажисты решались освободить из-под жесткого контроля лирическое переживание, их поэзия порою приобретала и содержательность, и глубину.
Но происходило это вопреки принципам самого имажизма. Чем строже выдерживались эти принципы, тем нагляднее выступала формалистическая природа всего имажистского экспериментаторства. Вскоре началась война, и даже самые последовательные из имажистов ощутили лабораторность, безжизненность своих исканий.
Как художественное явление имажизм остался на периферии литературной жизни США 10-х годов, хотя и заявлял о себе достаточно шумно. Гораздо более значительными в творческом отношении были искания Паунда и Элиота, впрочем тогда еще не совсем сложившихся и принадлежавших скорее межвоенной поэтической эпохе. 10-е годы остались важным подготовительным этапом в истории американского модернизма. И все же «поэтический ренессанс» – это прежде всего эпоха, когда формируется и утверждается в своих правах реалистическое направление, которое в ту пору и выдвинуло нескольких очень значительных американских поэтов XX столетия.
В 1913 г. дебютировал Роберт Фрост (1874—1963). Книга, названная – по строке Лонгфелло – «Воля мальчика», была начата поэтом еще в юные годы, когда, из-за нехватки средств оставив университет, он поселился на ферме в Нью-Гэмпшире и чередовал труды на пашне с преподаванием в близлежащей школе. Книга была дописана в Англии, куда Фрост с семьей перебрался в 1911 г., вскоре сблизившись с поэтическим кружком «георгианцев», которые тоже вдохновлялись красотой сельских ландшафтов и традициями романтиков, воспевавших природу. Впрочем, Фроста не влекли обычные у «георгианцев» мотивы противопоставления города-«левиафана» и идеализированной деревни. Уже первые его книги поразили глубоким историзмом восприятия действительности – качеством, чрезвычайно редким в тогдашней поэзии. Наследуя, как и близкий ему Робинсон, романтическую традицию, Фрост сумел обогатить ее подлинно актуальным художественным содержанием, обнаружив в повседневной жизни сельской Новой Англии конфликты и драмы, отмеченные тем своеобразием, которое принес XX век. Простота, безыскусность, кажущаяся старомодность его стихов резко выделили Фроста, но читатели не обманулись, почувствовав в этих драматических монологах и пейзажных зарисовках отголоски коллизий, возникших уже в наше время.
Фрост отверг свободный стих, остался равнодушен к урбанизму, язвительно отзывался о стремлении прозаизировать поэзию, а для самого себя избрал «старый способ быть новым», сохранив верность классическому белому ямбу и жанрам, восходящим к елизаветинской эпохе. Его творческий путь длился пять десятилетий, и вплоть до последней своей книги «На вырубке» (1962) Фрост постоянно выслушивал упреки в архаичности и консерватизме. Он и впрямь казался островом, расположенным, правда, неподалеку от материка американской поэзии, но все-таки отделенным от этого материка довольно широким проливом. Новизну его «старого способа» – философскую емкость конфликтов, разыгрывающихся в «Смерти батрака» или «Починке стены», сложность содержания, вмещаемого авторским «я» этой лирики, необычность оттенков, которые, по словам самого поэта, «обогащают мелодию драматическими тонами смысла, ломающими железные рамки скупого метра» – всего этого не замечали, и сменилось несколько поколений критиков, прежде чем пришло подлинное признание. В 20-е и 30-е годы нередки были даже обвинения в конформизме, грубо тенденциозные и свидетельствующие прежде всего о непонимании особой природы дарования Фроста.
Впрочем, и по сей день Фроста то и дело изображают лишь как певца Новой Англии, простого крестьянского труда и бесконечно прекрасной сельской природы. Это крайне одностороннее восприятие его лирики. Менее всего производит она впечатление умиротворенности. Ей присуще органичное ощущение глубокого разлада бытия, растущей отчужденности человека от природы, кризиса естественных и справедливых отношений между людьми, которые трудятся на одной земле и обитают в замкнутом, внешне почти неподвижном космосе сельской общины. Этот усиливающийся распад былой целостности и гармонии – романтическая тема, осмысленная в духе историзма и приобретающая реалистическое звучание, – становится главным мотивом стихотворений Фроста уже в ранних сборниках, сохранив свое доминирующее значение вплоть до самых последних его публикаций.
«Тишайший» поэт и «неискоренимый оптимист», каким изображала Фроста критика, он в действительности был лириком философского склада, тяготевшим не к идилличности, а к трагедийности. В его стихах нетрудно обнаружить переклички со многими предшественниками, создавшими поэтическую летопись Новой Англии, – и с Эмерсоном, и с Лонгфелло, и с Эмили Дикинсон, а еще чаще – заимствования из богатейшего фольклора, который создали первые европейские переселенцы в Мэне, Вермонте, Нью-Гэмпшире – родных краях Фроста. Одну из своих основных творческих задач он видел в том, чтобы преодолеть разрыв между книжной лирикой и фольклорным поэтическим словом, обогатив опытом классиков руду народно-мифологических образов,
запечатлевших миросозерцание рядовых американцев и особенности национального характера. Не стремясь обновлять тематику и форму, Фрост добивался подлинного драматизма и масштабности художественного обобщения в таких, казалось, изношенных и «несовременных» жанрах, как баллада или пастораль. Он умел писать о заурядном, даже о банальном так, что в его стихах открывался взгляд художника народной жизни, сохранившего живую, не слабеющую связь с миром, который его воспитал.
Его слава началась с книги «К северу от Бостона» (1914), по-своему уникальной лирической панорамы народной жизни. Лишенная какой бы то ни было стилистической декоративности, эта книга о сельской Новой Англии выявила необыкновенно развитое у Фроста чувство слитности с ее природой и людьми, негромогласный, но зато непоколебимый демократизм и восприятие народа не как отвлеченной духовной субстанции, а как категории исторического бытия. Чувство одиночества, тоска по уходящей «естественной жизни», радость повседневного общения с природой, остро переживаемый разлад между ее гармонией и драматизмом будничного существования человека – мотивы, которыми были заполнены и эта книга, и следующий сборник «Просвет в горах» (1916), оставались подчеркнуто традиционными, но созданный Фростом образ мира оказался истинно новаторским. О своей позиции сам он впоследствии сказал афористически точно: «любовная размолвка с бытием». И в самом деле, у него нерасторжимы природа – личность – человечество, а вместе с тем отношения внутри этого единства глубоко драматичны, и отчужденность так же неизбежна, как неискоренимо стремление к полной слитности. Завязывается конфликт, к которому Фрост еще много раз обратится в своих последующих книгах, где вновь и вновь возникает мотив неотвратимого расставания с иллюзией гармоничного бытия в ритме природы, тут же, однако, корректируемый никогда не колебавшимся у Фроста убеждением, что потребность такой гармонии и составляет истинный смысл человеческой жизни. В одном из своих лучших стихотворений «Березы» Фрост выразил мысль центральную для его творчества:
Земля – вот место для моей любви, —
Не знаю, где бы мне любилось лучше.
И я хочу взбираться на березу
По черным веткам белого ствола
Все выше к небу – до того предела,
Когда она меня опустит наземь.
Прекрасно уходить и возвращаться.
(Перевод А. Сергеева)
При жизни Фроста вышло девять его сборников, порой отделенных один от другого целым десятилетием. Казалось, что, подобно Уитмену, он не спеша создает, в сущности, одну большую книгу: его мотивы и образы внешне почти не меняются, он все тот же поэт природы и фермерской жизни. На деле же происходила по-своему сложная эволюция, в главных своих чертах совпадающая с движением американской литературы XX в. В ранних сборниках мир Фроста еще целостен и человечен, начиная с книги «Нью-Гэмпшир» (1923) он становится все более сумрачным и все чаще появляются трагические интонации – патриархальный уклад рушится окончательно, а личность, утратив духовную опору и чувство этической традиции, оказывается на распутье, порою даже в тупике, хотя протагонист этой лирики всегда сохраняет ощущение небесцельности своего существования.
«Ручей, бегущий к Западу» (1928) и «Дальний хребет» (1936) – книги, примечательные углублением нравственного конфликта, который у Фроста созвучен коллизиям, волновавшим Робинсона или таких современных ему прозаиков, как Эдит Уортон и Уилла Кэсер. В этих сборниках почти нет опознаваемых примет современности, а верность Фроста старинным жанрам медитативной и пейзажной лирики нерушима. Но американская реальность нашего столетия входит в его поэзию все настойчивее, находя очень своеобразное и глубокое отражение в необычной системе художественных координат, созданной Фростом. И непоколебимой оставалась вера поэта в нравственные силы рядового человека, как не ослабевало вдохновлявшее его чувство истории, через трудные перевалы движущейся к конечному торжеству подлинно гуманного миропорядка.
Хотя у Фроста было не так много последователей и учеников, ясно видна непрерывность и значительность поэтической традиции, берущей начало в его сборниках 10-х годов. От этого же периода ведут свою родословную и другие важнейшие направления реалистической поэзии США, прежде всего – то направление, которое можно назвать уитменовским: оно впервые заявило о себе в творчестве чикагских поэтов периода «ренессанса», испытавших сильное влияние Уитмена, по-разному ими воспринятого, но для всех них оставшегося подлинным основоположником современного поэтического мышления.
Все они были уроженцами маленьких городков Среднего Запада, в начале нового столетия перебравшимися в Чикаго и очень многим обязанными этому городу. По удачному выражению современного исследователя, «все то, что было растворено во глубине страны, оказалось сосредоточенным в Чикаго, и если на периферии пути Америки виделись смутными и едва различимыми, то здесь они выступали с отчетливостью новеньких кварталов на фоне развалюх предместья» (Ф. Даффи). Драйзер в «Титане» называет Чикаго «символом Америки», и в ту пору действительно «свинобой и хлебный ссыпщик всего мира», как скажет в своей поэме Сэндберг, воспринимался олицетворением американской цивилизации с ее динамикой, полярностями и антагонизмами.
Этот город, где «улица длиной поезду на год», а «от света солнце не ярче грошовой свечки» (Маяковский), притягивал воплощенной в нем свободой от консерватизма и закоснелости провинциального быта. Чикаго был центром радикализма. Он казался прообразом грядущей Америки, страны высочайшей индустриальной цивилизации с ее сплетением роскоши и уродства, изобилия и нищеты, ее призраками великих возможностей и невиданным темпом жизни.








