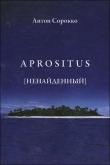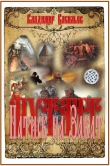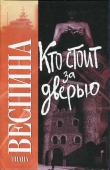Текст книги "Плачь обо мне, небо (СИ)"
Автор книги: Selestina
Жанры:
Исторические любовные романы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 58 (всего у книги 60 страниц)
– Вы вновь танцуете на моей гордости, Катрин! – шутливо возмутился тот, наблюдая за тем, как она тихо смеется, все так же не отпуская его руки. – Да, – с таким страданием, будто бы это признание ему далось крайне нелегко, произнес он, – в моем совершенном образе есть один изъян – я крайне дурно плаваю.
Зеленые глаза лукаво сверкнули.
– Теперь я буду знать, какое пари Вам предложить, когда мне захочется, чтобы Вы исполнили мое желание, – заявила она с таким видом, словно уже готовила эту затею. – Правда, придется ждать нового лета.
Цесаревич с каким-то странным интересом приподнялся на локте.
– К чему ждать? Лигурийское побережье к Вашим услугам.
– Чтобы к Вашей болезни прибавилась и простуда? Увольте, – она покачала головой, – я не имею желания стать причиной Вашего затянувшегося пребывания здесь.
– Вы находите меня таким слабым? – театрально оскорбился Николай; впрочем, почти тут же веселье сошло с его лица. – Боюсь, мне и без того суждено провести здесь всю зиму.
От него не укрылось, как помрачнела Катерина – будто бы все краски кто-то стер, оставив взамен лишь серость. Не стоило этого говорить при ней.
– Что говорят врачи? – абсолютно серьезно осведомилась она, против собственной воли переплетая их пальцы. От этого неожиданно теплого жеста на миг стало как-то по особенному легко. Будто все дурное скрылось в тени.
– Надеются получить как можно больше за свою работу, – усмехнулся цесаревич, – и потому уверяют, что без долгого и обстоятельного лечения не обойтись.
– Полагаете, они неправы?
Он хотел было ответить шуткой, но почему-то эта тревога в глазах напротив отняла все заготовленные слова, оставив его с минуту безмолвным и не знающим, что сказать. Ему слишком претила мысль раскрыть все опасения – она не должна была больше тревожиться за него. Никогда.
– Полагаю, что они склонны излишне драматизировать. О! – обратив взгляд куда-то над её плечом, он едва заметно поморщился, – легки на помине.
К его радости, посетивший его медик не говорил по-русски, а сам же цесаревич предпочитал не переходить на французский без особой на то надобности, и потому мог беспрепятственно озвучивать свои мысли.
Катерина, обернувшаяся на это восклицание и заприметившая визитера, спешно поднялась на ноги. Коротким поклоном выразив почтение вошедшему, она почти одними губами сообщила Николаю, что ей пора идти. Тепло, что их руки дарили друг другу, сменилось леденящей пустотой.
Наблюдая за тем, как тихо притворилась дверь за покинувшей его покои Катериной, Николай едва заметно улыбнулся.
Он ничего не говорил об Оффенбахе.
***
Италия, Флоренция, год 1864, декабрь, 31.
Открывшаяся болезнь, которая так настораживала всех медиков, что посещали его, больше всего заставляла беспокоиться из-за своего странного течения. Порой он просыпался будто бы абсолютно здоровый, полный желания покинуть эти стены, впитавшие отвратительные голоса, друг за другом зачитывающие диагнозы и составляющие просто абсурдные планы лечения. Даже пытался встать с постели и пройтись – на балкон, на террасу, даже прогуляться в саду подле виллы Марии Николаевны, куда он прибыл вчера по её приглашению. К полудню появлялись первые боли, а вечером и того хуже – он едва ли мог повернуться со спины на бок, чтобы не заскрипеть зубами от невыносимых ощущений где-то в области поясницы. Его начинало лихорадить, а порой он и вовсе проваливался в беспамятство. Как объяснить все эти метаморфозы, он не понимал, а врачей слушать совсем не хотелось – знал уже, что они скажут.
Он силился урвать от этих утренних часов спокойствия и иллюзии почти прежнего порядка как можно больше, но каждый раз казалось, что их становится все меньше. На пару минут. На четверть часа. На час. Может ли статься, что одним днем он уже и проснется таким же, как отходил ко сну?
Его натуре, привыкшей искать во всем лучшее, претили эти тягостные мысли. Но открещиваться от реальности до бесконечности тоже было абсурдно.
Быть может, он бы уже даже стал безумцем, тем более что порой вечерний бред спутанного сознания предвещал то же, но руки упрямо сжимали тонкую соломинку, держащую его на поверхности этого вязкого болота. Опасаясь её переломить.
Катерина со дня своего прибытия во Флоренцию (или, наверное, будет вернее сказать, что со дня их первого свидания здесь) навещала его уже четыре раза. В один из визитов с ней даже присутствовал Дмитрий – буквально ради пары фраз, чтобы после оставить их одних. Цесаревич и сам тогда не понял, к чему было это появление адьютанта его отца – вряд ли чтобы убедиться, что покушений на честь графини Шуваловой не предвидится по вполне объективным причинам.
Обычно Катерина оставалась лишь на полчаса – что-нибудь читала, рассказывала об очередной прогулке по Флоренции или делилась историями, услышанными от Эллен – та, кажется, везде могла найти лишнюю порцию свежих сплетен. Эти недолгие беседы создавали какое-то странное ощущение дома, которого так не хватало: будто бы они вновь в Александрии (вилла была едва ли больше того дворца), и рядом никого, кто мог бы помешать их свободному общению.
Разве что неспособность цесаревича подняться с постели, но на эти короткие полчаса он даже забывал о собственной болезни.
Сегодня же, на удивление, Катерина решила задержаться – они уже успели прочесть немного из Шекспира и Данте, он даже услышал наконец от нее о её свадьбе, о поимке князя Трубецкого, а в конце надиктовал ей письмо для брата – не то чтобы особо длинное и больше состоящее из вопросов, совсем не раскрывающее его собственной жизни, но сейчас ему больше хотелось знать о том, что делается на родине, нежели говорить о себе.
«Влюблён ли ты? Ухаживаешь ли за кем-нибудь? Что делаешь? Как идут занятья?.. Итальянская княжна пользуется по-прежнему твоим расположением или есть уже новая пассия? Новые дебютантки интересны ли? Весело ли на балах? Кто танцоры?..»
Все то, что раньше он бы, безусловно, был не против узнать, но не с такой жадностью, как сейчас.
Николай полагал, что, закончив с письмом, Катерина по обыкновению откланяется и удалится, но она отчего-то медлила. Положив присыпанный песком пергамент на буковую столешницу, она поднялась на ноги и, с какой-то особой задумчивостью посмотрев на цесаревича, вдруг осведомилась:
– Вы не составите мне компанию в коротком променаде?
Вопрос его изрядно сбил с толку: обычно она настаивала на том, чтобы он оставался в постели, когда она приходила, аргументируя это тем, что того требовали медики, а им лучше знать, стоит ли воспринимать редкие улучшения самочувствия за положительную динамику или нет. С чего бы вдруг ей переменить свое мнение?
Однако самочувствие ему и впрямь позволяло подняться на ноги, пусть и никто не мог поручиться, что буквально через минуту его вновь не скрутит боль – абсолютное отсутствие понимания течения болезни его тревожило больше, чем что-либо. Он словно жил под прицелом возведенных ружей, где любой шаг убьет хотя бы из-за постоянного напряжения.
Уступив ведущую роль Катерине, внезапно будто бы забывшую об их социальных ролях и потребовавшую его закрыть глаза шарфом, цесаревич сжимал её холодную руку в своих пальцах (определенно от её ребяческого шага была польза), совершенно не осознавая, куда именно они идут. Вилла не была такой огромной, чтобы заплутать, но без возможности видеть, да еще и нарочно запутанный парой аккуратных (все же, она беспокоилась о его спине) вращений, он полностью дезориентировался в этих совершенно не родных стенах.
Впрочем, путешествие не было таким уж долгим, и они даже не спускались вниз, оставшись на втором этаже.
Когда Катерина, наконец, остановилась, и медленно развязала тугой узел, позволяя повязке соскользнуть и остаться в её руках, Николай обнаружил себя в небольшой – по дворцовым меркам – гостиной, куда заглядывал крайне редко. Но застыть на месте и забыть все внятные слова его заставило отнюдь не это.
Ошеломленное выражение лица цесаревича стоило трудностей, что Катерине пришлось испытать, уговаривая герцога Лейхтенбергского найти ель (Эллен рассказывала ей, что где-то в районе Пьемонта их можно встретить), а после доставить оную, да еще и сопроводить игрушками. Каким чудом тому удалось выполнить эту просьбу, она не знала, но чувствовала теперь себя обязанной герцогу.
– Откуда?.. – речь вернулась к Николаю, но столь скудная, что он даже не сумел окончить фразу. Катерина, наблюдая его изумление, не сдержала легкой улыбки.
– Не без помощи Вашего кузена, Николай Александрович. Мне подумалось, что Вы были бы рады.
Он с трудом отвел зачарованный взгляд от статной зеленой красавицы, чтобы потонуть в такой же зелени родных глаз; сколь же хорошо она могла чувствовать его желания, чтобы вот так предвосхищать оные. Ведь не далее чем пару дней назад он вспоминал подготовку к Рождеству дома, еще когда был жив An-papa. И в груди что-то разрывалось – в солнечной Италии не найти и намека на ту волшебную атмосферу, что сейчас царит в заснеженном Петербурге.
– Вы необыкновенная девушка, Катрин, – полушепотом произнес цесаревич.
Беспечно передернув плечами, она улыбнулась уже более явственно.
– Моей заслуги в этом нет – все трудности легли на плечи Его Высочества. И теперь Вы обязаны доказать, что все было не зря, – возвестила она, разрывая их зрительный контакт и устремляясь к большим коробкам, что примостились возле ели. – Вы ведь поможете мне развесить эти игрушки?
Когда она обернулась, на её лице был лишь детский задор, который он так давно не видел. Но Николай был готов поклясться – до того в глазах её мелькнула грусть. Усмехнувшись этой непосредственности, с которой Катерина раскрыла коробки, чтобы начать вынимать оттуда стеклянные шары различных цветов и размеров, он неспешно приблизился к ней, чтобы принять из её рук первую игрушку и, повинуясь указанию, расположить оную где-то в аршине от верхушки. И сразу же получить новую.
– Жаль лишь, что настоящего Рождества здесь не увидеть, – разглядывая маленькую фарфоровую птичку, произнесла Катерина. – Ни снега, ни гаданий, ни…
– Гаданий мне точно хватило, – почти себе под нос хмыкнул Николай, но его фраза не осталась не услышанной. Горло на миг словно сжало тисками; в памяти всплыл звон монист и хриплый голос старой цыганки.
Не сиять больше солнцу над миром, не освещать людей своей благодатью.
– Бросьте, – стараясь, чтобы сломавшийся голос её звучал как можно более безмятежно, улыбнулась Катерина. – Вспомните – мне тоже говорили, что у алтаря мне не стоять. Но ведь я вышла замуж. Все эти гадания – лишь забавы, – махнула она рукой, вытягивая из коробки новую игрушку и примеряясь к незанятому участку на разлапистом деревце.
– Крайне опасные, – прокомментировал это утверждение цесаревич. – Тетя Санни так едва ли с ума не сошла, а поговаривали, что и выкидыш у нее случился от этих столоверчений.
Александра Иосифовна, урожденная принцесса Саксен-Альтенбургская, супруга его дяди Константина, как и прочие светские дамы увлекалась мистицизмом, в чем ей потакала фрейлина Анненкова, которую порой даже винили в излишней тяге Великой княгини ко всем этим «дьявольским забавам». Справедливости ради стоит сказать, что даже Императрица не брезговала порой составить компанию невестке, но все же интерес последней к крайне популярным тогда столоверчениям выходил за все возможные рамки. Впрочем, винить в том стоило скорее mademoiselle Анненкову, дошедшую до того, что она настаивала на своем родстве с герцогом Ангулемским, заставившую в свою сказку уверовать и великую княгиню. Когда долгожданная её беременность окончилась выкидышем, во Дворце начали поговаривать, что это Создатель наказал её за богопротивные удовольствия и дружбу с «одержимой».
Фрейлина Анненкова была отправлена за пределы России, однако та история все же изрядно подорвала здоровье Александры Иосифовны.
Цесаревич, которому тогда было двенадцать, на всю жизнь запомнил сломленную Великую княгиню, несколько недель не встававшую с постели. А когда она вышла к семейному обеду, ему подумалось, что из нее выпили жизнь до последней капли, столь пустым был взгляд и отрешенным – вид.
Тогда он впервые испытал явное отвращение к этим светским увлечениям.
– Точно! – воскликнула Катерина. – Столоверчения – как-то я запамятовала о них, – рука замерла над коробкой, пока она над чем-то размышляла. Николай бросил на нее настороженный взгляд.
– Только не говорите, что задумали духов вызвать, чтобы запытать их вопросами.
– Это скорее по части Эллен, – рассмеялась она, наконец выбрав следующую игрушку и поднимаясь, чтобы собственноручно подвесить её на колючей еловой лапе. – С меня лишь попросили список идей для праздничного вечера. Вы же не думали, что одной елью все ограничится?
– Если здесь упоминается имя Вашей подруги – это было бы утопией, – в тон ей отозвался Николай, обходя дерево, чтобы решить, куда еще поместить крупный синий шар, что он сжимал в руках. – Однако, мне стоит надеяться, что Вы будете здесь на Новый Год?
Он не мог видеть её лица, отделенный от нее широкой елью, но мог слышать шелест юбок и тепло в голосе, когда, явно улыбаясь, она подтвердила:
– Встречать Новый Год в Германии мне бы не слишком хотелось.
Совершив полный круг, цесаревич поднял голову, чтобы наблюдать, как вскочившая на низкий стул Катерина пытается зацепить очередную игрушку ближе к вершине. Она была невероятно очаровательна в своем почти детском желании украсить ель, как это делала дома, когда для столь важной задачи собиралась вся семья. Эти часы – совместные, наполненные смехом и шутливыми спорами, кому достанется лучшая игрушка и честь надеть звезду на вершину, – были особенно дороги её сердцу. И он почти кожей ощущал ту светлую грусть, что исходила от нее, смешиваясь с легкостью и счастьем, так давно не виденными им.
Подавая ей руку, чтобы она беспрепятственно спустилась обратно, Николай чуть дольше положенно удержал в своей ладони её хрупкую кисть, словно надеясь впитать этот свет и спокойствие. Чувствуя – ему они понадобятся.
И разорвал этот контакт раньше, чем Катерина могла бы попросить об этом.
Впрочем, она казалась слишком умиротворенной, чтобы рушить сейчас ту тонкую, почти осязаемую нежность, сплетенную с предвкушением какого-то чуда.
Позже, расположившись в глубоком кресле и любуясь украшенным деревом, цесаревич даже на миг пожалел, что сейчас еще совсем не вечер – время едва ли перевалило за полдень. Загасить бы свечи, оставив лишь пару, и наслаждаться этим уютным полумраком, наблюдая, как блики огня играют на пузатых боках стеклянных шаров и блестящей бахроме мишуры. Катерина была права – ему отчаянно не хватало этого ощущения дома, пусть и не полностью воплотившегося здесь, но почти заставившего раствориться чуждые ему стены итальянской виллы. Можно было представить, что эта гостиная – в Александрии, где встречал Рождество лишь в далеком детстве и то, единожды.
Куда чаще ему приходилось посещать торжественные вечера всех своих родственников, отчего празднование затягивалось на добрую пару недель. Не чтобы ему не нравилось встречаться с ними, но с некоторыми все же его отношения, да и его братьев, были не самыми радужными. К тому же, бесконечные беседы, требующие соблюдения этикета, хоть и были привычны, но удовольствия не доставляли. Особенно в детстве, когда ему, пусть и осознающему тяжесть довлеющего над ним долга, хотелось еще быть ребенком и видеть тепло, а не учтивость и лесть.
– Вы помните тот вечер в Царском? – в тишину, поглотившую гостиную, вдруг вплелся полный задумчивости вопрос Николая, и Катерина, уже было задремавшая (это могло бы показаться дурным тоном, но они не вели бесед уже с полчаса, просто наслаждаясь уютом охватывающего Флоренцию вечера, присутствием друг друга рядом и размышляли каждый о своем), сонно моргнула, переводя с трудом приобретающий осмысленность взгляд на него.
– Их было много, – она и впрямь бы сейчас не опознала с ходу, о каком из вечеров говорил цесаревич, даже если бы вспоминала только те, что случились после отбытия императорской четы.
– Когда Вы пели.
Фанты. Да, пожалуй, эта картинка и впрямь даже не поблекла в её памяти – что уж говорить о полном исчезновении. Ту дрожь, малую долю неуверенности, уговоры Евгении Максимилиановны, и глаза – множество смотрящих на нее пар глаз – она помнила как вчера. Музицирующая Ольга Смирнова за роялем, соната Скарлатти, эти глупые цветы даже если бы возжелала забыть, не сумела бы. Минуты её личного кошмара, но вместе с тем – минуты её свободы.
– Вам тогда не досталось задания, – она улыбнулась, стягивая края вязаного пледа на груди – Флоренция не Петербург, но декабрьские вечера и здесь были прохладными; из раскрытого окна тянуло сквозняком.
– У Вас исключительная память, – оценил цесаревич, склонив голову и заинтересованно рассматривая прикрывшую глаза Катерину: вряд ли она намеревалась задремать, но зрительного контакта явно избегала. – Как насчет того, чтобы продолжить игру?
– Я передам Ваше пожелание Эллен – полагаю, она не упустит шанса припомнить Вам то, что Вы единственный вышли сухим из воды.
– Только она? – ироничный тон был в точности таким же, какой она помнила, и даже сам Николай сейчас казался прежним: будто и не было этой страшной болезни; будто не было помолвки; будто не было ничего.
Ей стоило немалых усилий, чтобы не поднять веки и не обернуться – очень хотелось увидеть эмоции на лице цесаревича: она знала – во время их уединенных бесед он зачастую оставляет маску Наследника Престола, раскрываясь ей как близкий друг.
– Увы, я не обладаю должной фантазией, – не отпуская улыбки, что цвела на губах против её воли, Катерина все же открыла глаза, но продолжила держать взгляд где-то перед собой, направленным на едва читающийся в полумраке пейзаж, заключенный в темную раму.
– И даже никаких желаний не имеете?
– Лишь одно, – почти шепотом произнесла она; улыбка померкла. – Обратить время вспять.
И лучше бы до момента их первой встречи в Таганроге.
Или, нет. До дня, когда её семья была отослана из России – если бы она последовала за ними, все случилось бы иначе. Самой большой жертвой бы стала её свадьба – такая мелочь в сравнении с платой, что она принесла за свое безрассудное желание остаться. Дознаться до правды. И еще раз посмотреть в невозможно синие глаза.
Её учили не роптать, принимать волю Создателя как должное, но с какой целью ей был дан этот крест? Ради чего отдали свои жизни папенька и брат? Чему её должно было научить несчастье, случившееся с Ириной?
– Если бы существовал дьявол, готовый забрать мою душу, я бы отдал её за то же.
Кощунственная фраза сейчас прозвучала скорее каким-то горьким откровением: о вере думать не хотелось. Да и о чем-то кроме возможности провести еще несколько минут в этой безмятежности и коконе воспоминаний: светлых, таких далеких. Их не могло отнять ничто – ни обещания себе, ни церковный хор, ни долг. Это единственное, что имело право остаться в сердце навечно.
– Я покину Флоренцию завтра, – губы дрогнули. – Ирина вернулась в Кобург и просит остаться у них на Рождество.
– Барон намерен праздновать по православному календарю? – приподнял брови Николай.
Пожав плечами, Катерина отозвалась:
– Наверняка она настояла. Он слишком сильно влюблен, чтобы отказывать её желаниям.
Он бы многое отдал, чтобы продлить эти минуты, но их дороги расходились – в первый день января её карета направится на север, он же направится на запад, чтобы от Ливорно отплыть в Ниццу. Ему лучше, и в этом её заслуга: всякий раз её присутствие будто возвращало ему жизнь, даже если это была короткая, отнюдь не уединенная встреча.
– Как и граф Шувалов – в Вас? – с усмешкой уточнил цесаревич. – Позволить супруге наедине говорить с другим мужчиной – удивительный человек.
Правдивость его слов было трудно отрицать: её встречи с Николаем без посторонних глаз могли вызвать возмущение еще в её бытность незамужней барышней, а уж после того, как она сменила свой статус, и вовсе стали недопустимы. Если бы это стало известно при Дворе, или хотя бы кому-то из знакомых, слухи бы гуляли долго. Их счастье, что здесь укорить её могли разве что спутники цесаревича, с которыми он путешествовал по Европе.
Дмитрий же доверял ей безоговорочно. Он даже не изъявил намерения присутствовать при их встречах (разве что единожды, но и то, лишь потому, что хотел засвидетельствовать свое почтение Наследнику Престола и пожелать ему скорейшего выздоровления), и никоим образом не выразил неудовольствия, когда она испросила разрешения на свидание. Меж ними не существовало тайн.
Ему было прекрасно известно о чувствах супруги, но он знал, что она никогда не позволит себе адюльтера.
Поцелуй – не измена.
И потому о нем она не говорила.
– Обещайте мне, что мы вскоре свидимся в Петербурге, – обернулась Катерина, поднимаясь на ноги: ей было пора уходить. Она и без того нарушила все договоренности, проведя здесь не полчаса и не час.
Николай усмехнулся, пристально смотря на нее – он видел природу её просьбы, и желал бы не просто дать согласие, но поклясться в том. Сказать, что после лечения в Ницце он вернется в Россию. Однако с губ сорвалось совсем иное:
– Вы ведь оставили Двор? Станете искать со мной свиданий?
– Вы против? – в тон ему прозвучал её вопрос.
Словно бы совсем как раньше – с едва заметной нотой флирта, но в то же время – с сокрытым где-то в глубине и готовым прорваться смехом; потому что все лишь привычная забава. И только глаза пустые, серьезные.
– Если этого не сделаете Вы, это сделаю я, – фраза выглядела явной угрозой, и шутливой ли – Катерина не могла с уверенностью утверждать.
Еще с четверть минуты сохраняя безмолвие и продолжая вглядываться в синеву глаз напротив, она, наконец, подавив в себе рвущийся из груди вздох, выскользнула в коридор, беззвучно притворяя за собой дверь.
Сердце скрутило дурным предчувствием.
Комментарий к Глава одиннадцатая. Не разорвать эту тонкую нить
*Николай цитировал строки стихотворения «L’attente» М.Ю.Лермонтова, написанного в 1841 году на французском языке. Перевод звучал следующим образом: « Вдруг я просыпаюсь дрожа: ее голос говорил мне на ухо, ее губы целовали мой лоб.»
**ответная реплика Катерины – цитирование ее же письма, строками Лермонтова: «позовите меня, – и я вернусь».
========== Глава двенадцатая. Господь, храни особенных ==========
Все решено, и он спокоен,
Он, претерпевший до конца,
Знать он пред Богом был достоин
Другого, лучшего венца…
А.Тютчев
Франция, Ницца, год 1865, март, 25.
Ей стоило понять, что заявления об улучшении самочувствия – напускная бравада. Цесаревич всегда желал показаться сильнее и лучше, чем он есть; не терпел демонстрировать собственную слабость или хотя бы самую малость неидеальности. Он уверял её, что чувствует себя почти здоровым, лишь для того, чтобы она перестала просыпаться ночами от бесконечной тревоги, и чтобы не смотрела на него с этим убивающим волнением – потому что он не мог видеть, как она переживает. Чувствовать, что ей плохо почти физически, знать, что он повинен в этом, и не иметь возможности ничего изменить.
Она ведь и вправду поверила, что болезнь отступила – в последний день декабря, в кругу Лейхтенбергской семьи он выглядел куда более живым и веселым, нежели обычно. Она облегченно выдохнула и вознесла благодарную молитву Создателю.
Рано.
Пришедшее в Кобург, где она решила задержаться до апреля по просьбе Ирины, письмо от Сашеньки Жуковской (не то чтобы они часто обменивались новостями, но все же связь поддерживали) всколыхнуло уснувший страх: она сообщала о прибытии Николая в Ниццу и о том, что в начале марта ему вновь сделалось хуже. Настолько, что, увидев его впервые за несколько месяцев, она его попросту не признала. Сашенька не была склонна драматизировать, да и пугать понапрасну бы не стала, и стало ясно, что то дурное предчувствие не было надуманным.
Она сорвалась к сестре, чтобы просить её отправиться в Ниццу, даже раньше, чем успела осознать свои действия. Со стороны, наверное, это выглядело отвратительно – замужняя женщина, едва услышав о болезни стороннего мужчины, тут же пытается добиться их свидания. Но, вопреки всему, Ирина не подарила ей даже укоряющего взгляда – только вздохнула и распорядилась собирать вещи: французские врачи ей бы не помешали, её супруг давно на этом настаивал. Не слишком-то ей хотелось новых процедур, но если это может помочь сестре – пусть.
Дмитрий, отбывший в Россию на исходе января по требованию Императора, обо всем узнал позже, из письма. И, ожидаемо, лишь поддержал решение супруги.
В Ницце барон фон Стокмар снял для них небольшую виллу, недалеко от Английской променады, где и остановился цесаревич со своей свитой – об этом ей тоже поведала Сашенька, прибывшая сюда вместе с Марией Александровной. С момента приезда не прошло и часа, как Катерина уже вновь садилась в экипаж – страшные слова голосом Сашеньки Жуковской повторялись без конца в её голове, сопровождаемые заунывным церковным песнопением.
Промедление могло стоить ей всего.
Она даже не помнила, как добилась, чтобы её впустили к цесаревичу – может, тому поспособствовал граф Шереметев, узнавший её (он часто присутствовал в их компании летом, в Царском Селе), а может сказал свое веское слово воспитатель Николая, перед которым она обычно робела, но сейчас едва ли могла опознать людей, с которыми сталкивалась. Она не сказала бы сейчас даже, останавливал ли её кто, и как долго она ожидала возможности подняться на второй этаж.
И счастье, что вилла Дисбах своими размерами не могла сравниться с Зимним, иначе бы путь до спальни, где разместился Николай, тем же почти бегом она бы не преодолела – корсеты никогда не способствовали глубокому дыханию.
Но все же у дверей пришлось резко остановиться и взять минуту, чтобы унять сумасшедшее сердце. Она не имела права выдать своего волнения.
Робкой улыбке бывшей фрейлины Ея Величества, почти ворвавшейся, забыв обо всех правилах, в покои, стала ответом широкая и радостная, осветившая лицо Наследника Престола, устроившегося у камина с какой-то книгой. Эти искорки ничем не прикрытого счастья, казалось, окутывали всю его высокую, пусть и ссутулившуюся фигуру, и даже та намечающаяся морщинка меж бровей разгладилась, стоило лишь случиться встрече.
Прежде бы Николай первым поднялся, чтобы приветствовать её. Сейчас же он лишь отложил книгу, а, отчетливо осознающая, в каком состоянии он находится, Катерина спешно сократила расстояние между ними, буквально в шаге склоняясь и подавляя в себе порыв докоснуться. Сглатывая слезы.
– Простите, Катрин, мне стоило бы подняться… – с горькой усмешкой произнес цесаревич, тут же остановленный её жестом.
– Не о том Вам следует думать.
Она опустилась на кушетку рядом как-то не глядя – не сводя с него глаз, жадно вбирающих каждую черточку, каждую эмоцию, каждый жест. Стремясь сохранить как можно больше, отпечатать в памяти родное лицо. И отогнать дурноту при виде неестественно расширенных зрачков – она не знала, к чему приписать этот симптом, но он едва ли мог считаться хорошим знаком.
Впрочем, она скорее пыталась понять, действительно ли все стало даже страшнее, чем было во Флоренции. В эту минуту, казалось, что Сашенька нарочно все выставила в худшем свете. Но Катерина помнила, что и тогда случались минуты (а то и часы) улучшений, а потому не стремилась уверовать в иллюзию исцеления.
– Свитские сплетники Вам донесли о моем состоянии? – со смесью горечи и понимания уточнил Николай, на что Катерина вымученно улыбнулась и шутливо укорила его:
– Вы стремитесь уклониться от своего же обещания.
– А Вы – от своих обязанностей, – парировал цесаревич; от уголков лукаво блеснувших глаз разошлись тонкие лучики-морщинки, тут же померкшие, когда губы вдруг на доли секунды искривились от боли. Грудь тяжело приподнялась – вдох был мучительным.
Катерина тревожно подалась вперед, с губ сорвалось лишь короткое «Ваше Высочество». Шумно выдохнувший Николай успокаивающе качнул головой, дотрагиваясь до её руки.
– Это лишь слабые отголоски. Наверное, Вы и впрямь были посланы мне небесами.
Небесами, которые отчего-то не уберегли. Не желали спасти.
Парой месяцев ранее им овладевали страшные мысли. Что, если слова гадалки он понял превратно, и ему не стать Императором отнюдь не в силу желания отречься от престола в пользу Александра? Возможно ли, что старая ведьма предвидела его смерть? Болезнь усилилась, и порой цесаревичу чудилось, что за ночью уже не наступит утро: он не проснется на рассвете, чтобы по привычке подойти к окну, наблюдая картину рождения нового дня, где способно случиться все, что угодно. И не было бы больше этого звонкого смеха и лучистых глаз, не было бы ласковых рук матери и беззлобных упреков отца, не было бы жизни и любви.
Проникновенный взгляд и мягкость голоса обезоруживали, и Катерина не чувствовала себя вольной даже сделать вдох, и оттого даже не стала пресекать случайной встречи рук – было выше её сил уничтожать все это. Ей бы всю жизнь сидеть так, смотря в уже ставшие слишком родными глаза, вбирать по капле тепло и ласку, купаться в этой неге, и не знать о следующей минуте или о том «завтра», что разведет их по разные стороны, возвращая каждого к своему положению и обязанностям.
Пусть она и безрассудно бросилась сюда, в Ниццу, стоило ей лишь узнать страшную весть.
Сказать бы сейчас, что все это пустое – да только язык не слушается её, губы немеют, и все, что удается сделать – едва заметно качнуть головой с каким-то болезненным сожалением. Она слышит голос разума, и он во всем прав (иначе бы она ему не следовала), но бьющееся в лихорадке сердце тоже не желает замолкать, что-то шепча в агонии, моля.
Только в чудеса уже не верится, и ничему веры нет. В признаниях и клятвах – верность, но ни надежды, ни притязаний. Её участь – незримое присутствие, её жизнь – тень прошлых обитательниц дворца. Она не первая, и на ней история не завершится. Но, возможно, она из тех, кого сложно укорить в их чувствительности сердца. Возможно, их история пошла бы по стопам покойного Николая Павловича и Варвары Нелидовой, но нашлось ли бы у будущей Императрицы столько же понимания, сколько его было у Александры Федоровны?..
Она только подавила в себе тяжелый вздох и заставила себя слабо улыбнуться, чтобы ответить на вопрос о причине её внезапного визита (в Ницце Николай точно не ожидал её встретить, тем более так) как можно более спокойно, ничем не выдав бушующей внутри тревоги. Наверное, ей даже это удалось – цесаревич не спрашивал больше об этом, довольствуясь словами о сопровождении сестры на воды, и между ними вскоре завязалась привычная беседа, ни коим образом не затрагивающая ни его здоровье, ни её замужество, ни еще какие запретные темы.