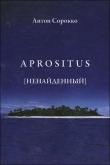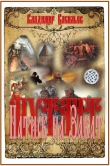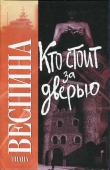Текст книги "Плачь обо мне, небо (СИ)"
Автор книги: Selestina
Жанры:
Исторические любовные романы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 60 страниц)
– Простите, Катрин.
Весь мир – в два слова. Вся жизнь, все мысли, все чувства – меньше двух десятков букв. Выдох. И словно парализованная шея – не обернуться, не склонить головы. Даже сглотнуть этот ком почти невозможно. Церковный набат в голове и панихида по заживо похороненной душе.
– Нам стоит вернуться, – глухо, почти шепотом – потому что голос сломан, как и все внутри. Потому что стоит только чуть-чуть громче сказать – сразу все окажется как на ладони: ужас от невозможности управлять собственным сердцем, страх оказаться лицом к лицу с цесаревичем.
Её выдержки и решимости хватило всего на несколько суток.
А горячие пальцы, до того впивавшиеся в локоть, вдруг отчаянно сжали онемевшую ладонь – когда тот же хриплый голос заставил её всю обратиться в камень. Решимость и выдержка сегодня подвели не только её. Только Николай, по всей видимости, держался куда дольше.
– Я не имею прав просить Вас ни о чем – я вообще не имею никаких прав на Вас! – но мне бы вовек не хотелось отпускать Вашей руки.
Это могло быть чем угодно, но все выглядело правильно, когда она находилась рядом. Не с позиции разума – но он, похоже, выбросил белый флаг.
Правда, это было совсем не важно: даже если всю землю укрыть этим символом капитуляции, ничто не изменится. Оба понимали. Оба не отрицали. И лишь молчать более было невозможно.
– Если только до дня моего браковенчания… – обернулась; с трудом и горечью в зеленых глазах. – Я имею смелость просить Вас как друга отдать мою руку Дмитрию перед алтарем.
Губы не сумевшей выдать хотя бы части того, что переполняло её уже не первый день, княжны все же сумели изогнуться в ироничной полуулыбке. Было ли что-то кроме желания поддразнить цесаревича в её первой фразе, так и останется не разрешенным: он найдет здесь молчаливое дозволение, она просто постарается уверовать в то, что ничем иным кроме как глупой шуткой это не было. Впрочем, просьба её все же носила немалую часть правды – оставшаяся без папеньки и брата в столь важный день, она желала бы, чтобы роль их принял на себя Николай, однако в том, сколь невозможным было её желание, она сомнений не имела. И потому никаких надежд не питала.
– Если Вы ради этого перенесете венчание на зиму.
Он шутил с лукавой полуулыбкой – и никому не нужной, все лишь усложняющей надеждой.
– Возможно, мне удастся убедить Дмитрия, что неделя после Рождества нам подходит куда больше.
Она лишь отвечала ему в той же манере – и так же отчаянно цепляясь за соломинку, что давно уже пропиталась водой и шла ко дну.
– Знаете, Катрин, я порой завидую своим братьям, – пальцы их словно сами собой переплелись – бессознательно, на какие-то жалкие минуты, – в их власти любить кого угодно, быть с тем, кого пожелает сердце и душа, и даже если Император не даст своего благословения, им ничто не запретит обвенчаться с избранницей, какого бы положения она ни имела. Тем более что отец когда-то способствовал даже браку тетушки Марии, вполне возможно, что он бы принял подобный поступок и со стороны своих детей. Они потеряют право на трон, их дети не войдут в царскую семью, но неужели это важно настолько, чтобы отказаться от любимой женщины? Они свободны, насколько это позволяет принадлежность к императорской фамилии, и порой мне хочется той же свободы. Хочется, чтобы на Вашей руке сияли не изумруды, а цитрины, и…
– Молчите, – холодные пальцы предостерегающе накрыли губы; с мольбой во взгляде Катерина покачала головой. – Вы нужны Империи, Николай Александрович. Вы нужны своему народу и Отечеству. В Вас верят, Вас ждут, Вы рождены для престола. Вскоре Вы узнаете свою невесту и поймете, что лучше нее нет никого, и что ей суждено хранить Ваше сердце. Прошлые чувства рассеются, словно туман по утру, и однажды Вы улыбнетесь своим речам.
Сказки лгали. Сословные различия значили куда больше, чем хотелось бы любому, открывшему красочную книгу, и каким бы сильным ни оказалось чувство, в действительности человеку приходилось опираться не только на сердце, но и слушать глас разума, сохранять честь и достоинство, помнить о своих обязанностях и клятвах. Помнить о своем предназначении. Думать о других.
Принц не мог так просто венчаться с избранницей по любви, надеть на её голову корону и тем самым защитить от любых нападок. Будь она даже не простой бедной девушкой, а потомственной дворянкой, до императорской крови сохранялась непреодолимая пропасть. Мезальянсы могли стать выходом для не титулованных особ, но не для правителей. Свобода монарха – иллюзия; свобода монарха – меньше свободы любого из прочих людей; свобода монарха – шипы царского венца и кандалы скипетра и державы.
Катерина не могла дать своего согласия на морганатический брак: ни сейчас, ни спустя несколько лет. Она бы никогда не простила себе отречения Николая. Не смогла бы провести ни единого дня без ощущения давящей на грудь вины за сломанное будущее. Она бы никогда не осмелилась посмотреть в глаза его будущей супруге, втайне ожидая срок истечения их брака. Никогда бы не смогла солгать Дмитрию.
Это было правильное расставание. Единственно возможное решение. Не о чем жалеть.
Краем глаза рассматривая изящный женский профиль, словно силясь отпечатать в памяти тонкие губы, чуть вздернутый нос, невысокий лоб и мягкие завитки волос, Николай с трудом удержался, чтобы не дотронуться до бледной кожи запястья: рука замерла на взлете и медленно, с сожалением опустилась. У него не было на это прав. У него было никаких прав: ни говорить с ней, ни касаться, ни целовать. Его судьба предопределена рождением в правящей фамилии, его жизнь расписана вплоть до погребения в Петропавловском соборе, его сердце должно биться ради Империи, и даже будущей супруге отводится второстепенная роль. Лучше б их встрече десятью месяцами ранее не случаться, или лучше б Катерине быть одной из тех фрейлин, что становятся недолгими фаворитками, после довольствующимися некоторыми привилегиями со стороны своего влиятельного покровителя и счастливыми этим до конца дней. Она заслуживала иного – к ее ногам стоило бросить весь мир и защитить ее от этого мира, окружить теплом и любовью, позволить чувствовать себя единственной. И последнее было тем, что не в его силах было ей дать. Он не мог лгать ни ей, ни будущей супруге. Не мог делить чувства и жизнь. Не мог заставлять кого-либо делить.
Единственное, что он мог сделать – быть рядом. Просто быть рядом, без какой-либо надежды для них обоих.
– Мне жаль, что я не смогу подвести Вас к алтарю в день Вашего венчания.
– Мне тоже, Николай Александрович.
У них не было иного времени на прощание: последняя ночь, утренний молебен и поезд после обеда. Оставшиеся часы – для семьи: для братьев, которые уже заранее тоскуют (это особенно было видно по Великому князю Александру Александровичу), для той части свиты, что не сопровождала цесаревича в его путешествии. Но не для фрейлины Императрицы, которой следовало уже подвести черту под всем, что могло её связывать с Наследником Престола. Она и без того слишком долго жила иллюзиями, которые однажды должны были раствориться в дымке предрассветного тумана. И лучше им это сделать раньше, чем в Петербург прибудет карета с будущей государыней.
Еще с десяток секунд позволив себе удержать эту мучительную связь слишком громких взглядов, заполнивших молчание александрийского утра, Катерина склонилась в медленном реверансе, до последнего стараясь не поднимать глаз.
И чего ей стоило уйти – не оборачиваясь, не срываясь на бег, не опуская головы – было одному только Богу известно.
***
Российская Империя, Царское Село, год 1864, июнь, 12.
В половину одиннадцатого под сводами Готической капеллы запели молебен о путешествии, повинуясь традиции, заведенной еще покойным Императором. В сравнении с летом прошлого года, когда службу стоял почти весь двор, сейчас здесь было немноголюдно: свита, что должна была сопровождать цесаревича, младшие братья, несколько фрейлин. Катерина, с утра вчерашнего дня не видевшая Николая – он еще до обеда уехал с Александром Александровичем в Кронштадт, а возвратился лишь ближе к рассвету, и, казалось, уже не ложился, – невольно хмурилась, видя усталость на его лице. Казалось, что оная не имела ничего общего с бессонной ночью. Только даже если это было и так, она не могла сделать и шага в его сторону, чтобы осведомиться об истинных причинах – они простились еще вчера. Не стоило вновь рушить все свои клятвы.
К счастью, Великий князь ни на шаг не отходил от брата, тем самым не давая ему ни на что отвлечься, и Катерине удалось не только выскользнуть из капеллы по окончании молебна незамеченной, но и оказаться в другом экипаже, тем самым избавившись от неловкого молчания, что присутствовало бы в ограниченном пространстве закрытой кареты.
А в Царском Селе её ждал сюрприз, за который она благодарила Создателя, хоть и следовало бы (она не сомневалась) – цесаревича.
Счастливый взгляд приехавшего жениха резал по живому, и даже то, что она искренне рада была его видеть, легче не делало. Она ощущала себя предательницей, обнимая и целуя Дмитрия. И все, на что надеялась – мимолетное должно однажды уступить место вечному. А значит, все пройдет. Забудется с летними грозами, укроется шелестящими листьями. Когда первые алые закаты, обещающие морозную ночь, растекутся над Петербургом, она уже станет замужней барышней.
Тускло блеснувший изумруд на пальце – как её фальшивая улыбка. Кольцо вернулось, сердце осталось где-то там, в других руках.
На прощальный обед она не вышла – сказалась уставшей, просила передать извинения и пожелания доброго пути: не хотела травить себе душу.
Для нее все завершилось вчера.
Для Николая – тоже.
Когда он стоял на пристани Кронштадта, медлящий со сходом на борт своего «Увальня». Когда рядом пытался держать веселую улыбку Саша, еще памятующий о том, что лицо императорской крови не имеет права показывать неправильных эмоций. Силящийся поступать по родительским заветам – не колебать и без того шаткую решимость, не давать погрузиться в тоску. Хотя – Николай это видел отчетливо – ему хотелось по-детски заплакать и попросить не уезжать, как он это делал, когда им было не больше пяти, и отец впервые взял его на охоту, оставив остальных во дворце. Расставание даже на несколько часов для них превращалось в пытку.
– Твой образ холодной рыбы, который ты так старательно создавал, рушится, – поддел брата Великий князь. – Как же вовремя твой отъезд – еще немного, и фрейлины бы все же начали искать твоего внимания вновь.
– Не все маски мы можем держать до конца, – отозвался Николай, рассеянным взглядом следя за расходящимися по воде кругами. Сегодня словно бы роли сменились: он отвечал односложными предложениями, в то время как Саша все говорил, говорил, говорил. Казалось, он панически боялся чего-то не успеть. Сказать, увидеть, сделать. Запомнить.
– Вот ведь ирония: вновь Екатерина. Быть может, и невестой станет принцесса с таким именем?
Цесаревич неопределенно усмехнулся, бросая новый теплый камешек и наблюдая за тем, как тот, прыгнув несколько раз, ушел под воду.
– Papa уже подобрал мне невесту. У судьбы определенно есть чувство юмора: она не Екатерина, и вряд ли ей станет, но она слишком похожа на Катрин.
Он действительно питал надежду, что это внешнее сходство поможет случиться чуду, и юной принцессе не придется страдать в их браке. И он сам, возможно, сумеет не только показать родителям, что рад своему обручению во благо Империи, но и ощутить искреннюю радость. Ведь она должна быть вправду хороша и достойна их союза.
Обещание, безмолвно данное самому себе, следовало исполнить, каких бы трудов это ни стоило. Когда он вернется в начале зимы, он уже не встретит этих зеленых глаз при Дворе, и если им однажды случится пересечься – не раньше, чем Петербург укроет сверкающее снежное одеяло, а в воздухе разольются звуки грандиозных балов. Все, что останется – теплые воспоминания и маленькая икона Николая Чудотворца, покоящаяся среди вещей. И у сердца под плотной тканью мундира – маленькое письмо в шесть строк, найденное в вернувшейся к нему вечером книге. Бумага все еще хранила едва уловимый аромат фиалок.
«Je serai malgre la distance
Pres de vous par le souvenir.
Errant sur un autre rivage,
De loin je vous suivrai,
Et sur vous si grondait l’orage,
Rappelez-moi, je reviendrai.
K.» ***
Гудок царского поезда возвестил о том, что прощание затянулось. Цесаревич обернулся к стоящему поодаль графу Шувалову, все же вызванному ко Двору – ответное письмо от Императора еще не пришло, но Николаю требовалось поговорить с ним уже сегодня, поэтому решения отца дожидаться он не стал. Помедлив, сделал несколько шагов, преодолевая разделяющее их расстояние.
– Берегите Катрин, граф, – тихо, чтобы слова то ли просьбы, то ли приказа не долетели боле ни до кого, произнес Николай.
Дмитрий поднял на него взгляд и медленно, серьезно кивнул.
– Обещаю.
Он знал о чувствах невесты к Наследнику престола, видел, как тот относится к ней. И… не испытывал ни ревности, ни злости. Он слишком хорошо понимал происходящее и условия, в которых находились все участники этой ситуации. Слишком сильно доверял Кати, чтобы думать, будто она все еще желала венчаться с ним лишь от безысходности. Слишком искренне любил ее, чтобы отказать, даже если бы это было так. Потому он не испытывал сомнений в том, что цесаревич защитит Кати, когда он был вынужден инсценировать свою смерть. И потому сейчас ощущал всю ответственность, всю хрупкость и одновременно тяжесть ноши, что вверялась в его руки, всю горечь трех коротких слов, что было так сложно произнести.
Он и без того был готов жизнь отдать за невесту, хотя должен был – только за царя. Но теперь эта решимость возрастала вдвойне.
Еще с минуту Николай стоял напротив него, в твердом, звенящем чем-то невыразимым, взгляде читалось желание сказать еще что-то. Но он только поджал губы, подавив в себе глубокий вздох, и резко развернулся, возвращаясь к собравшимся. Смотря в спину удаляющемуся Наследнику престола, Дмитрий не мог отделаться от мысли, что ни за какие мирские блага бы не согласился родиться в царской фамилии.
Она просила слишком много жертв.
____
Конец второй части.
Комментарий к Глава девятнадцатая. Неизбежность предстоящих расставаний
* герб Александрии был создан А.В.Жуковским, питавшим теплые чувства к Александре Федоровне.
** Катерина процитировала Лермонтова: это стихотворение на французском было датировано 1832 г. Примерный перевод следующий: «Преодолев расстояние, я буду около вас силой воспоминания. Блуждая на другом берегу, я издали буду следовать за вами; и если над вами разразится гроза, позовите меня, – и я вернусь.»
| а я просто напомню о том, что Варвара Нелидова была не только близкой к Александре Федоровне фрейлиной, но и фавориткой Николая I на протяжении 17 лет.
========== Часть III. Разорванные грезы. Глава первая. Сердце раскололось и вновь срослось ==========
Но разве я к тебе вернуться смею?
Под бледным небом родины моей
Я только петь и вспоминать умею,
А ты меня и вспоминать не смей.
А.Ахматова
Российская Империя, Семёновское, год 1864, июль, 27.
Лето перешагнуло самый свой расцвет – пташки начинали выводить многоголосые трели уже в четвертом часу, а солнце опускалось за горизонт ближе к полуночи, отчего казалось, что ночь вовсе растворялась в жарком июльском мареве, от которого единственным спасением были прогулки у рек, озер или прудов в приусадебных парках, либо же комнаты на северной стороне. Катерина, всегда с таким трепетом ожидающая лета – не с тем, что сопровождал предрождественское предвкушение чуда, но с особым и таким дорогим сердцу чувством счастья – сейчас отчего-то едва ли понимала, когда июнь уступил свои права следующему месяцу, а тот внезапно разменял три недели, намекая, что еще немного, и по дорожкам закружит опавшая листва. Она вообще, казалось, полностью потеряла счет времени, с головой уйдя в приготовления к свадьбе, вопреки ожиданиям ничуть не бурлящие вулканической лавой – скорее густые, словно патока, и такие же недвижимые.
Приданое было подготовлено еще прошлой осенью, и не было никакой нужды его как-то дополнять – все традиции и приличия уже соблюдены, а очередной рушник семье жениха ни к чему. Процедуру брачного обыска обрученные тоже прошли ранее, и хотя некоторые моменты могли меняться со временем (хотя бы пребывание любого из них в браке, поскольку кровное родство в минуту не появлялось), но никто не счел нужным повторять это дело. Из тех же, что соответствовали русским традициям, оставались лишь отнесенные непосредственно на день перед венчанием, и потому решения требовали лишь вопросы, посвященные последующему застолью, свадебному пиру и визитной неделе, которая грозилась утомить обоих сильнее чем все прочее.
Катерина силилась не думать об этом дольше, чем стоило, но что Елизавета Христофоровна, что Эллен, что наносящие визиты Шуваловым соседи, оповещенные о скорой свадьбе молодого графа, будто бы взяли себе за обязанность напомнить обо всех тех праздненствах, через которые должна пройти невеста. Впрочем, Эллен в последние недели ни о чем не напоминала – еще в конце июня она отбыла во Флоренцию. Безусловно, не одна – её сопровождала родная тетушка, сестра Елизаветы Христофоровны, каждое лето отдыхающая на своей итальянской вилле. Собственно, именно она и любезно согласилась приютить племянницу, которой слишком уж хотелось «вырваться из сельской тоски». К свадьбе подруги и брата она, конечно же, клятвенно обещалась приехать, но, надо признаться, что Катерина даже смогла вздохнуть спокойнее, стоило Эллен покинуть поместье – исчез этот беспрестанный контроль и воцарилась тишина, которой так недоставало. Все же, младшая графиня Шувалова была излишне деятельна. Во всех аспектах.
Елизавета Христофоровна же, хоть и не оставляла будущую невестку, то интересуясь её мнением касаемо меню для свадебного пира, то узнавая предпочтения по проведению бала, то прося сделать выбор между десятком образцов кружева, столь активно себя не проявляла, позволяя молодым самостоятельно обдумывать грядущее торжество. Тем более что лето еще только-только достигло своего пика, и до свадьбы оставалось более двух месяцев.
Единственное, что изрядно тяготило душу Катерины – её вынужденное пребывание в доме жениха: согласно традициям невеста входила в семью только после венчания, а приданое перевозили за ночь до оного. Она же вернулась в Семёновское с Дмитрием еще в середине июня, не имея больше никакой необходимости находиться в Царском Селе; и с того момента занимала гостевые покои второго этажа. Права невесты, позволяющие ей чуть больше, чем статус гостьи, не могли унять внутреннего напряжения, возникающего всякий раз, стоило к Шуваловым заглянуть кому из соседей, или же если сама Катерина во время своей прогулки по окрестностям сталкивалась с кем из местных.
Ей казалось, что её все осуждают.
Бесспорно, если бы не отсутствие семьи в России и потеря последнего родного человека, она бы даже не осмелилась помыслить просить о крове у семьи жениха. Но это ничуть не делало её уверенней.
И к слову о дядюшке.
Катерина вернула полупустую чашечку на маленькое блюдце – фарфор издал негромкий раздражающий звук – и вновь взяла в руки письмо, доставленное ей парой часов назад. С того момента она перечитала его уже раз на шесть, но особой помощи в дальнейших размышлениях это не принесло. Писала маменька, в ответ на её собственное письмо, отправленное еще до отъезда цесаревича. И известия, что она сообщала, отчего-то не всколыхнули и намека на радость внутри Катерины.
«…Ирина неописуемо счастлива – похоже, что барон фон Стокмар и впрямь пришелся ей по сердцу. Когда мы задумывали сговор, я опасалась, что Ирина воспротивится или будет несчастна в этом браке, но теперь во мне ожила надежда, что решение было верным…»
Все же, венчается. Катерина невольно подогнула уголок, уставившись на ровные строки – у маменьки всегда был идеальный почерк, который она желала видеть и у дочерей. Правда, у них идеальным должен был быть не только почерк, что явно прослеживалось даже в этом браке: Ирина не глупа, она хорошо понимает, что обесчещенная уже становится «испорченным товаром», за который и медной монеты не дадут, а потому стоит ответить согласием тому, кто предложит. И все же, подыскать ей супруга на добрых двадцать лет старше самой княжны, выбранного за родовитость и отсутствие интереса к непорочности невесты, могла только их маменька, желавшая видеть старшую дочь по меньшей мере княгиней. Увы, получилась баронесса, но зато немецкая, а отец её супруга при жизни имел влияние на британскую политику (или же будет точнее сказать, что на саму королеву Викторию), что давало определенные привилегии его старшему сыну. Или, почти получилась – венчание назначили на август.
Теперь Катерина могла без каких-либо официальных препятствий дать согласие Дмитрию на брак в Покров день: к тому моменту она будет старшей незамужней дочерью.
«…Петя, к моей радости, о той девице больше не вспоминает…»
Давнее увлечение брата девушкой совершенно незнатного происхождения, конечно, родителей не обрадовало, и даже то, что он вроде как не высказывал желания обручиться с ней, едва ли останавливало их от постоянных нравоучений. Негоже было потомственному дворянину с какой-то мещанкой (или кем она была?) амуры крутить. Все бы списали на короткое увлечение, но ведь молодой князь на других барышень не смотрел и о своей даме сердца грезил больше трех месяцев, что не могло не насторожить родителей. Впрочем, была ли нужда маменьке беспокоиться теперь?
«…Невеста его – девушка крайне достойная и порядочная, без видимых глазу изъянов и воспитанием не обделенная…»
Удивительно, как свадьбу брата не приурочили к венчанию сестры – если верить маменьке, назначили на конец октября.
«…Твой вопрос, сознаться, вызвал у меня недоумение. Я никогда не видела родственников со стороны батюшки, и даже не имею представления, живы ли они и существуют ли. Матушка дала нам все, что могла, и этого было с лихвой, а после, как ты знаешь, я вышла замуж за твоего папеньку, и поиск какой-либо родни и без того стал бессмысленен…»
В каком-то роде Катерина могла её понять: ей было лишь семнадцать, когда она получила статус княгини Голицыной, и последующие несколько лет её ум занимали только дети, появляющиеся один за другим. А после она стала полноправной хозяйкой поместья, и вообще едва ли вспоминала, что в девичестве была Остроженской. Борис Петрович же сестру оберегал, по всей видимости, поскольку ничего о его собственной жизни она не знала – видела лишь ту картинку, что он искусственно создал. Для нее, для племянников, для невесты и её семьи. Для всех.
Увы, но маменька едва ли могла чем-то здесь помочь.
К тому же, кто мог, она не имела права обратиться. Она даже вспоминать себе запретила, хотя рука каждый день порывалась вывести хотя бы пару строк. Особенно когда ей донесли о пожаре, случившемся третьего июля в Царскосельском дворце. Пострадали лишь конюшни, принадлежавшие Императору и Наследнику, и то – без лошадей, да и без экипажей. Но отчего-то эта новость будто крики воронья поселила внутри Катерины необъяснимую тревогу. Она с неделю не находила себе места, едва сдерживаясь от желания написать хотя бы к Сашеньке Жуковской – вдруг той что известно.
Но это было опрометчиво и абсолютно глупо. Ничего дурного не случилось – она просто излишне мнительна и везде ищет какие-то мистические символы, связанные с цесаревичем.
Когда давно уже пора было все забыть.
***
Нидерланды, Скевенинген, год 1864, июль, 30.
Вопреки всем надеждам, расставание с Россией не давалось легче, сколько бы дней ни прошло. Тоска, крепко обнявшая цесаревича еще в первую остановку на Эйдкунене, в Пруссии, стоило ему случайно встретиться с соотечественником – профессором Буслаевым, не желала отступить ни через неделю, ни спустя месяц. Июль подходил к концу, а Николаю чудилось, что уже вовсю разгулялся октябрь. Или же ему хотелось, чтобы это было так – он не мог дождаться момента, когда не доставляющее ему ни капли удовольствия путешествие окончится.
Он с уважением относился к чужим странам, понимая, что для каждого его дом – священен и по-особому дорог. Он мог находить в чужой культуре и обычаях нечто интересное и увлекающее его живой ум, но не более. Душа рвалась обратно в Россию: к Саше, к родителям, хоть и они еще находились в Киссингене – в конце июня он свиделся с ними там, проведя на баварском курорте более недели. Близость матери, присутствие тетушки Ольги с супругом, частые кавалькады и танцевальные вечера, так похожие на те, что проводились при Дворе, создавали иллюзию дома. И только пейзаж за окном сильно разнился с тем, которым баловала его Родина. И штатское платье – у него, у родителей, у тетушки, даже у короля Людвига – как-то непривычно расслабляло, первые дни создавая ощущение, что он о чем-то забыл: после строгого форменного мундира свободно лежащий сюртук казался одеждой с чужого плеча. Впрочем, он быстро с ним сроднился, хоть и порой рука тянулась к военной форме – привычки, привитые не за один десяток лет, так просто не исчезали.
И как-то невольно подумалось, что окажись сейчас рядом Катрин, между ними уже не было бы того внешнего различия.
Увы, насладиться покоем рядом с родителями вдоволь не удалось – граф Строганов настаивал на соблюдении тщательно выстроенных планов. Император, как и ожидалось, его поддержал, и Николаю, долго прощавшемуся с матерью, пришлось выехать в Веймар, где когда-то жила Мария Павловна, а ныне – её сын. Это было своеобразной возможностью сделать глубокий вдох, прежде чем окончательно оторваться от дома – следующим пунктом значилась Голландия, а за ней и прочая Европа. И сколь светло было Николаю на сердце в Киссингене, столь мрачные думы на него навлек Скевенинген.
С самого детства его поездки на воды обычно оканчивались где-то в Либаве с её вечно беспокойным Балтийским морем, или же в Гапсале, но на сей раз врачебный консилиум (впрочем, Николай догадывался, что здесь обошлось одним-единственным медиком) почему-то переменил решение, и маршрут путешествия пришлось изменить. В Скевенингене до того цесаревич не был – Голландия его интересовала, но больше Заандамом, где когда-то учился корабельному делу Петр Великий, чья личность у него всегда вызывала восхищение и неподдельное желание достигнуть тех же высот. Туда (в Заандам) он надеялся все же добраться, но явно после того, как будут пройдены все купания – раньше граф Строганов ему не дозволит, это ясно.
Внешне Скевенинген был ничуть не хуже привычной цесаревичу Либавы – взять хотя бы невероятно протяженный и широкий пляж, на котором бы разместился не один взвод солдат. Архитектура города, как и в большинстве мелких европейских городков, тоже прельщала красотой старинных зданий – церковь пятнадцатого века одна из первых привлекла его внимание, требуя изучить её тщательнее. Однако климат Скевенингена даже в сравнении с отнюдь не жаркой Либавой выглядел крайне холодным – вода даже в июле прогревалась недостаточно, чтобы не желать выйти спустя несколько минут. То же касалось общей температуры: резкие порывы ветра с моря уничтожали всякий намек на тепло, отчего Николай не снимал сюртука даже в полдень. Да и чуть ли не через день здесь шли дожди, тоже не способствующие приятным прогулкам.
Определенно эта идея придворного врача не входила в число гениальных. Если она исходила от Шестова, то, пожалуй, удивляться было совершенно нечему.
Отчасти дурное настроение было вызвано и гаагскими родственниками, живущими в таком разладе, что Императорская семья на их фоне выглядела образцово-показательной: встречаться с каждым из них приходилось по-отдельности, поскольку все они и слышать друг о друге не желали. Особенно это касалось тетушки Софии (королевы Нидерландской), которая собственного супруга, короля Вильгельма, иначе как «этот человек» и не называла – именно ей Николай чаще всего наносил визиты, давая согласие на её бесчисленные приглашения. К чему только они были в таком количестве, если ни капли родственного тепла он с её стороны не ощущал?
Каждый правящий Дом чаще демонстрировал благожелательность и идиллию, нежели действительно их испытывал, но осиное гнездо в Нидерландах особенно выделялось из всех, заставляя цесаревича еще пуще считать минуты, часы и дни до отбытия из Скевенингена.
Единственное, что хоть немного скрашивало его тоску – письма от Саши, что приходили с периодичностью раз в неделю. Брат скучал не меньше его самого, и только привычка (да, возможно, контроль со стороны наставника) не давала ему выдать все на бумаге, заставляя держать лицо.
«Милый Никса, давно тебе не писал, – ты не можешь себе представить, как нас таскают из Красного в Петергоф, в Петербург, в Царское Село, были также в Ораниенбауме и Кронштадте. До приезда Папа мы жили спокойно в лагере, никуда не уезжали, а теперь просто покою нет: встанешь в 3 часа на тревогу, вернёшься к 11 часам – ужасно устал, хочешь отдохнуть, а тебя тащут в Царское, да ещё нужно непременно пойти кругом озера. – Несмотря на всё это, я так доволен нашим житьём в лагере, что лучшего и ожидать нельзя. Служу, надеюсь, хорошо – по крайней мере, на ученье не опаздываю, исполняю всё, что приказано».
Николай, искренне радующийся каждому письму, после прочтения замирал над белым листом, не зная, что ответить. Писать о том, как он тосковал по России, было бессмысленно. Говорить о том, как ему недостает брата – только ухудшить состояние самого Саши, явно ждущего весточки с куда более приятными строками. Расписывать же красоты пляжа и снятой виллы… он сделал это в двух предложениях, когда первый раз из Нидерландов коротко отвечал брату, одновременно с этим набросав и трехстраничное письмо для родителей (в большей степени для матери, волнующейся за его здоровье). О подозрениях же на полную бессмысленность этих морских купаний он вообще никому сказываться не думал – чего доброго путешествие затянется еще на пару месяцев, пока врачебный консилиум будет решать, на какие еще воды отправить Наследника Престола. Он выдержит отведенный ему месяц, а там уже счет пойдет в обратную сторону – быть может, приближение дня возвращения в Россию пойдет ему на пользу.
Потому, не зная о чем рассказать (и не имея ни капли настроения на длинные, подробные истории), упоминал какие-то ничего не значащие мелочи, ранее бы развернутые в целую комедийную сценку: например, как местная газета в его адрес разразилась похвалами – просто от того, что он не отказал во время прогулки по берегу кому-то из жителей в беседе и играл с ребенком, встреченным там же. Или же о встрече с наследным принцем Оранским – кутилой и щеголем, славящимся своими ночными пирами, устраиваемыми в Hotel des Bains. Самого Николая на такие вечера не влекло, зато принц Вильгельм решил почтить своим визитом русского цесаревича – за беседой оба имели крайне благодушный вид, а после жгли перчатки, в которых пожимали друг другу руки. По крайней мере, Николай не сомневался, что его желание не повторять эту встречу, посетило не его одного – спустя пару дней ему донесли, что Оранский принц остался не в восторге от Наследника Российского Престола, окрестив того «la vierge russe». Цесаревич эту новость, прозвучавшую со стороны адъютанта, едва ли удостоил внимания, впрочем, не преминув согласиться с тем же адьютантом, что принц Вильгельм являлся «жалким гибридом чувственности его отца с мрачным остроумием его матушки».