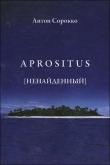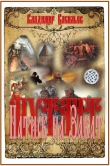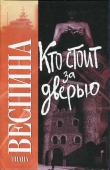Текст книги "Плачь обо мне, небо (СИ)"
Автор книги: Selestina
Жанры:
Исторические любовные романы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 60 страниц)
– Вы сказали «покойной»? – цесаревич вернул внимание хозяйке дома, кажется, тоже ушедшей в себя из-за затронутой темы. От прозвучавшего вопроса она помрачнела еще сильнее, но постаралась ответить как можно спокойнее.
– Вера скончалась за два дня до свадьбы от холеры.
Николай невольно опустил взгляд. Самая длинная вспышка эпидемии, начавшаяся в пятьдесят втором* и завершившаяся всего три года назад, унесла немало жизней, о чем ежедневно в первые шесть лет сообщал вестник «Северная пчела». Цесаревич об этом знал больше по рассказам, нежели будучи очевидцем – на момент возвращения холеры в Петербург ему было всего пять лет, когда столица стала очагом болезни – семь, и члены монаршей семьи раньше времени переехали в Царское Село. Но ему однажды случилось, сопровождая Императрицу в Мариинскую больницу для бедных, увидеть зараженных, и это зрелище произвело на него неизгладимое впечатление. Те годы, когда затухание и новая вспышка болезни в столице следовали друг за другом, заставляли сердце юного Наследника престола сжиматься от ужаса – он сопереживал умирающим и их семьям, но не мог сделать ничего. Так же, как и врачи.
На низкий столик опустился фарфоровый сливочник, с тихим стуком рядом примостился пузатый чайник, две изящные чашки, сахарница, вазочка с печеньем. Цесаревич вздрогнул, когда все тем же бесстрастным голосом Варвара Львовна предложила ему чаю, и коротко кивнул.
– Вы продолжили поддерживать приятельские отношения с князем после того как… – он замялся, – … свадьба сорвалась?
– Общее горе сближает, Ваше Высочество, – тихо пояснила баронесса. – Борис Петрович ощущал вину за собой: он думал, что Вера заразилась в Петербурге, куда он вывез ее за пару недель до свадьбы. Она отказывалась от поездки, а он настоял. Хотел сделать ей подарок.
Несмотря на все усилия, Варвара Львовна все же едва владела собой: голос ее подрагивал, пальцы с силой сжали витую ручку маленькой чашечки, чтобы не выронить. Николай уже жалел, что завел беседу – он не предполагал, что придется сыпать соль на чужие раны, которым никогда не зарубцеваться. Сложно представить утрату страшнее смерти собственного ребенка. Вот только он был обязан исполнить цель своего визита.
– Расскажите мне о Вере, – почти через силу выдавливая из себя слова, попросил цесаревич. Глоток крепкого чая обжег горло: он старался сделать вид, что это обычный интерес без какой-либо цели. Верила ли в то баронесса – сложно было сказать. Вряд ли она просто задумывалась сейчас, что побудило ее гостя ворошить прошлое, не имеющего никакой связи с императорской семьей или Отечеством.
Варвара Львовна Аракчеева, в девичестве Елагина, никогда не претендовала на громкий титул или значимое место в обществе. Брак с Павлом Петровичем, сделавший ее баронессой, ничего не изменил ни в мышлении, ни в привычках: жизнь она вела тихую, скромную. После замужества посвятила себя семье, за восемь лет подарив супругу пятерых детей – троих мальчиков и двоих девочек. Последние роды, в результате которых появилась Вера, оказались тяжелыми, медики чудом спасли и мать, и ребенка. Возможно, именно поэтому к девочке относились с особым трепетом: не баловали, но всячески оберегали, уделяли ей больше внимания. Тем более что старшие были почти погодками и с младшей имели разницу в пять лет, а соседей того же круга в Бежецком уезде не было, и девочка явно скучала без подруг-сверстниц.
Несмотря на то, что самой Варваре Львовне повезло сочетаться браком по любви, детей своих она желала устроить как можно надежнее. Старший сын оказался на государственной службе, быстро продвигаясь по карьерной лестнице, младшие близнецы выбились в предприниматели и женились почти в одно время: один на дочери известного купца Медведникова, занимавшегося золотодобычей и пушниной, а другой выбрал в супруги полячку Кричевскую, чем немало огорчил родителей, потому как от своего решения отступаться не желал. Устав бороться с его упрямством, Варвара Львовна махнула рукой на непутевого сына и с особым усердием занялась устроением жизни дочерей: Ульяна была выдана замуж за сына директора Императорских театров и стала носить боярскую фамилию Сабурова. Обосновалась она с супругом в Москве, что позволило матери часто ее навещать – от Бежецкого уезда до белокаменной было не так далеко, как до Петербурга. Для Веры же партию Варвара Львовна искала очень долго, отвергая все кандидатуры, пока Марта Голицына, ее давняя подруга, не предложила собственного брата.
Борис Трубецкой ей показался достойной партией для Веры – помимо обаяния и красноречия, что помогали ему завязывать полезные знакомства, он обладал несгибаемой натурой, через сестру находился в родстве с древним дворянским родом, имел за душой дом в Петербурге (хоть и не желала баронесса отпускать дочь туда) и загородное имение, владел несколькими сотнями душ. Вера не выказала протеста – любовью глаза ее не светились в день знакомства с будущим супругом, но матери она всегда была покорна и даже казалась расположенной к оному. Сам же князь Трубецкой, похоже, нашел невесту интересной особой, старался как можно чаще наносить визиты в Бежецкое имение Аракчеевых. Разница же в возрасте была не столь явной, чтобы иллюстрировать наделавшую шуму в прошлом году картину Василия Пукирева – не по годам взрослая на лицо восемнадцатилетняя Вера смотрелась гармонично рядом со своим женихом, даже несмотря на то, что ему к моменту обручения было уже тридцать четыре.
Возможно, их брак был бы если не счастливым, то крепким: сознание Веры не затуманивалось розовыми мечтами, она была готова следовать воле матери и сделать все, чтобы ее не в чем было упрекнуть. Однако судьба распорядилась иначе – спустя пять недель после обручения Вера слегла с холерой. Врачи не сумели даже облегчить ее страданий, не говоря уже о том, чтобы спасти.
– Мы уехали из Бежецкого сразу после похорон, – треснувшим голосом произнесла Варвара Львовна, когда закончила короткий, сбивчивый рассказ. – Все три года на могилу Веры ездил только князь Трубецкой. Мы… я не могу.
Она отвернулась на мгновение – возможно, чтобы вернуть своему лицу былое вежливое радушие; цесаревич задумчиво поставил чашку на столик. К чаю он так и не прикоснулся.
– Прошу простить за то, что пробудил эти воспоминания, – подавив тяжелый вздох, он задал последний (по крайней мере, он на это очень надеялся) вопрос: – Когда Вы последний раз виделись с князем?
Баронесса, тоже не удостоившая чай вниманием и даже не притронувшаяся к сладостям, что говорило о высшей степени ее погружения в тягостные мысли, нахмурилась. Нельзя было сказать, что князь часто наносил визит Аракчеевым, а сама она встреч не искала – ни к чему. После того, как сестра его с семьей была выслана из России, последняя ниточка, что могла связывать Варвару Львовну с Борисом Петровичем оборвалась. И разве что по старой памяти случалось исполнить какое-то поручение. Впрочем, таковых было немного.
– Пожалуй, после Крещения, – массируя виски от так некстати – но так закономерно – охватившей ее головной боли, баронесса силилась вспомнить, когда же в действительности состоялась последняя встреча. – Кажется, тогда Екатерина Алексеевна в слезах приехала, что-то про гибель жениха говорила. Я еще удивилась – князь никогда не говорил мне, что племянница была обручена: мне казалось, он ради этого и просил за нее перед Императрицей похлопотать.
Ничего на это не сказав, цесаревич поблагодарил Варвару Львовну за гостеприимство и беседу, и откланялся. Все, что он мог, он уже выяснил: вряд ли баронесса может быть полезна еще чем-то. Он не знал, может ли доверять ее рассказу и ответам, насколько искренней она была, не догадалась ли, с какой целью он задает свои вопросы, не находится ли в сговоре с Трубецким. Но у него появилась хоть какая-то зацепка, и даже если это ложный след, он обязан ее проверить.
В Царское Село Николай вернулся, когда зашло солнце. Нанес вечерний визит матери, испросив прощения за опоздание, покорно принял упрек графа Строганова за то, что своевольно отменил аудиенцию и уехал из дворца. И только оставшись наедине с собой, стремительно выудил из ящика стола чистый лист бумаги, дабы в срочном порядке отправить приказ доверенному лицу. На этой части затянувшейся и жестокой партии было пора поставить крест, тем более что она уже окончилась проигрышем. Для нового же хода в предпринятых ранее мерах не было никакой необходимости.
Теперь придется сделать ставку на единственное человеческое, что могло остаться в сердце старого князя.
***
Российская Империя, год 1864, май, 10.
Бориса Петровича было крайне сложно довести до состояния, когда злость выплескивалась за край и требовала немедленно охладить голову, пока затуманенный разум не решился на нечто непоправимое. Единственный раз, когда он не сумел сдержать в себе ярости – в день, когда ему открылась правда об отце. В день, когда он поклялся отомстить, вернуть честь и статус опальной фамилии. Но с того момента прошло уже более двадцати лет, и ни разу за это время он не испытывал тех же разрушительных ощущений.
Пока Орлов не донес ему о пожаре в доме Татьяны.
Стоит сразу внести ясность: Борис Петрович не сочувствовал ей. Его едва ли смутил способ, которым расправились с мальчишкой – Татьяна провинилась и должна была понести наказание. Однако старый князь не отдавал приказа, что означало лишь одно: кто-то вел свою игру, и он догадывался, кто именно это был. Кто решился своевольно вмешаться в просчитанную до последнего хода партию.
С глухим рыком свернув подсвечник со стола, отчего в и без того сумрачной комнате стало еще темнее, и теперь единственное пятно света приходилось на угол возле стеллажа, Борис Петрович медленно выдохнул, сверля недобрым взглядом дубовую дверь, за которой уже послышались торопливые шаги. Спустя мгновение оная отворилась, впуская щуплую фигурку Курочкина, замершего в проеме, стоило ему увидеть хозяина помещения.
Игра света и тени надела на его и без того озлобленное лицо маску нечеловеческой ярости, заставляя невольно отшатнуться. Курочкин с трудом сдержал порыв перекреститься и помянуть черта.
Почему-то ему подумалось, что даже тот будет радушнее Остроженского.
– Вы проходите, не стесняйтесь, Василий Степаныч.
Слащавая улыбка, расплылась по лицу звериным оскалом. Приглашение к пыльному стулу с облупившейся позолотой показалось приглашением на раскаленную сковороду. Так, должно быть, начинаются пытки для грешников в аду.
Дождавшись, когда Курочкин, старательно пытаясь сохранить невозмутимость, на негнущихся ногах доберется до предложенного ему места, Борис Петрович повертел в руках любимую трубку и заинтересованно склонил голову, не сводя взгляда с гостя.
– Вы меня укоряли в том, что я с рук всем спускаю провинности, – начал он вкрадчивым тоном, отчего по спине Курочкина, вроде бы и бывшего не робкого десятка, пробежал холодок. Как бы он ни убеждал себя в том, что они здесь на равных, он явственно ощущал превосходство Остроженского, и это не давало ему даже лишний вдох сделать.
– Так дело ж ясное – одним только послабление дашь, они уже и ни во что ставить не будут, – каких трудов ему далась одна длинная фраза, произнесенная словно бы уверенным спокойным тоном, и черт не знал. На висках выступил пот, а сжатые руки, лежащие на коленях, побелели от напряжения.
– Ваша правда, голубчик, Ваша правда, – одобрительно кивнул Борис Петрович. – С такими по всей строгости надо. Орлов! – громогласно позвал он дежурившего снаружи мужчину, явившегося незамедлительно. – Уведи господина Курочкина.
– Чт?.. – тот встревоженно покрутил головой, бросая непонимающий взгляд то на вошедшего слугу, то на старого князя. – По какому?..
– Вы же сами сказали: послаблений никому давать нельзя, – пожал плечами Борис Петрович, казалось, даже вошедший в благодушное состояние, – от рук отобьются, своевольничать станут, – мягко, как ребенку пояснил он.
Орлов, повинуясь приказу, жестко сомкнул пальцы на плече Курочкина и резким рывком заставил подняться на ноги, но уводить не спешил, видя, что Остроженский еще не закончил говорить.
– Видите ли, Василий Степаныч, вы, похоже, решили, что Вам лучше знать судьбу тех, кто пошел против меня. Тогда Вы должны были хорошо знать, что исключений нет ни для кого, и Вы, повторивший деяния Татьяны, не удостоитесь лучшего исхода.
– Я только… – Курочкин беспомощно развел руками, пытаясь объясниться, хотя прекрасно понимал – это ему уже не поможет. Надежда на то, что Остроженский поймет, ради чего он исполнил то, с чем помедлил старый князь, должна была погибнуть в том пожаре, но умерла сейчас в больших муках.
– Вы задумали столь изощренную пытку, что я даже не стану пытаться обойти Вас в этом и позволю Вам насладиться своей же идеей, – с истинным удовлетворением наблюдая за тем, как расширились глаза Курочкина, Борис Петрович перевел взгляд на Орлова. – Исполняйте.
Тот отрывисто кивнул и выволок потерявшего всякие силы к сопротивлению и способного лишь умолять о помиловании Курочкина из кабинета. Рыдания и вопли заглушила толстая дверь, а после они окончательно стихли, когда Орлов с приговоренным удалился на достаточное расстояние.
Старый князь набил трубку табаком и задумчиво сомкнул губы вокруг шероховатого мундштука. Он полагал, что Курочкин будет умнее и не попытается насолить себе же: ведь неглупый мужик, должен был понимать, что не по силам ему с ним тягаться. Хотя, возможно, Борис Петрович переоценил его: ведь и в «Земле и воле» Курочкин вечно менял свое мнение и решения, ориентируясь на того, кто из членов общества ему покажется главнее на сей раз. Глупец. Вся злость, что шипела и клокотала в груди, стихла, превратившись в горячее озеро: греет, да не жжет. Не расплескивается кислотой, оставляя следы.
Рассеянный взгляд упал на маленький портрет в простой рамке темного дерева. Нехватка света, едва-едва попадающего на этот участок письменного стола, делала контраст темных кудрей и бледного, лишенного румянца лица, особо явным, почти болезненным. Словно художник знал судьбу той, чье лицо писал на холсте. И даже цветы, украсившие простую прическу, неспроста появились там – в дни, когда она позировала живописцу, их не было. Она вообще не носила цветов.
Она хотела императорскую корону.
***
Российская Империя, Царское Село, год 1864, май, 11.
Расписание Наследника Престола за пределами Зимнего Дворца немногим отличалось от обычного, но все же было не в пример свободнее, что позволяло следовать не только плану, который для него когда-то составляла Императорская чета (особенно здесь чувствовалась рука Марии Александровны, не упускающей ни единой детали в образовании старшего сына и надеющейся воспитать из него идеального Императора), но и вносить собственные коррективы. Находись он сейчас в Петербурге, Николай вряд ли бы смог с такой легкостью (пусть и относительной) отменять и переносить встречи, искать снисходительности у своих учителей и даже договариваться с наставником, не терпящим никакого безделия.
Однако, за несколько дней свободы, хоть и недолгой, приходилось расплачиваться бесконечными занятиями и аудиенциями. Каким чудом в последнюю удалось вместить встречу с нужным ему человеком, которому не было назначено, Николай не знал, но подозревал, что за это можно было поблагодарить отца. И в кои-то веки это «спасибо» должно было звучать без насмешливого подтекста.
Когда от дверей раздался голос слуги, оповестившего о прибытии Ягужинского, цесаревич невольно вздрогнул. Стараясь, чтобы заминка его выглядела так, словно бы он полностью погрузился в документы, что утром были оставлены Максимовским, он бросил короткое «Проси!» и решительно захлопнул тонкую папку. При виде вошедшего на лице его промелькнула улыбка. Впрочем, и гость не смог держать маску отстраненно-вежливого радушия.
Поднявшись на ноги, Николай в шесть шагов преодолел расстояние до двери и искренне обнял визитера.
– Я рад видеть Вас, Ваше благородие.
– Взаимно, Ваше Высочество, – коротко кивнул тот, возвращая себе привычную сдержанность в эмоциях.
– Вас не видели?
Прекрасно понимающий, что именно крылось за этим вопросом, мужчина покачал головой.
– Все было сделано так, как Вы приказали.
– Простите за эти меры, – Николай стиснул зубы, не способный смотреть в глаза визитеру. Его уже порядком утомила эта партия, но и закончить все раньше времени он не имел права – все жертвы, которые были принесены, оказались бы напрасны.
– Татьяна доставлена в Петропавловскую крепость и передана под стражу, – доложил мужчина. – Какие будут указания?
Цесаревич, словно в поисках ответа, окинул взглядом высокие стеллажи, забитые книгами. Если бы он не поторопился отправить письмо с требованием Ягужинскому вернуться в Петербург, тот бы сейчас уже был в Бежецке и мог бы проверить брошенное имение. Николай не предполагал, что разговор с баронессой даст зацепку, которую удалось бы использовать уже на следующий день. Теперь для того, чтобы добраться туда, потребуются сутки, а это значит, что, даже если выехать сейчас, прибыть удастся только к вечеру. Если принять во внимание случившийся намедни пожар, неизвестно, задержится ли теперь князь Трубецкой на своем месте, если он находился именно там, или решит уйти.
Или же, возможно, все сложилось так по воле Творца, и эти линии должны были пересечься в одной точке именно сейчас?
Обернувшись к ожидающему его указаний визитеру, цесаревич в который раз за эти долгие четыре месяца испытал гнетущее чувство вины, особо усиливающееся при взгляде в зеленые глаза, смотрящие на него с таким доверием и теплом. В то время как он держал наготове нож в спину. И никакие благие побуждения не могли оправдать его перед собой.
Вкратце он изложил то, что удалось узнать из беседы с баронессой Аракчеевой, после чего отдал приказ посетить Бежецкое имение, взяв с собой тех же жандармов, что сопровождали Ягужинского ранее. Вполне возможно, что они ничего не обнаружат, но лучше позаботиться о положительном исходе заранее. Вряд ли князь Трубецкой прячется в одиночестве, а значит, с ним будет не так просто справиться.
Когда дверь закрылась, оставляя Николая в тишине опустевшего кабинета, он упал в стоящее рядом с камином кресло и невидящим взглядом вперился в гипсовый барельеф. Короткий разговор, со стороны бы показавшийся формальностью, потребовал стойкости, которая утекала капля за каплей. В глазах собеседника цесаревич видел тщательно подавляемое желание задать вопрос, который ему был сейчас не положен. Не там, где уши есть у каждой паркетной доски. Не там, где невозможно сохранить что-либо в тайне.
А проклятое чувство отвращения к самому себе продолжало раздирать ядовитыми когтями грудь.
***
Катерине хотелось знать, может ли однажды давняя тема разговоров наскучить. Сплетницы, по кругу обсуждающие ее отношения с Наследником Престола, похоже, не знали усталости и вообще не имели ничего более интересного. Если бы она умела, она бы уже давно подбросила им что-нибудь новое, потому как уже могла наизусть пересказать все, о чем они говорили. Последние несколько дней фрейлины кидали на нее неоднозначные насмешливые взгляды и уже даже не стеснялись перемывать ей косточки, сидя у государыни. Баронесса фон Вассерман покинула этот змеиный клубок, а оставленная ей в качестве прощального подарка фраза о посещении Катериной спальни цесаревича еще жила и здравствовала в женском обществе, охочем до чужих тайн.
Единственное, чего она сейчас просила при каждой молитве – чтобы до Императрицы эти слухи не дошли. Сомнений в том, что та сумеет отличить правду от вымысла, не было, но это мало что изменит. Мария Александровна одарила ее невероятным доверием, и даже оказаться вовлеченной в грязные сплетни подобного рода уже означало безжалостно растоптать этот высочайший дар.
Объявившийся в будуаре государыни слуга, попросивший Катерину следовать за ним, вызвал недоумение с ее стороны и породил насмешливые шепотки за ее спиной: не требовалось особого ума, чтобы догадаться, кому тот принадлежал.
Какая бы причина ни потребовала ее незамедлительной отлучки, стоило сделать это менее… громко.
– Ваше Высочество, Вы действуете крайне неосмотрительно, – не удержалась от укора Катерина, входя в кабинет. В ее голосе не было ни капли шутки, однако легкость, с которой она это произнесла, растворилась, стоило ей увидеть, в каком подавленном настроении пребывал цесаревич. Пусть лицо его и посветлело, стоило ей приблизиться. То, что он был не в духе, от нее не укрылось.
– У меня есть приятные новости для Вас, – он старался произнести это с улыбкой, но из синих глаз не пропала усталость, а морщинка на лбу так и не разгладилась.
– Только выглядите Вы так, словно хотите вынести мне смертный приговор.
– Не Вам, – Николай оставил кресло, в котором провел последний час, что был отведен на аудиенции, и сделал шаг по направлению к Катерине, так и не сдвинувшейся с места – она замерла у закрытых дверей, по всей видимости, надеясь, что беседа будет недолгой. – Вы помните историю о своей тетушке? Ольге?
Княжна нахмурилась, медленным кивком подтверждая – да, в общих чертах то, что поведал ей Остроженский, сохранилось где-то в подсознании. Просто как еще одна семейная трагедия. Как причина ненависти старого князя к царской семье.
– Вам что-то удалось узнать?
Она внимательно вглядывалась в его мрачное лицо, пытаясь прочесть на нем хоть что-нибудь, кроме желания избавиться от какой-то тяжелой ноши. Отчего-то она сомневалась, что дело именно в давно забытой истории.
– Не только. Эта женщина найдена и заключена под стражу.
Катерина невольно ахнула, делая несколько шагов вперед.
– Она жива?
– И даже не приходится Вам тетушкой.
Этого, пожалуй, стоило ожидать. Все то, что рассказывал ей Остроженский, вообще едва ли было правдой в том смысле, в каком он это преподносил. И все же, если «Ольга» не имела кровного родства с их семьей, к чему был тот рассказ? Просто показать Катерине, как безжалостны могут быть члены правящей династии? Но это она знала и без наглядных примеров: даже дочери одного из титулованных старейших княжеских родов было бы глупо лелеять хоть каплю надежды на счастливое будущее с лицом императорской крови.
– Она… Вы допрашивали ее?
И без уточнений было понятно, что именно она хотела знать. Николай кивнул.
– Она рассказала все. Абсолютно.
С минуту Катерина молча смотрела на него, а после одними губами прошелестела: «Спасибо». Слово эхом пронеслось по всему телу, вызывая болезненный спазм где-то в сердце. И решимость, которая пронзила еще в момент, когда за последним посетителем закрывалась дверь, словно разъяренная река сорвала плотину стойкости. Заставляя отбросить клеймо Наследника Престола, пусть и всего на минуту.
– У меня для Вас есть еще один сюрприз.
– Вы настоящий дамский угодник, Ваше Высочество, – иронично заметила Катерина, с чьих губ уже срывался тихий смех. Николай, все так же не сводящий с нее взгляда, жестом указал на стул.
– Присядьте.
Удивленная, она покорно выполнила просьбу, но все же не удержалась от шпильки:
– Глаза Вы мне тоже завяжете?
Цесаревич только улыбнулся и, наказав ни за что не поворачиваться, пока он не вернется, скрылся где-то за пределами кабинета. Правда, сначала лишь сделал вид, дабы проследить, что княжна действительно послушалась, а не попыталась обернуться, стоило только стихнуть его шагам. Та, на удивление, чинно сидела, дожидаясь разрешения, но когда где-то за спиной вновь послышалась чужая поступь, раздавшийся вслед за этим голос оборвал что-то внутри.
– Кати.
Так ее называл лишь один человек.
Тот, кому она поклялась в верности. Тот, кто мог заменить ей утерянную семью. Тот, кто стал жертвой ее «семьи». То, за упокой души которого она молилась уже сто пятнадцать дней. Тот, чье имя в слезах кричала во сне.
Пропустившее не один удар сердце подскочило куда-то к горлу, вызывая тошноту. Нехватка воздуха вызвала цветные пятна перед распахнутыми глазами. Почти до слепоты всматриваясь в картину, что висела на стене напротив, Катерина в каком-то трансе медленно поднялась на ноги, которые словно парализовало, и чудо, что они еще как-то ее слушались. Тело, легкое-легкое, вообще казалось чужим.
Резко обернувшись, чтобы убедиться – она еще не сошла с ума, ей не чудятся родные голоса – Катерина в ужасе испустила хрипящий выдох и отшатнулась.
В любовных романах (один такой ей когда-то подсунула Эллен, убеждая прочесть) барышни кидались на шею возлюбленному, осыпая его поцелуями от радости. Ее жизнь была совершенно не похожа на любовный роман, и все, что могла сделать Катерина – стоять, почти не дыша и не моргая.
– Ваше благородие, Вы не соблаговолите оставить нас на несколько минут? – обернулся к нему Николай, ожидавший совсем иной реакции и вынужденный действовать по наитию. Тот без лишних слов откланялся и вышел, бросив перед этим короткий взгляд на невесту, которая, казалось, была еще более бледна и недвижима, нежели мраморные изваяния на могилах. Он боялся даже представить, что творилось в ее душе и мыслях сейчас.
Зато цесаревич прекрасно видел и чувствовал этот хаос, сквозящую обиду и горькую злость в зеленых глазах, устремившихся на него, когда тишину разорвал щелчок дверного замка. Она ничего не говорила – просто смотрела, не моргая и, кажется, не дыша, но от одного только этого взгляда хотелось опустить голову.
Он ощущал за собой вину.
Всепоглощающую, разрывающую внутренности на части, перемалывающую кости. Что там все пытки Петропаловки в сравнении с этим чувством, хуже которого было лишь понимание утраченного времени и возможности. Николай знал, что однажды будет вынужден посмотреть в глаза Катерине, которая узнает о произошедшем. И думал, что готов к этому. Что высокая цена была оправдана. Он знал, что Императору порой приходится принимать такие решения, после которых его до конца жизни станут преследовать кошмары, подтачивая изнутри и заставляя стариться на десятки лет за минуты. Но надеялся, что в его жизни подобных моментов будет немного.
Возможно, так оно и случится, только сейчас это ничуть не облегчает душу.
Катерина шумно вдохнула, а Николай, напротив, ощутил, как дыхание перехватило. В глазах напротив мелькнуло что-то чужое. Страшное.
– Вы скрыли это от меня. От Эллен. От Елизаветы Христофоровны. Спокойно смотрели на то, как родные Дмитрия искренне переживают его смерть.
В ужасе взирая на него, Катерина сделала шаг назад.
– Катрин, ну, прошу Вас, не гневайтесь, – Николай, казалось, искренне раскаивался: он даже встал на одно колено, чем ошеломил княжну, которая теперь разрывалась между желанием потребовать от цесаревича подняться (не дай Бог кто увидит эту компрометирующую сцену – слухи по дворцу разлетятся за считанные секунды), и властвующей ее душой гордостью и обидой. – Поймите, я обещался молчать, особливо в разговорах с Вами. Мы подозревали, что люди князя Трубецкого будут следить, и Ваша реакция на смерть жениха была практически решающим моментом.
– Думаете, что я бы не изобразила нужной скорби?
– Катрин, я не смею сомневаться в Вас. Ну, поймите, – поймав в свои ладони холодные руки княжны, цесаревич сжал их, смотря той в глаза, – у меня не было выбора. Мое сердце разрывалось, когда я видел Ваше безжизненное лицо, но…
– Довольно, Ваше Высочество. – Высвободив пальцы из чужих рук, она тут же подхватила юбки. – Поднимитесь с колен: не пристало особам царской крови унижаться перед фрейлинами. С Вашего позволения, я удалюсь.
Мягко закрывшаяся за ней дверь ударила набатом. Треснувшая тишина рухнула, погребая под каменными плитами солнце. Неизвестно зачем – ведь от этого совершенно не легче – ударив кулаком по барельефу камина, Николай прислонился к нему спиной и стиснул зубы в бессильной злобе. На себя.
И впервые проклял свою участь.
***
– Кати? – тревожно окликнул ее Дмитрий, стоило той осторожно притворить за собой дверь кабинета и оказаться в пустом коридоре.
– Тебе нужно появиться перед государем? – совершенно обыденным тоном, будто бы не было долгой разлуки, и жених просто посетил дворец для аудиенции, осведомилась Катерина. На лице ее отсутствовали какие бы то ни было эмоции. Взгляд был стеклянным.
Дмитрий нахмурился: состояние невесты его беспокоило все сильнее. Не так он представлял эту встречу, хоть и, что скрывать, предпочитал не представлять: надежды на то, что они увидятся так скоро, почти не было. Он должен был уехать полчаса назад, но слуга цесаревича перехватил его почти у самой кареты, передав внезапный и срочный приказ вернуться, все так же соблюдая осторожность. Меньше всего в этом требовании он мог увидеть решение Наследника Престола прекратить маскарад.
– Нет. Я уже имел разговор с Его Величеством утром, по прибытии.
– Мы можем уехать в Семёновское сейчас?
– Если ты этого хочешь.
Он не стал упоминать о поручении цесаревича, понимая, что сейчас это может стать причиной серьезной размолвки. Он и без того был виноват.
Она медленно кивнула и наконец посмотрела на жениха.
– Мне нужно спроситься у государыни, но не думаю, что она будет против.
А еще стало интересно, знала ли она обо всем. И кто вообще был осведомлен об этом театре.
При мысли о паутине лжи вокруг нее стало дурно. С усилием сглотнув, Катерина попросила Дмитрия дождаться ее здесь, а сама все с тем же выражением отрешенности на лице направилась в гостиную Императрицы. Хотя она и сама не знала, чего сейчас хочет больше: уехать в Семёновское, чтобы не сталкиваться с цесаревичем, или же, напротив, остаться здесь, имея возможность отвлечься поручениями государыни, и не видеть жениха.
Попытки убедить себя в том, что все было разыграно не шутки ради – она верила в это! – оказывались тщетны. Все внутри переворачивалось и рвалось, а от нарастающего гула в ушах становилось еще хуже. Она на полном серьезе опасалась, что упадет в обморок где-то, но все обошлось: организм проявил стойкость и на пути к гостиной Марии Александровны, и во время короткой беседы с ней, и на обратной дороге к ожидающему ее на том же месте Дмитрию.
Не последовало даже никаких сборов: это походило на побег. Короткий. Но побег.
***
Обычно Катерина предпочитала дремать под мерный перестук колес, порой (что уж кривить душой, довольно часто) прерывающийся скачками на выбоинах и камнях, но сейчас растревоженное сознание, крутящееся вокруг одной-единственной мысли не давало даже глаз сомкнуть. О том, чтобы поймать чуткий, но умиротворяющий сон, и речь не шло. С четверть часа проведя в мучительной, раскаленной до желания опустить голову в холодную воду, тишине, Катерина все же окликнула жениха, наблюдающего за сменой городских картин.