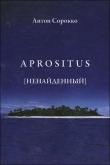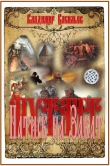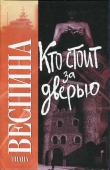Текст книги "Плачь обо мне, небо (СИ)"
Автор книги: Selestina
Жанры:
Исторические любовные романы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 56 (всего у книги 60 страниц)
– Будет, – подтвердил Император, оставляя перо и возвращая внимание своему адьютанту. – Приступайте к службе…
Он не успел закончить фразы – дверь в кабинет вновь распахнулась, впуская сначала слугу, намеревавшегося было что-то доложить, а за ним бледную княжну Голицыну, придерживающую юбки визитного платья. На лице её играл лихорадочный румянец, глаза блестели, из высокой прически выбилась пара завитых локонов. Она тяжело дышала, словно бы от самых ворот до кабинета бежала, отринув правила приличия. Впрочем, Император бы этому не удивился.
Безмолвно воззрившись на гостью, столь беззастенчиво влетевшую в кабинет, он с легкой насмешкой во взгляде ожидал, когда она заговорит, вместо того, чтобы потребовать объяснить причину такого бесцеремонного визита.
Несчастный слуга, который явно пытался её сдержать, но потерпел поражение, пытался что-то объяснить, но громкий, уверенный голос княжны его в момент перекрыл:
– Ваше Императорское Величество, нижайше прошу дозволить свидание с Петром Голицыным, арестованным по делу о вызове на дуэль Наследника Престола.
Губы Императора дрогнули; княжна Голицына оставалась себе верна. Еще в тот день, когда ему донесли о случившемся, и было принято решение заключить потерявшего всякие крупицы разума и без того опального офицера под стражу в Петропавловской крепости, Александр вспомнил о его сестре, когда-то с отчаянием умолявшей дать ей свидеться с таким же арестованным батюшкой. Он предполагал, что она будет добиваться аудиенции с той же целью, и просчитался лишь в одном – вместо того, чтобы ждать, она самолично пробьется сюда.
По всей видимости, ей уже было нечего терять.
========== Глава десятая. Подари хоть каплю надежды ==========
Российская Империя, Семёновское, год 1864, ноябрь, 11.
Не верилось, что все кончено.
Бездумно смотря в потолок, сокрытый от нее тонким пологом, что нависал над постелью, Катерина перелистывала в памяти последние недели, упиваясь ощущением странной, пугающей свободы. От страха за свою и чужую жизнь, от чужих игр. Все кончилось. История получила свою точку, которую она уже и не мечтала увидеть, почти смирившись с тем, что еще не один год ей носить маску, которая однажды прирастет к её лицу. Но нет – на исходе первой декады октября она узнала, что князь Остроженский занял одиночную камеру Алексеевского равелина, а спустя полторы недели состоялось первое дознание, на котором присутствовал сам Император. Это ничего не дало, но даже известие о том, что Борису Петровичу не удалось оправдаться, уже немало радовало. Хотелось верить, что справедливость еще хоть где-то может восторжествовать, пусть даже лишь на миг.
Катерина порывалась попасть в Петропавловку, чтобы взглянуть в лицо человеку, по вине которого она потеряла папеньку, с которым уже ей никогда не свидеться, по вине которого всю оставшуюся жизнь была вынуждена страдать Ирина (удастся ли врачам сотворить чудо, она боялась даже думать), по вине которого она оставила Двор и теперь намеревалась оставить Россию. По вине которого едва не стала вдовой, еще не выйдя замуж. Человеку, обратившему её жизнь в истинный ад.
Однако Дмитрий удержал её от необдуманного порыва – то ли не желал её встречи с дядюшкой, то ли стремился уберечь от ужасов тюрьмы.
На удивление, она даже не стала искать обходных путей: быть может, оно к лучшему. Она не могла быть уверенной, что при виде этого лица ей не сделается дурно и не появится несвойственных ей отчаянных желаний.
Достаточно того, что она единожды уже посетила Петропавловскую крепость, и этот день ей еще не один год станет сниться в кошмарах. Потому что она застала последние часы брата перед расстрелом.
Он бы мог остаться в живых – без чина, без возможности служить в России, но жить. Если бы не был так упрям и не настаивал на том, что в его требовании дуэли не имелось ни грамма безрассудства. Он желал защитить её честь. Он ясно видел вину цесаревича. Он не желал простить и покаяться.
В Голицыных была слишком сильна фамильная гордость.
Крепко зажмурившись, Катерина натянула одеяло до самого носа, утопив под ним скулящий стон; по щекам невольно покатились слезы. Все кончено, а она не ощущает счастья, словно потери перевесили. Ей бы радоваться сегодня, а хочется скрыться с головой от всех и ни с кем не говорить. О том, кого здесь не хватает.
Папеньки.
Брата.
Маменьки.
Сестер.
Как иначе все должно было выглядеть. Как иначе они все задумывали.
– Барышня, утро уже, вставать пора, – над ней склонилось обеспокоенное лицо служанки, что каждый день разводила шторы, впуская в спальню солнце. Она и сейчас прежде чем будить барышню исполнила привычный ритуал, только Катерина этого не заметила: перед глазами расплывался светлым пятном потолок.
Безмолвно сев в постели, она спустила ноги на пол; без откинутого одеяла стало зябко, по оголенному плечу, с которого сполз расшнурованный ворот ночного платья, пробежались мурашки. Ступив на холодное дерево, Катерина невольно поджала пальцы – где те летние дни, когда по утрам можно было, едва набросив на плечи шелковый халатик, выскользнуть на веранду, не боясь подхватить простуду? Теперь даже по спальне босиком не походить – обязательно чихнет.
Позволив подвести себя к широкому трюмо, она опустилась на низкий табурет, через зеркало наблюдая, как служанка берет щетку, чтобы распутать густую волну волос, лежащую на спине. Другая, только появившаяся в спальне, уведомив, что к умыванию все готово, принялась убирать постель. Без интереса смотря на происходящее за её спиной, Катерина силилась найти в себе хоть какие-то ростки увлеченности действом, что начало разворачиваться в это утро, и понимала, что абсолютно безучастна ко всему. Слишком долго она ждала этого дня. Наверное, выгорев изнутри.
Её совсем не волновало, уберут ли ей волосы в пучок, или же выложат косу, выпустят ли завитые локоны на грудь, или же не дадут и лишней пряди выбиться из прически. Появится ли в оной украшение помимо флердоранжа, или же она станет являть собой сегодня образчик чистоты и простоты. На отражение в зеркале она смотрела, будто на чужого незнакомого ей человека, с которым у нее нет и не было ничего общего.
И в один миг этот стеклянный кокон отчуждения раскололся – со звоном упала крышка шкатулки, которую взяла в руки служанка в момент, когда дверь спальни резко распахнулась. Влетевшая Эллен лучилась ярче любого бриллианта царской короны – так сиять сегодня должна была Катерина. Но почему-то не могла.
– Вы её к погребению готовите что ли? – возмущенно воскликнула Эллен, обозрев картину перед собой: обе служанки занимались волосами подруги, сидящей перед трюмо что фарфоровая кукла – красивая, но безжизненная.
Кружащие рядом девицы вздрогнули, испуганные внезапным появлением младшей графини Шуваловой, тут же короткими книксенами поприветствовав барышню.
Катерина же от слов о погребении невольно ощутила пробежавший по спине холодок.
В тот вьюжный декабрьский вечер, когда она столкнулась с цыганкой, предсказание, прозвучавшее в её адрес, отрицало свадьбу. Другие молитвы ей обещали – это она помнила так же ясно, как если бы все случилось минутой ранее. Поднявшись из-за трюмо, чтобы позволить служанкам приложить к ней корсет, она силилась выдохнуть, пока девицы в четыре руки затягивали сзади шнуровку. Старая гадалка ошиблась или же скорее предостерегала её от чего-то, что грядет за свершившимся венчанием? Думать о дурном не хотелось, но и радужных мыслей в сознании – ни одной.
– Туже затягивайте, туже, – распоряжалась Эллен, внимательно наблюдая за сборами и одновременно умудряясь что-то искать на заваленном украшениями и десятками разных баночек и флакончиков трюмо. По всей видимости не найдя желаемого, она бросилась к высокому комоду, пристроенному у постели, чтобы начать поочередно выдвигать тяжелые ящики.
За её передвижениями Катерина, уже отчаявшаяся сделать вдох, вовсе не следила – ей начало казаться, что её и впрямь к погребению готовят: с такой талией не живут. Прохрипев, чтобы служанки слегка ослабили шнуровку (не такая уж у нее фигура, чтобы нарочно пытаться создать иллюзию стройности), она облегченно закашлялась.
Нижняя легкая юбка, отделанная кружевом, чей черед пришел следом, уже не так пугала – по крайней мере, затянуть её пояс до полной потери сознания было бы крайне трудно. Хотя, если за дело возьмется Эллен, это станет серьезной угрозой.
К счастью, младшая графиня Шувалова нашла себе более увлекательное занятие, продолжая инспекцию ящичков. На краю сознания даже промелькнуло любопытство – что она такого оставила там, что теперь это нужно срочно отыскать?
Она получила свой ответ минутами позже, когда поверх корсета легла тонкая льняная кофточка, почти довершая нижнее платье – осталась лишь вторая юбка, за которой последует уже верхнее платье, уже с любовью разложенное по постели и завораживающее бликами на идеально гладком дорогом шелке. Но сейчас куда сильнее очаровывало и сбивало дыхание в груди то, что подошедшая к ней Эллен держала в руках.
Катерина сразу узнала эту коробочку – прощальный подарок от цесаревича, что она обнаружила на своей постели в день его отъезда. С указанием раскрыть в день свадьбы. Сознаться, тогда ей настолько не хотелось думать о венчании, что она просто положила несчастную шкатулку куда-то в комод, а после забыла о ней вовсе. Но, как выяснилось, помнила Эллен – знать бы только, как ей вообще стало известно об оной. Хотя, существовало ли нечто в этой усадьбе, о чем младшая графиня Шувалова не знала?
Малый* ювелирный гарнитур.
Даже не хотелось думать, чего цесаревичу это стоило.
Три нити жемчужных зерен чередовались с бриллиантовыми мотивами, от которых отходили подвески с каплевидными крупными жемчужинами, заключенными в повторяющие их силуэт пояса с мелкими бриллиантами. По обе стороны от ожерелья лежали изящные серьги; крупные ограненные хризолиты в оправе из серебра и бриллиантовой россыпи соединялись шелковыми нитями, на которых покачивались каплевидные жемчужины, перекликающиеся с теми, что составляли нижнюю часть подвесок ожерелья. Драгоценные камни сияли, создавая разительный контраст с темнотой полночно-синего бархата, коим была устлана шкатулка. Забыв, как дышать, Катерина прижала ладонь к губам; в глазах стояли слезы.
Она не видела содержимого шкатулки до того. И, быть может, лучше б не вспомнила о ней сейчас.
Вокруг раздались ахи и охи служанок, которым тоже посчастливилось узреть этот царский во всех смыслах подарок. Катерине хотелось потребовать опустить крышку, чтобы сияние бриллиантов не резало её по живому, но язык не слушался. Безмолвно смотря на гарнитур, она ловила воздух разомкнутыми губами, повинуясь редким просьбам поднять руку или повернуться.
– У тебя все еще остались сомнения? – словно бы ни в чем ни бывало беспечным голосом поинтересовалась поставившая на трюмо раскрытую шкатулку Эллен, когда верхнее платье заняло свое законное место на невесте.
Вопрос для стороннего наблюдателя прозвучал бы абсолютно неясным, будто бы после долгого мысленного разговора они перешли на устный. Отчасти так оно и было, только беседа та завершилась еще с неделю назад, а сейчас перед глазами мелькнуло явственное её напоминание, что холодом обняло шею и одарило ледяным поцелуем ключицы.
Сомнений в ней не осталось еще в последний день сентября.
Только Эллен этого знать не стоило. Никому не стоило. Это воспоминание она желала оставить себе одной.
Из груди не вырвалось ни звука, но губы дрогнули. Прикрыв глаза, чтобы не видеть этих ослепляющих бриллиантов и идеальных в своей простоте жемчужин, и чтобы не выдать своих переживаний, она медленно выдохнула. Ногти впились в ладонь.
– Ну-ну, невесте полагается плакать перед своей свадьбой, – улыбаясь, Эллен приложила фату к только что законченной прическе подруги. Катерина, кусая губы, через силу постаралась усмирить слезы и кивнуть, открывая глаза и устремляя взгляд в зеркало перед собой.
– Не могу представить тебя в подобном амплуа, – поддела она будущую родственницу, заставляя свой голос звучать как можно более непринужденно. Та рассмеялась, прикалывая тонкую вуаль.
– Мне нельзя себе такое позволить. Тебя же мой брат поведет к алтарю, даже если у тебя покраснеют и опухнут глаза от долгих рыданий.
В молчаливом возмущении приоткрыв рот, Катерина шутливо толкнула подругу локтем. Та, успев увернуться, отбежала на пару шагов и, изучая отчего-то не лучащуюся счастьем невесту, чуть посерьезнела.
– Ты вправду хочешь сегодня принести клятву перед Господом?
Катерина закатила глаза.
– Mon dieu, Эллен! Что столь сильно просит всех задавать мне этот вопрос уже который день? Чем я вызвала эти сомнения в любви к твоему брату?
– Пойми меня верно, Кати, – подруга сжала ее ладони в своих руках, – я не желаю тебя ни в чем упрекнуть. Но твои чувства к Николаю…
Не дав ей договорить, Катерина обреченно выдохнула, отворачиваясь:
– Да что же это! – сглотнув и тем самым не давая себе возможности вновь отпустить непрошеные слезы, она вернула свое внимание младшей графине Шуваловой. – Веришь? Я не знаю, кому молиться, чтобы эти чувства умерли. Чтобы их больше не было, чтобы они не мучили меня понапрасну. Я уже не желаю этой любви, Эллен. Я хочу покоя – стать верной женой Дмитрию и создать свою семью, забыть обо всем, что было до нашего брака. Я люблю его, Эллен, и более всего боюсь, что не смогу дать ему той любви и счастья, что он заслуживает. Боюсь не стать той женой, что нужна ему.
Она не лгала. Все ее естество сгорало от невозможного, неправильного чувства к цесаревичу, но разум, незамутненный сердечными терзаниями, говорил о том, что она не имеет прав разрушить сразу столько жизней. Не имеет прав причинить боли Дмитрию, которого она любила – не так, как Николая, совершенно иначе, но любила беззаветно и крепко, так, как должна была любить будущего мужа и отца своих детей. Не имеет прав уничтожить доверие Марии Александровны, которая не одобрит связи сына с фрейлиной: не простой интрижки – чего-то большего, разбивающего семью Наследника Престола. Не имеет прав становиться соперницей за счастье будущей цесаревны, кем бы она ни была – она станет дорога Николаю, обязательно, и не ей вмешиваться в его жизнь.
Брак с Дмитрием был правильным. Она желала его, как может желать утопающий спасения. Молила Бога о том, чтобы успокоиться, обретя свой дом. И почти верила в это.
Картинка её идеальной жизни – в зеркале. Ей суждено стать правдой.
Старательно накрученные длинные локоны были выпущены на плечи, выглядывая из-под воздушной фаты, покрывающей гладко уложенные темные волосы, разделенные пробором на равные части, собранные сзади и украшенные флердоранжем. Два слоя молочного атласа колоколом легли на каркас из китового уса, своей шириной еще более подчеркивающий тонкую, старательно затянутую корсетом талию. Невесомый газ с тончайшими блондами** по краю, прихваченный слева букетиком шелковых цветов с сердцевинами в виде мелких круглых жемчужин, составил третью, верхнюю юбку, лишь чудом не перейдя в шлейф, от которого удалось отказаться в последний момент. Обрамляющее линию декольте и спущенных плеч широкое трехслойное брюссельское кружево, собранное крупными складками, резным краем нижнего слоя касалось локтя, корсажное украшение, врученное Императрицей к свадьбе, заняло положенное ему место в центре, на искусных переплетениях мерцающих золотом нитей, и невольно задержавшая взгляд на своем отражении Катерина ощутила подкатывающую дурноту; рука в длинной атласной перчатке потянулась к застежке ожерелья. Зорко наблюдающая за подругой Эллен тут же перехватила ее запястье, властным движением заставляя остановиться.
– Не смей.
– Оно… – бессильно заглатывая воздух, она неопределенно повела свободной рукой, – оно слишком роскошно для меня. Все это слишком роскошно для меня. Это платье, эти украшения – все это должно принадлежать кому-то другому.
– В любом случае, я выглядела бы роскошнее, – нарочно ввернула шпильку Эллен, тем самым вызывая слабую улыбку на лице подруги.
– Я счастлива, что ты сегодня рядом, – обнимая её, прошептала Катерина, едва сдерживаясь от новой порции слез. Она никогда не могла подумать, что способна столько плакать, причем, казалось бы, без особого для того повода.
Эллен только успокаивающе провела ладонью по дрожащему плечу будущей родственницы. Разве мог кто-то подумать, что в такой день она окажется в стороне?
***
Сколько раз она представляла собственную свадьбу? Сколько раз грезила пышным платьем непременно с серебряным шитьем? Сколько раз представляла тяжесть бриллиантовых ожерелий на шее? Сколько раз видела жениха сквозь тончайшую пелену фаты, сокрывшую её лицо? Сколько раз ощущала удушающий запах цветов, собранных в букет? Сколько раз беззвучно повторяла – «имам, честный отче, имам»?
И всякий раз думала – она будет ощущать себя счастливой. Запомнит каждую минуту этого дня, когда он, наконец, наступит. Будет рассказывать о нем детям и внукам, потому что этим днем начнется история её собственной семьи. Родится её собственный маленький мир.
Но ни разу не полагала, что все будет в таком мареве усталости.
Воск стекает по толстой свече, задерживаясь где-то в пышных складках салфетки, обернувшей её для защиты идеально белых перчаток. От кадила тянется дымок фимиама, от которого щекочет в носу и слезятся глаза. Или не потому ей кажется, что на левой щеке уже наметилась тонкая дорожка к подбородку? Где-то справа, даже не краем глаза, а почти самой кожей она видит Дмитрия. Спокойного. Счастливого. И самую малость взволнованного. Она даже может сказать, почему у него слишком гулко стучит сердце – он до последнего будет бояться её отказа. Даже если она еще вчера после исповеди сказала, что не шагнет назад у алтаря.
Он верил – она знала. Но он слишком долго ждал этого момента. Слишком сильно его желал. И не мог не волноваться.
Она видела это облегчение, осветившее её лицо, когда он узрел её, выходящую в сопровождении Эллен, заменявшую сегодня родителей, из своей кареты. И в тот миг защемило сердце от осознания того, что вряд ли она когда-то сумеет хоть немного оправдать его надежды. Хоть немного приблизиться к тому идеалу супруги, что он заслуживал.
Меж их руками, держащими свечи, едва ли больше пары десятков дюймов, и с каждым словом священника незримо сковывающие их узы все крепнут, но Катерине кажется, будто она стоит не в маленькой приходской церкви, а посреди заснеженного леса. В одиночестве.
И «Господи помилуй», что тянет хор после каждой фразы священника, не торжественное – так по покойнику плачут.
– Имам, честный отче, – друг за другом едва слышно их ответы: его, непреклонный, и её – срывающимся голосом.
– Не обещалася ли еси иному мужу? – громогласный голос священника проносится по её сознанию, и на миг внутри – звенящая пустота. Перед глазами та поражающая своим великолепием церковь Зимнего, пустая, утонувшая в полуночном сне. Губы размыкаются, чтобы принести обет образу Николая Чудотворца, а сердце уже опередило – сердце еще раньше поклялось не оставить.
Она не желает лгать, но то – иное. И потому тяжело сглатывает:
– Не обещалась, честный отче.
Пламя гаснет.
Вот только что ровно горело, ослепляя её напряженно смотрящие на священника глаза, и вдруг потухает, будто бы чья-то незримая ладонь легла на него. Обличила неверную.
По церкви летит волна шепотков. Встревоженных, испуганных. Ей прочат смерть, как когда-то прочили недолгий век Марии Александровне, потерявшей корону, но никто не думает, что свеча выдала её ложь.
Дмитрий едва сдерживает в себе порыв протянуть к ней руку, чтобы успокоить – она это чувствует. Чувствует, как он почти сходит с ума от её собственного танца на грани. Как боится не поймать её в момент падения.
Но не сейчас этой адской лаве принимать её в свои горячие объятия – венчание идет своим чередом, будто ничего не произошло.
Покорно касаясь губами осенившего её крестным знамением венца, что после был передан стоящей позади Эллен, совершает последний шаг. Где-то рядом то же раньше делает Дмитрий. Она ощущает его безмолвный вопрос и корит себя за то, что своим видом вызывает беспокойство. Только едва ли может что-то с этим сделать.
Украдкой подарив ему слабую улыбку – так, чтобы затянувший «Господи, Боже наш, славою и честью венчай их!» батюшка не уловил этого их немого разговора, тихо выдыхает. Еще немного.
Самую малость.
Молитвы сменяют одна другую, перед глазами расплываются золото и алый, грудь едва вздымается – все же, корсет затянули излишне, и теперь не было возможности полноценно вдохнуть. Если она не потеряет сознания во время венчания, перед балом сменит платье – не стоит её талия этих тягот. Не на императорском торжестве.
Вино, что она пригубила вслед за Дмитрием, отдается горечью на языке. Троекратный глоток – так мало, чтобы ощутить хоть какой-то вкус, а сейчас – и вовсе чтобы понять, что ей дали отпить. Пожалуй, сегодня она не раз опустошит фужеры с шампанским, лишь бы согнать это марево странного отчуждения.
На соединенные правые руки ложится расшитая епитрахилья, хор затянул «Исаие, ликуй…», и священник мягко тянет их вокруг аналоя. Всполохи золота и алого смешиваются, проплывая мимо, пронизанные удушающим фимиамом – наверняка у нее уже даже волосы вобрали в себя этот тяжелый аромат.
Третий круг у аналоя – вновь под ногами белый плат.
Вслушиваясь в церковный хор, Катерина до рези в глазах вглядывается в пламя зажженной свечи. Губы беззвучно шепчут молитву – сердце просит о забытьи. Склоняется голова перед Создателем, и последние слова вслед за молитвой о восприятии венцов пробираются под кожу.
Я хочу, чтоб Вы помнили обо мне. И не хочу, чтобы помнили, если эти воспоминания причинят Вам боль. Потому что более всего на свете я желаю Вам счастья.
Теплые губы Дмитрия на её собственных – целомудренные и осторожные, и смотрит он на нее, словно боится, будто от случайного прикосновения она исчезнет что тот злополучный огонек. Он хочет увести её отсюда – это столь явно читается в его глазах, что она вздрагивает. И почти осознанно, почти понимая, что перед ней – образ Пресвятой Богородицы, склоняется к иконе, что позже будет в её руках.
Последний шаг – последний символ их новой семьи.
Былое ничего не значит.
***
Сменить платье не удалось: стоило венчанию окончиться, как тут же счастливая, будто бы её руку украсил серебряный ободок, Эллен потянула Катерину за собой, и до самого торжественного обеда не пожелала дать хоть на миг перевести дыхание. Только фату сняли, чтобы не мешалась во время танцев, а прочее не дали и пальцем тронуть, требуя сохранить образ. Эллен настаивала на том, что она слишком красива; Катерина же не испытывала и капли жалости – ей бы сейчас в ночное платье, да волосы распустить, пока от десятков острых шпилек еще не остались разодранные раны.
Но теперь она не могла себе этого позволить: только ловить летящие со всех сторон восхищения и отвечать короткими кивками. Слыша негромкие обсуждения свершившегося церковного таинства, она вновь осознавала, что не чувствовала и доли того, о чем говорят вокруг. Ни благоговения, ни праздника, ни спокойствия, ни предвкушения чуда – она и вовсе ничего не помнит, будто все было не с ней. Только все еще горчащее на языке вино, так и не стершееся сладостью пригубленного шампанского; только дурманящий запах фимиама из батюшкиного кадила, что не были способны уничтожить даже десятки роз, расставленных в столовой.
– Ваше благородие, примите мои поздравления, – очередная вежливо-заученная фраза, обращенная к Дмитрию, заставила Катерину внутренне поморщиться, но радушно улыбнуться подошедшему и даже протянуть руку для поцелуя: теперь это должно было стать для нее привычным действом, как для замужней барышни.
Она не знала всех этих лиц: здесь не было никого, кто имел к ней хоть какое-то отношение. Бесконечные родственники, друзья и знакомые семьи Шуваловых, которой она теперь принадлежала, и ни единой родной черты. Ни матери, ни сестер. Даже присутствие Эллен не скрашивало этого вынимающего душу одиночества.
Графиня Шувалова.
Маменька будет счастлива узнать, что хотя бы у средней дочери все сложилось так, как того желал покойный батюшка. Впрочем, старшая ведь тоже вышла замуж, приняв титул баронессы. Быть может, и младшей удастся составить удачную партию – выгодных женихов в Европе немало.
– Не подарите ли мне танец, Екатерина Алексеевна? – с шутливым полупоклоном протянул ей руку Дмитрий.
Отстраненно кивая и почти без эмоций выдавая согласную улыбку, Катерина позволила увлечь себя в очередной (какой уже?) вальс. Все танцы сегодняшнего вечера слились в единую карусель фальшивого смеха и нарисованного счастья. Она понимала, что все до смешного неправильно, но не знала, где искать ту самую сломанную деталь, что стопорит весь механизм. И потому, поддаваясь негласным требованиям, кружилась по залу, утопая в чужих взглядах – все они были направлены на них. Их обсуждали. Ими восхищались. Им завидовали. Загадывали, как долго продлится их брак. Решали, как скоро у молодого графа появится любовница, или как скоро новоиспеченная графиня станет искать чувств на стороне. Спорили о равенстве их союза – опальная фамилия Голицыных не давала покоя некоторым из гостей.
Но российский Двор в одном мог собой гордиться – он вырабатывал абсолютное равнодушие к любым словам и взглядам. Заставлял пропускать мимо ушей слухи. Не принимать на веру ни лесть, ни зависть, ни ненависть.
– Скажи, куда бы ты хотела отправиться? – прозвучал где-то слева голос Дмитрия, мягко прижимающего супругу к себе.
Та лишь равнодушно пожала плечами: не говорить же, что в ее голове ни единой мысли о свадебном путешествии. Она даже сегодняшний день едва ли запомнила, будучи погруженной в раздумья. Да и ей в действительности было все одно, куда ехать, и ехать ли.
– Возможно, Флоренция?
Сказала почти наугад – просто вспомнив о том, что там теперь жила Эллен, и, быть может, она могла бы развеять эту хандру, показав прелесть Италии. После можно было бы навестить Ирину в Кобурге и маменьку с Ольгой в Карлсруэ, но с ними она виделась не так давно, а потому раньше Рождества нет нужды туда отправляться.
– Может, нам стоит там и поселиться? Я думаю, что петербургский дом можно продать, и…
– Не стоит, – едва сжала его плечо под своей ладонью Катерина. – Я не хотела бы оставлять Петербург совсем.
Дмитрий с каким-то сочувствием взглянул на нее. Особняк в Петербурге был подарен им родителями, хоть и он просил их не торопиться с этим шагом – они вполне могли временно остановиться в одной из старых усадеб, прежде чем приобрести собственный дом. Отчасти именно потому, что Дмитрий не знал, есть ли смысл оставаться в России: памятуя счастливое лицо Кати в те дни, что она находилась в Европе, и её потерянный вид по возвращении сюда, он думал о том, чтобы вовсе покинуть родину.
– Из-за цесаревича?
Не желая обманывать слишком дорогого ей человека, она дала не менее правдивый ответ:
– Я знаю, что ты не готов оставить службу. И не стану просить этого.
Дмитрий только лишь неслышно вздохнул: Кати не опровергла его предположений, да и не требовалось этого – ее глаза говорили сами за себя. Но волновало его отнюдь не то, что сердце супруги отдано не ему одному: он не желал ей тех мучений, что она испытывала, не способная заставить себя разлюбить Наследника Престола. И избавить от них тоже не мог. Замедлившись и коснувшись губами узкой ладони, Дмитрий остановился, намереваясь вывести Кати из залы – он чувствовал, что сейчас ей это необходимо.
Дольше изображать плещущее через край веселье они оба были не способны, и если он мог еще принимать бесконечные поздравления, то супруга уже находилась на пределе. Последние недели ей дались особенно тяжело, хоть и казалось, что должно быть иначе, ведь главная причина её тревог устранена. Но оставалось еще нечто, не дающее ей сделать спокойный вдох, и все выглядело так, будто бы это нечто давило на нее с каждым днем все сильнее. Отчасти он мог связать её подавленное состояние с расстрелом князя Петра, но не это было отправной точкой.
Стоило возблагодарить Создателя – им удалось скрыться с глаз гостей незаметно: звуки приглашенного оркестра и чужой искусственный смех остались где-то за спиной, отсеклись темными коридорами и витыми лестницами, разделяющими парадный зал первого этажа и комнаты второго. Сегодня было решено остаться в Семёновском – не ехать же в Петербург в ночь: небезопасно. Да и Кати слишком устала, чтобы вынести несколько часов в дороге – она едва держалась на ногах.
Она почти упала на кушетку, стоило им оказаться в спальне, отведенной ей еще в начале лета, когда она прибыла сюда в статусе невесты. Дмитрий остался стоять у дверей, притворив их крепче: все слуги сейчас были согнаны в зал, но кто знает, кому вздумается прогуляться по коридорам, пусть и по крылу, не доступному гостям.
Безмолвно он наблюдал, как у супруги тяжело вздымается грудь от попыток поймать чуть больше воздуха, как её дрожащие руки ищут застежку ожерелья, чтобы минутой позже бриллианты и жемчуга остались бесформенной грудой лежать в ладонях, оставив острые ключицы беззащитно обнаженными. Как негнущиеся пальцы упрямо стараются стянуть осточертевшие перчатки. Как соскальзывает с плеч тонкая газовая накидка.
Отчего-то он не ощущал того счастья, о котором грезил.
К этому дню они шли с детства. Зная, что он случится. Понимая, что не может быть иначе. Но оба ли они его ждали с одинаковым трепетом? Оба ли забывали как дышать, когда шли за батюшкой к аналою? Оба ли видели перед собой лик Создателя, когда над ними пели «Господи, Боже наш, славою и честью венчай их!»?
Не уничтожили ли они все, вместо того, чтобы подарить надежду?
Ноги едва ли его слушались, когда Дмитрий приблизился к недвижимой супруге, судорожно сжавшей в руках тонкий шарф.
Он почти видел, как перехватило в её груди дыхание, стоило ему опуститься рядом на кушетку. И как напряглась узкая спина, когда он накрыл её ладонь своей. Она обернулась, и зеленые глаза, в свете четырех догорающих свечей кажущиеся почти серыми, поразили своей пустотой. Он скорее на бездумном порыве, нежели с какой-то мыслью, потянулся к ней – дотронулся до высокой скулы, отвел выпущенный к лицу локон. Совсем без каких-либо намерений коснулся сухих, искусанных за утро губ своими – и оторвался почти сразу, не в силах закрыть глаза на дрожь, что её пробила.
Будто она чего-то боялась.
– Прости, – единственное слово, вырвавшееся из её груди шепотом – то, что должен был сказать он. – Этот день меня выпил до капли.