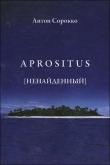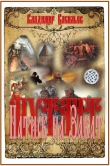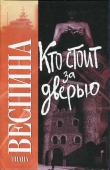Текст книги "Плачь обо мне, небо (СИ)"
Автор книги: Selestina
Жанры:
Исторические любовные романы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 60 страниц)
Возможно, стоило не загонять коней, требуя от них скакать на пределе сил, но тогда бы пришлось заночевать где-то, потеряв более шести часов. Дмитрий не мог столько ждать, хоть и спутники его не единожды предлагали отдохнуть.
Быстрее прибудут – быстрее поймут, какой шаг предпринять следующим.
Бежецкое поместье Аракчеевых, когда-то бывшее главным местом обитания семьи, до трагических событий являло собой прекрасную картину дворянского гнезда семнадцатого столетия во всем его великолепии: главный господский дом едва ли был виден за плотными насаждениями плодовых деревьев, утопая в зелени, еще не призванной к порядку по петровским традициям. Вотчина, подаренная еще родоначальникам фамилии, выглядела исконно русской усадьбой, разве что после пожара строения было решено восстановить в камне, а не надеяться на дерево, что может вновь воспламениться. Общий же облик значительно разнился с тем, что имели новые поместья, больше похожие на дворцы и нередко являющиеся копиями императорских резиденций: главный дом являлся одноэтажной вытянутой в обе стороны постройкой, выкрашенной в мшисто-зеленый. С добавочным этажом по центральной части, дополненным балкончиком, покатой крышей и узким длинным крыльцом, от которого расходились полукруглые боковые лестницы вправо и влево.
К югу от усадьбы можно было приметить золоченый крест, венчающий купол маленькой церкви, по правую руку от господского дома располагались баня, кухня и конюшни – покойный дед Павла Петровича питал любовь к лошадям. Никто из его детей этой любви не унаследовал, но пустующее строение перестраивать не стали из уважения к предку.
Оставленное без присмотра, поместье понемногу стало приходить в упадок: разрослись плодовые деревья, вытянулись сорные травы, задушив когда-то с такой любовью выращиваемые хозяйкой усадьбы цветы в клумбах. Стоячая вода в пруду, не имеющая возможности обновляться, затянулась ряской, дорожки, давно уже не расчищающиеся, едва ли можно было обнаружить. На стенах господского дома облупилась краска, потемнела; белизна балюстрад сменилась серостью времени, позолота с ручек сошла. За шесть лет, минувших с момента смерти Веры Павловны и последующего отъезда Аракчеевых, фамильное гнездо почти полностью потеряло свой первоначальный облик, уже не готовясь вновь воссиять во всем своем великолепии – оно словно знало, что сюда уже не ступит ничья нога.
Кроме случайных непрошенных гостей.
По всей видимости, они сюда наведывались нередко – окно в левой части господского дома было выбито, дверь главного входа сорвана с петель и теперь при каждом резком порыве ветра мученически скрипела. Если сюда и приезжал старый князь, вряд ли он заботился о своем комфорте.
Дмитрий, спешившись, жестом дал знак сопровождающим его жандармам отстать от него на полшага, и медленно приблизился к усадьбе. Обмытые дождями, прогретые набирающим силу весенним солнцем, обласканные северными ветрами гранитные ступеньки, местами начавшие разрушаться, сменились темным деревом крыльца. Несчастная дверь вновь скрипнула, покорная требованию незваного гостя, и в лицо ударил влажный густой воздух, столь ясно пропитанный тоской и забвением, в котором утонуло поместье.
Замерев на входе в приемную-прихожую, Дмитрий обратился в слух, но напрасно: ни единого звука чужого присутствия – лишь печальный стон стекол, потревоженных яростным ветром, стремящимся нагнать грозовые тучи (Дмитрий всерьез опасался, что придется здесь заночевать, если до дождя не успеть). Стараясь ступать как можно осторожнее, дабы рассохшееся дерево под ногами не выдало его присутствия, Дмитрий двинулся вперед, ненадолго задумавшись на развилке и решив сначала осмотреть нижний этаж, где, как оказалось, расположилась кухня-поварня с огромной шатровой печью. Судя по большому изящному дубовому столу на восемь персон, когда-то старательно отполированному и покрытому лаком, семья предпочитала обедать здесь, а не в столовой. Комплект ему составлял высокий буфет, еще хранящий эмалированный сервиз, укрытый одеялом пыли, и изысканную хрустальную чашу для фруктов, затянутую паутиной.
Главный этаж господского дома вместил в себя комнату хозяев, одновременно являвшуюся и спальней, и кабинетом, как можно было понять по кровати с балдахином, спрятанной за высокой раздвижной ширмой, соседствующей с книжными стеллажами и крепким письменным столом. Нахмурившись, Дмитрий прошел к нему, касаясь ладонью гладкой поверхности и задумчиво смотря на белую ткань перчатки: для забытого на долгие годы поместья стол был слишком чист, словно бы им воспользовались не так давно. Внимательно пробегая взглядом по какой-то безделушке в виде фарфоровой пастушки, старой трубке, лишенной каких-либо украшений, пожелтевшему чистому пергаментному листу, явно не тронутому с момента отъезда хозяев, пузатой чернильнице, и букетику давно высохших цветов в низкой вазе (увядшие бутоны опали, и теперь из горла торчали лишь стебли), Дмитрий надеялся найти хоть какую-то зацепку, но все было тщетно: все прочее, кроме столешницы, не использовалось неизвестным гостем. Даже если здесь что было, он забрал это с собой.
Еще с полчаса потратив на осмотр хозяйской комнаты, небольшой гостиной, где внимания его удостоилась лишь подробная родословная Аракчеевых на восточной стене, кабинет главы семьи и парадного зала, он оказался в спальне покойной Веры Павловны. Памятуя о рассказе цесаревича, Дмитрий с особой тщательностью изучил и содержимое маленьких ящичков низкого комодика, и подборку книг на полках узкого стеллажа, и даже письма в секретере, но едва ли находки могли представить какую-то ценность для дела: ни в посланиях от какой-то Анны Чесменской, ни в маленьком томике сонетов Шекспира, ни в когда-то изящном веере с красочными рисунками нельзя было углядеть намеков на место пребывания князя Трубецкого. И в целом какой-либо связи с ним.
Глубоко разочарованный, Дмитрий покинул усадьбу со стороны черного входа и двинулся по направлению к двупрестольной церкви, не зная, что именно желает найти там. Однако замер на полпути, прикипев взглядом к позорному столбу, возле которого пороли нерадивых слуг: в светлое дерево въелись пятна старой крови, наверняка не единожды украшавшие его поверхность, низ потемнел от когда-то ласкавших его языков яростного пламени. Но отнюдь не это привлекло внимание Дмитрия, а труп, лежащий у подножия столба. Впрочем, это скорее было остовом человеческого тела – плоть обгорела до того, что в некоторых местах проглядывали кости, с черепа кожа сошла почти полностью, а остатки мяса уже изрядно поклевало воронье, слетавшееся на любую падаль. По всей видимости, его подвергли сожжению, но не стали дожидаться полного обращения в прах. Возможно, даже затушили огонь, убедившись, что от полученных ран он медленно скончается, не получив помощи.
Ситуация явно имела место быть не так давно, иначе бы тело выглядело совершенно иначе, значительно разложившись. Вряд ли подобное было делом рук случайных разбойников – им не свойственно вершить суд в барских домах.
Обернувшись к церкви, внешне выглядящей такой же заброшенной, как и усадьба, Дмитрий помедлил, но все же исполнил первоначальное намерение: довольно скоро достигнув оной, свернул вправо, входя в семейный некрополь Аракчеевых. Последнее пристанище Веры Павловны сыскать не составило труда: в отличие от остальных членов дворянской фамилии, младшая дочь получила не могилу, а круглую часовню-усыпальницу, выкрашенную белым. Молельня с византийскими оконицами едва ли могла чем-то заинтересовать, поэтому Дмитрий сразу спустился по узкой лестнице, укрытой ковровой дорожкой, в крипту. К восточной стене был устроен памятник, в котором читался лик молодой женщины с уложенными в аккуратные локоны по обе стороны от центрального пробора волосами. У подножия покоился букет лиловых крокусов и догорала тонкая восковая свеча. И если до того момента Дмитрий полагал, что часовня была выстроена по распоряжению Павла Петровича или его безутешной супруги, то после прочтения надписи на мраморном надгробии с бронзовым крестом им овладело оцепенение:
Вера Павловна
Аракчеева
сконч. 11 августа 1857
____
В Царствии Его будет дарован тебе царский венец
И только тогда он вновь вернул взгляд холодному камню, внимательно рассматривая деталь, что до того показалась незначительной: над головой у женщины была выбита малая императорская корона.
Как бы ни любили родители свою безвременно скончавшуюся дочь, вряд ли бы они стали заказывать такую эпитафию и памятник.
Нахмурившись, Дмитрий стремительно покинул крипту и точно так же намеревался выйти из-под сводов молельни, но в последний момент, привлеченный странным мерцанием, обернулся: на стыке пыльных известняковых плит, коими был выложен пол этого помещения, у восточной стены, на которой расположилась большая Державная икона Божией Матери, изредка ловя отсветы кем-то зажженных свеч, лежал маленький овальный медальон, соседствующий на разорванной цепочке с серебряным крестом. Поднимая вещицу, Дмитрий уже знал, что увидит, стоит ему раскрыть створки.
Портрет темноволосой женщины, чей образ был выбит на надгробии.
***
Российская Империя, Семёновское, год 1864, май, 12.
Если в сказках утро и было мудренее вечера, то в действительности смена времени суток ничего не меняла – сложным ситуациям не свойственно разрешаться самостоятельно. И все решения, принятие которых было отложено, по мановению волшебной палочки не получали никакого знака, позволяющего отделить верные от ложных. Усталость, что одолевала Катерину, рассеялась длительным и крепким – вопреки всему – сном, однако ясности в мыслях не появилось. И разве что не было необходимости думать, как вести себя с Дмитрием, наблюдая за работой служанок в широкое зеркало, заключенное в костяную раму, покрытую серебряной краской. Ловкие руки одной девушки превращали волнистое темное полотно в аккуратные косы, тут же прикалывая их на затылке. Другая же, закончившая оправлять воланы нижней юбки, уже готовила льняную кофту на туго затянутый корсет. Верхние детали – юбка и корсаж – разложенные по заправленной постели ожидали своего часа.
Глаз едва ли цеплялся за отражение в зеркале: пожалуй, даже допусти служанки сейчас где ошибку, Катерина бы не заметила, будучи слишком задумчивой. В ней мало что изменилось со вчерашнего дня: шок и неверие в фальшивость гибели Дмитрия прошли, однако понимание того, как все же она должна воспринять эту ситуацию и что будет с ними дальше, так и не пришло. Сердце перестало болеть от потери, с которой не сумело смириться, и она была готова долго и горячо возносить благодарные молитвы Творцу за счастливую весть. Но ничто не могло стереть из памяти этих четырех месяцев.
Между ними в прошлом и сейчас образовалась непреодолимая пропасть.
Выйти к завтраку труда не составило, равно как и поддерживать непринужденную беседу – Дмитрий уехал еще на рассвете, Елизавета Христофоровна возвращаться к теме свадьбы в его отсутствие не стала, тем самым подарив Катерине возможность спокойно выдохнуть хотя бы на этот день. Эллен что-то говорила о Флоренции, похоже, желая уехать туда в конце лета, и даже, кажется, упомянула о присутствии Катерины рядом с ней – та не вслушивалась: рассеянное внимание удавалось сконцентрировать с трудом. Да и Европа сейчас мало её интересовала: разве что с маменькой увидеться, но вряд ли кто ей это позволит – Голицыны в глазах государя все еще опальная фамилия. А обычная поездка её бы ничуть не развеяла.
После завтрака старшие Шуваловы почти сразу отбыли из поместья, обещаясь вернуться к обеду, Владимир и Григорий были загнаны учителем на занятия, а Эллен, приняв желание подруги побыть наедине с собой в библиотеке, исчезла в неизвестном направлении, вроде бы что-то прощебетав о прогулке, но ручаться за это Катерина не могла.
Однако одиночество её длилось недолго – что, впрочем, она предполагала: совсем не в правилах младшей графини Шуваловой было отказывать своему любопытству. А то, что оно её снедало еще со вчерашнего вечера – так тут и к гадалке ходить не надо: все было написано на её живом лице. Катерина успела лишь вернуться в спальню и распорядиться подать ей туда чай (завтрак, бесспорно, был сытным, но привычка порой делать короткие глотки остывшего мятного чая в процессе чтения, главенствовала над всем), да завернуться в вязаную шаль, пристроившись ближе к растопленному камину, как тонкая тишина спальни оказалась нарушена.
– Ты не выглядишь счастливой, – тихо произнесла Эллен, прикрывая за собой дверь. Катерина, бездумно листающая страницы какого-то романа, взятого в библиотеке, подняла голову. Вошедшая подруга выглядела непривычно серьезной, хоть и нельзя было ее назвать беспечной хохотушкой.
– Я просто зачиталась.
– Ты вряд ли знаешь, о чем книга, – проницательность Эллен была одной из тех ее черт, что порой сильно не радовала Катерину. – Что тебя гложет? С самого момента вашего приезда ты едва ли обменялась с моим братом парой фраз. Между вами что-то произошло?
Катерина осторожно закрыла маленький томик, откладывая его в сторону. Что она могла рассказать? Или что она должна была рассказать? О том, как оказалась важной фигурой в деле государственной важности? Или о том, как потеряла сразу двух близких людей? Или же о том, что сама не может понять, что творится в сердце, которое совсем не тот ритм отбивает?
– Это из-за цесаревича?
Подняв непонимающий взгляд на подругу, Катерина пыталась определить, что именно Эллен имела в виду. Та, впрочем, не стала ждать ответных вопросов и добавила:
– Ты уже не уверена в желании выйти замуж из-за цесаревича?
На лице Катерины отразилась странная многогранная эмоция: возмущение, словно предположение было абсолютно беспочвенно, страх, будто ей было что скрывать, усталость, как у человека, не впервые получившего в свой адрес подобное. А после – она просто прикрыла глаза и медленно покачала головой.
– Не из-за него.
– Значит, не уверена, – тяжело констатировала факт Эллен, делая еще пару шагов вперед и опускаясь в кресло напротив. Осторожно протянув руку, она забрала из ослабших пальцев толстую книгу, чтобы мельком рассмотреть название. – Le Rouge et le Noir? Я полагала, ее уже нет в библиотеке после запрета*, – младшая графиня Шувалова заинтересованно царапнула ногтем золотые буквы на бордовом фоне. Катерина, казалось, никак на это не отреагировала, хотя выхваченные за минуты до того фразы клеймом отпечатались перед глазами.
Стоит мне только увидеть тебя, как всякое чувство долга, все у меня пропадает, я вся – одна сплошная любовь к тебе.
Ничего увлекающего или хоть сколько-нибудь трогающего душу в романе Стендаля не было, как не нашла этого Катерина когда-то в другом его творении – Пармской обители – как не находила во французских романах вообще. Все это так нравилось большинству светских дам, всем этим так зачитывалась Эллен, и все это было так далеко от самой Катерины. Что абсолютно пустой честолюбивый Жульен, желающий быть на коне во всем, ищущий самоутверждения то с одной, то с другой дамой, и каждой шепчущий о любви – противен ей. Что излишне воздушная мадам де Реналь – мать, жена, изменщица – вызывающая презрение. Но одним лишь моментом – не понятая, но словно говорящая по тексту ее собственной души.
… Мне хочется по-настоящему понять, что́ происходит в моём сердце, потому что ведь через два месяца мы расстанемся.
Умирающий за окном май, которому осталось недолго, говорил, что до последнего «Прощай» и месяца нет.
– Я не уверена в себе, – глухо озвучила она наконец свой ответ.
Да и могла ли она сейчас думать о свадьбе, когда все еще не завершено дело князя Остроженского? То, что он не давал о себе знать уже более месяца, ничуть не успокаивало. Напротив. Этот факт лишь усиливал внутреннюю тревогу: такой человек не мог просто забыть о своих взлелеянных мечтах и, более того, забыть о тех, кого когда-то вовлек в свои авантюры – он был слишком умен и осторожен, чтобы бросить использованные пешки, предоставить их самим себе. Он наверняка следил за ней, даже если не имел больше относительно нее никаких намерений (исключая контроль до самого конца). Даже если планы его теперь не касались племянницы, и центральная роль оказалась отведена кому-то другому, это не равнялось свободе для оной.
Катерина сильно сомневалась, что Дмитрию сегодня удастся что-то обнаружить. И сомнения эти касались не его самого – князь Остроженский слишком хорошо научился таиться и обманывать даже жандармов, чтобы внезапно попасться. Порой ей даже казалось, что с его поимкой не справится и все Третье Отделение: это в сказках добро неизменно побеждало и герои получали заслуженные трофеи. Они же находились отнюдь не в сказке.
Подтверждение тому Катерина получала из раза в раз и вряд ли сегодня что-то изменится. Однако и просто опустить руки, прекратив бороться, она не могла.
К чему тогда было все, что уже сделано?
– Ирина уже обвенчалась? – внезапно осведомилась Эллен, чем вызвала недоумение на лице глубоко задумавшейся Катерины – та вообще мало что знала о жизни старшей сестры, поскольку лично ей не писала, а маменька отчего-то давно не упоминала ни о самой Ирине, ни о ее нареченном. Кажется, он был сыном скончавшегося годом ранее барона фон Стокмара.
– Помолвка состоялась на исходе декабря, насколько мне известно. Однако, венчание… – она нахмурилась, пытаясь припомнить хоть что-нибудь, – не знаю.
– Если она еще не замужем, у тебя есть время.
– К чему ты ведешь?
– Ты не можешь выйти замуж раньше старшей сестры, – напомнила ей Эллен, – а значит, у тебя есть веская причина пока не назначать дату свадьбы.
Зеленые глаза ошеломленно расширились: Катерина ни за что бы не подумала, что услышит подобное из уст Эллен. Логически рассуждая, та должна была всячески способствовать ускорению брака своего брата, но никак не искать возможность сдвинуть этот день. Сколько лет младшая графиня Шувалова пыталась навести подругу на мысль о свадьбе – даже покойный папенька был далеко не так настойчив. И теперь такие речи…
– Вполне возможно, что она уже повенчана с бароном.
– Пока ты этого не узнаешь точно, ты не можешь думать о своей свадьбе.
Однако в этом Эллен была права: непреложное правило о выдаче замуж дочерей по старшинству не прекратило своего действия. То, что осенью Катерина готовилась к собственному венчанию, происходило лишь из намерения Ирины стать графиней Перовской уже в ноябре. О неискренности этого ее намерения не знал никто, и как бы все выглядело в глазах общественности, если бы на исходе осени старшая княжна Голицына вдруг оказалась не обрученной, в то время как средняя, уже имея «билет на женитьбу», собиралась навестить батюшку в церкви для уточнения последних деталей, касающихся ее собственной свадьбы, не хотелось даже предполагать.
А еще она вдруг задумалась о том, что было бы, если бы она вдруг отказала Дмитрию.
После того, как столько месяцев провела в статусе его невесты – сначала действительной, затем вдовствующей и снова, казалось, восстановленной в этих правах. После того, как были заключены все соглашения, включая роспись приданого, состоявшуюся еще в день помолвки. И как же князя Остроженского не взволновал вопрос немалой суммы неустойки в момент, когда он намеревался разорвать это соглашение? Впрочем, кажется, тот пытался сделать так, чтобы инициатива исходила со стороны Дмитрия, а значит, компенсация причиталась Катерине. Или, точнее, ее дядюшке.
Старый князь везде умудрялся оказаться в выигрыше.
Однако сейчас вздумай она сказать «нет», она окажется обязана семье жениха. Если же учесть, что у нее за душой – лишь стопка старых писем, сапфировый браслет, домашняя икона да несколько платьев, по всей видимости, ей придется продать себя, чтобы хоть как-то расплатиться с Шуваловыми.
Впрочем, ответить отказом ей мешали отнюдь не материальные трудности, а чувство глубокого духовного долга и вины, вместе сплетающиеся в какой-то оглушающий страх.
Однако и подумать о том, как стоит перед алтарем, сейчас, в эту минуту, не могла.
Возможно, Эллен была права – стоило воспользоваться призрачным и несколько надуманным шансом, чтобы отложить венчание.
Не для размышлений – для поиска сил на согласие и искреннюю клятву.
Комментарий к Глава тринадцатая. Звезда в обгоревших клочьях небес
*роман «Красное и черное» был запрещен в России Николаем I в 1850 году, а в 1864 г Ватикан внес его в «Индекс запрещенных книг». В России первый перевод появился в 1874 году, поэтому в библиотеке Шуваловых было одно из первых изданий на французском языке.
========== Глава четырнадцатая. В двух шагах от рая ==========
Российская Империя, Бежецк, год 1857, август, 11.
Вера Павловна Аракчеева не была красавицей вроде Натали Гончаровой или Зинаиды Юсуповой – получившая от матери тяжелый взгляд из-под сведенных к переносице бровей, от отца высокий лоб и темные кудри, делающие её аристократически светлую кожу еще бледнее, в свои восемнадцать она казалась даже значительно старше сестры, с которой их разделяло четыре года. Усугублял это и высокий рост, столь нежеланный для юной барышни и бывший причиной для её частого смущения, а порой и расстройства. Однако, несмотря на эти кажущиеся значимыми недостатки внешности, Вера обладала неким обаянием: не тем, что присуще весельчакам и франтам – в её серьезности некоторые видели даже угрюмость, но стоило лишь заговорить с ней, как что-то в речи, мыслях, суждениях, даже звуках голоса очаровывало и заставляло желать продолжения знакомства.
Когда их представили друг другу, Борис Петрович едва ли думал о дальнейших встречах: он нашел интересной короткую беседу с молодой барышней, но не более. Однако, когда вечером Марта, интересуясь подробностями обеда у Аракчеевых, созналась брату, что это знакомство было неслучайным и носило под собой матримониальные идеи, тридцатичетырехлетнему князю пришлось иными глазами посмотреть на ту, что предназначалась ему в невесты. Он бы мог возразить сестре – в конце концов, она не имела над ним власти и не могла руководить его жизнью, но разумное в который раз победило чувственное: в его возрасте стоило остепениться, а если принять во внимание тот факт, что он ни к одной барышне не испытывал романтического интереса и не рассматривал в качестве возможной хозяйки своего имения, помощь сестры могла быть очень кстати.
Правда, сначала пришлось все проверить: побольше выведать о личности потенциальной невесты и её родословной – Борис Петрович опасался излишнего любопытства со стороны барышни, которое могло бы загубить все его надежды. После недолгих раздумий было решено, что породниться со старинным родом будет не лишним, пусть и барон Павел Петрович приходился лишь кузеном графу Аракчееву, имевшему влияние при Императоре Александре I*. Тот владел Бежецким имением до своей смерти в 1834 году, после чего права собственности принял Павел Петрович, пожалованный баронским титулом.
Марта, не получившая от брата и грамма возмущения (разве что он шутливо укорил её в своеволии), просияла, когда услышала о его намерении нанести визит Аракчеевым на неделе.
Однако то, что началось как холодный расчет, впоследствии переросло в серьезное чувство.
Вера оказалась интересной собеседницей и привлекательной барышней, и, несмотря на существенную разницу в возрасте, Борис Петрович не чувствовал скованности или неловкости при их встречах. Она с такой же легкостью и рассудительностью говорила с ним о политике, как иные дамы – о новой шляпке; она не любила цветов и просила не тратиться на эти глупые безделушки вроде дорогих духов или фарфоровых кукол, вместо того предлагая посетить литературный вечер или достать какую-то редкую книгу. Впрочем, Вера не была лишена и некоторой девичьей мечтательности, пусть и посещающей её столь редко, что все эти случаи Борис Петрович мог сосчитать по пальцам одной руки.
Один из таких моментов и стал переломным для его жизни, в которой вновь появился, казалось, забытый смысл.
Это был вновь затеянный Варварой Львовной разговор о свадьбе, подготовка к которой велась не слишком активно: с момента обручения минуло не более недели, до венчания оставалось около полутора месяцев, и смысла в каких-либо действиях молодые не видели. Над платьем невесты и костюмом жениха уже трудились портные, как и над визитными платьями будущей княгини. О новом постельном и столовом белье вопрос решили задолго до того, и самой Вере теперь надлежало разве что о письмах к родственникам позаботиться, да о списках гостей для планирования самого торжества – баронесса Аракчеева настаивала, чтобы дочь вышла замуж с положенным ей шиком.
– И что же Вы, Вера Павловна, совсем никогда не мечтали о своей свадьбе, отходя ко сну? – недоверчиво осведомился Борис Петрович, не имеющий никаких желаний относительно приема и последующего бала, а потому решивший передать эти темы в руки невесты, но та как-то тоже не выказала особого рвения. Словно бы ей было все одно – что тихий семейный вечер, что по-столичному пышное торжество.
Вера лукаво улыбнулась, откладывая стопку разных листов, среди которых пыталась выбрать подходящий случаю для пригласительного письма:
– Сознаться? – понизив голос и дождавшись, когда внимание жениха будет приковано к ней, она быстро-быстро заговорила: – Однажды матушка рассказывала мне о церемонии браковенчания покойного государя, Николая Павловича, и государыни Александры Федоровны. Не могу представить, что чувствовала она, находясь там, в свите государыни, сколь сильным было её восхищение, но эта картина истинного великолепия стояла перед моими глазами, словно бы я сама была ей свидетельницей. А позже, прошлой весной, мне довелось видеть коронацию Их Величеств, и это было столь… – она беспомощно развела руками, не в силах подобрать верного слова, что стало бы наиболее полным отражением чувств, охвативших юный девичий разум.
И смотря на это освещенное мечтательностью и благоговением лицо, на эти сияющие глаза, на столь редкую улыбку, в которой изогнулись тонкие губы, Борис Петрович потрясенно замер: она сама была прекраснее и возвышеннее любой Императрицы.
– Вы достойны такой же церемонии, – задумчиво проговорил он, все еще как-то отстраненно скользя взглядом по её силуэту, к которому так и просилась горностаевая мантия, в то время как темные кудри бы оттенили блеск бриллиантов царского венца.
– Полагаете, я бы достойно смотрелась под сводами Успенского собора? – с невесть откуда взявшимся кокетством поинтересовалась Вера, горделиво приподнимая голову и краем глаза следя за реакцией жениха. Тот поймал её руку и прижался губами к тыльной стороне ладони, после выдыхая:
– Несомненно.
Мысли, что так давно, казалось, оставили его, куда-то разлетевшись вольными птицами с отъездом сестры и всего её семейства. Надежды, что покорно улеглись, как пыль, прибитая к земле внезапным дождем. Идеи, ранее жгущие грудь, а теперь свернувшиеся клубком где-то в самом дальнем углу. Все это вдруг встрепенулось, крича о своем возрождении.
Простого цареубийства внезапно стало недостаточно – женщина, что не любила цветов, отказываясь вплетать их в волосы, как того требовала мода, была достойна императорской короны.
Венчания не на брак, но на царство он был обязан ей подарить.
Однако первым подарком стала давно желанная поездка в Петербург, где Вера еще ни разу не была: баронесса Аракчеева столицу не жаловала, да и дальность расстояния служила еще одной причиной отказываться от этой идеи. Немалых трудов Борису Петровичу стоило добиться благосклонности Варвары Львовны, чтобы та отпустила дочь на пару дней, но если бы он знал, чем все обернется, ни за что бы и мысли о путешествии не допустил.
Никто не думал о беде – последняя вспышка холеры была три года назад, из-за Крымской войны, а в конце минувшего года даже в Европе эпидемия пошла на спад. Как можно было полагать, что какие-то остаточные одиночные случаи затронут именно Веру?
Первые дни по возвращении она только жаловалась на постоянную жажду, которую не утоляла ни вода, ни ягодные морсы, ни травяные настои. Борис Петрович не видел её всю неделю, поэтому об ухудшении самочувствия почти ничего не знал – лишь когда болезнь приняла серьезный оборот, Варвара Львовна оповестила его, но и то, ничем не выразив своего страха: частую рвоту и боли в животе списывали сначала на волнение перед свадьбой, до которой оставались считанные дни, а после на отравление. Однако день ото дня Вере становилось все хуже: она похудела, лицо её заострилось, отчего стало казаться еще более вытянутым, ничего есть она не могла – организм тут же отторгал пищу. Только тогда было решено вызвать медика из столицы (до сего момента барышню дважды осматривал уездный врач, не нашедший ничего серьезного, но предложивший чаще давать больной молоко), и стала ясна картина происходящего – тяжелая степень холеры, надежды нет.
Сорвавшийся из Петербурга сразу же, как только прочел письмо, Борис Петрович отказался даже от экипажа – скакал верхом на перекладных, даже не считая, сколько раз сменил на станциях лошадей. Он боялся не успеть и почти ежечасно возносил новые молитвы Творцу: кажется, с момента смерти матери он не испытывал такого ужаса. И не предполагал, что когда-то сможет вновь испытать страх потери – то, сколь дорогой стала для него невеста, которую изначально он воспринимал лишь удобным вариантом, который поможет производить правильное впечатление в обществе, пугало. Но с этим уже ничего нельзя было сделать.
Как и с её болезнью.
Когда тяжело дышащий, едва разогнувшийся от боли в правом подреберье из-за спешки и тревоги, князь влетел в укутанное скорбью поместье, он словно с большой высоты упал в море – столкновение с чем-то твердым, густым, выбившим весь воздух и оставившим расползающуюся по груди гематому. Разве что ребра не раздробило. Атмосфера, заполнившая каждую комнату, впитавшаяся в стены, сочащаяся из-под половиц, даже его, столь равнодушного к любым эфемерным предчувствиям, не подкрепленным рациональным, ввергла в состояние шока. Посеревшее от горя лицо Варвары Львовны, казалось, за неделю перешагнувшую не один десяток лет; утомленный и сгорбленный Павел Петрович, передвигающийся по усадьбе только с чужой помощью; словно растворившиеся, ставшие призраками слуги – все выглядело так, будто Веру уже похоронили.
Не слушая никаких предостережений – какое ему было дело до карантина? – он стремительно, без стука, вошел в спальню и содрогнулся, на миг замерев в дверях.
Она была совершенно не похожа на себя.