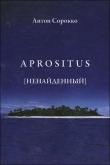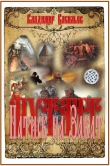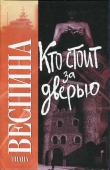Текст книги "Плачь обо мне, небо (СИ)"
Автор книги: Selestina
Жанры:
Исторические любовные романы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 60 страниц)
Николай до сих пор не понимал, что именно в действительности послужило причиной его болезни, потому как встал с постели он так же внезапно, как и слег, спустя трое суток. Ни жар, ни головная боль, ни спина сейчас его не беспокоили, словно бы произошедшее оказалось дурным сном, не имевшим связи с реальностью. Единственное, что никак его не оставляло – какая-то странная слабость, иной раз хотелось присесть и выдохнуть, будто он слишком много на себя взвалил; порой картинка перед глазами словно подергивалась дымкой, а ноги отказывались повиноваться с привычной покорностью, но подобные минуты были редки, и цесаревич предпочел не рассказывать о них никому, особенно Шестову, списывая все на остатки простуды. Тем более что дела не желали ждать.
Распрощавшись с Максимовским, назначенным к нему для чтения военной администрации, и упросив Сергея Григорьевича перенести их беседу на час, Николай спешно покинул кабинет, намереваясь покончить хоть с одной задачей, невольно отложенной из-за внезапной болезни. Помимо того, что он попросту не желал и дальше пребывать в неведении, он опасался, что Император все же возьмет дело в свои руки и в силу недостаточной осведомленности вынесет неверное решение.
Охрана Петропавловской крепости только удивленно переглянулась, когда цесаревич в сопровождении пары жандармов и смотрителя уверенным быстрым шагом миновал главный пост и направился в сторону Секретного дома, практически пустующего – все же, угроза короне появлялась не так часто и не в таком объеме, чтобы заполнить все камеры. Не составило труда и предположить, что стало причиной визита Наследника Престола в Алексеевский равелин, если учесть, что одного из заключенных сюда направили именно его приказом. Явно не приговоренный к каторжным работам Чернышевский.
Арестант номер три.
Дверь с неприятным скрежетом плохо смазанных петель отворилась, и в лицо Николаю пахнуло сыростью, не столь ощутимой в узких коридорах каменного мешка. Пятно света от зарешеченного маленького квадрата окна под самым потолком падало куда-то в центр пола, почти не давая возможности разглядеть лица того, кто занял третью камеру. Зато не узнать самого цесаревича, возникшего в дверном проеме, с маячащими за его спиной жандармами и караульным, было невозможно.
– Ваше Высочество, – узник поднялся с тюфяка из оленьей шерсти, коим была устлана жесткая кровать, и привычно склонил голову. То, что он оказался в заточении и, по сути, мог быть приговорен к казни, не умаляло доли уважения к Наследнику Престола. Он пошел на убийство, но ни единой минуты в своей короткой жизни не осмеливался даже помыслить о действиях против Царя и Отечества. Если бы тогда, в переулке, он узнал, кому угрожал ножом… Впрочем, а что бы он в действительности тогда сделал? У него не было иного выхода, даже если бы перед ним оказался сам Император. Но он раскаивался.
Это единственное, в чем он раскаивался.
Шагнув в маленькое полутемное помещение на десять шагов в длину и шесть в ширину, призванное стать последним кровом заключенным, Николай скользнул взглядом по потерявшему всякий лоск человеку в порядком изодранной белой сорочке. Тускло поблескивал нательный крест на почерневшей цепочке, когда-то мягкие и идеально уложенные волосы слиплись от пота и лежали в полном беспорядке, подбородок потемнел от щетины, под глазами залегли тени, усиливающиеся от нехватки света, и только глаза продолжали смотреть все с той же уверенностью, да спина, по которой явно не раз прошелся кнут, еще сохраняла свою стать.
– Полагаю, Вы уже успели испытать все удобства этого места. Какое же Вам более всего приглянулось? Быть может, хлеб и вода с ножными оковами? Или же каленое железо? А может, стоило пойти по пути покойного Императора и организовать Вам допрос, как для декабристов?
Алексей Федорович, занимающий пост коменданта, доложил, что было проведено уже два дознания, но арестант оставался скуп на сведения, требуя беседы с Наследником Престола. Теперь тот стоял перед осужденным с непроницаемым лицом и жестокостью во взгляде, которая казалась такой чуждой его открытой и светлой натуре.
Заключенный молчал, опустив взгляд, но не теряя выправки. Он не был сломлен и не ощущал за собой вины окромя нанесения увечий члену императорской семьи.
– Вы считаете, что Вас сюда заключили несправедливо? Желаете требовать суда и помилования?
– Никак нет, Ваше Высочество.
Цесаревич сделал еще несколько коротких шагов вглубь, обозревая толстые обшарпанные стены, пустую суповую миску и глиняную бутылку с отколотым краем возле нее. Одно лишь пребывание здесь было достаточной мерой наказания – помнится, даже революционер Бакунин десять лет назад написал, что «…в таких условиях отупеет Наполеон, а сам Иисус озлобится». Из Секретного дома не было иного выхода, как на казнь. Даже вздумай заключенный сбежать и сумей чудом избавиться от решетки на окне, он будет пойман во внешнем дворе, а реши покинуть камеру через дверь, охраняемую лишь одним караульным, будет пойман или в саду, или на выходе. Да и сговориться ни с кем не выйдет: после инцидента с Бестужевым арестантов распределяли так, чтобы между ними были пустые камеры.
– И кто же надоумил Вас на такое деяние? Князь Трубецкой?
То, как вздрогнул арестант, не укрылось от Николая. Впрочем, это он подозревал – везде торчали уши этого господина, похоже, уже не гнушающегося никакими методами. Комендант, пристроившийся на шатающемся деревянном табурете, вынул из-за пазухи бумагу с пером и чернильницей.
– Как именно он сумел Вас вовлечь в свои интриги, меня мало заботит, – медленно проговорил цесаревич, – однако мне хотелось бы знать, кто еще принимал участие в этой авантюре, – молчание со стороны допрашиваемого заставило его поджать губы и нахмуриться. – Как Вам стало известно, где и когда окажется княжна Голицына? Кем была женщина, столь правдоподобно разыгравшая приступ?
Один из жандармов, видя, что обвиняемый продолжает упорствовать в своем безмолвии, сделал было шаг в его сторону, но был остановлен резким жестом цесаревича, преградившего ему дорогу. Он сам моментально сократил расстояние между ним и узником казематов. Схватив того за грудки так, что потрепанная ткань жалостливо затрещала, он резко тряхнул ныне безымянного мужчину; голова его дернулась, но взгляд оставался опущен.
– Говори, – процедил сквозь зубы Николай, отринув всяческое уважение в речи. – Мне не составит труда вспомнить о самых жестоких пытках, чтобы выбить правду.
Комендант, пусть и редко сталкивающийся с Наследником Престола, но все же не привыкший видеть того в столь старательно скрываемой ярости, поежился от охватившего озноба; в фигуре и тоне его сейчас отчетливо угадывался покойный Николай Павлович. И если решение его будет продиктовано теми же мыслями, заключенный заживо сгниет на нарах, моля о смерти. О причинах особого отношения к арестанту под третьим номером Алексей Федорович не знал, но даже так он не имел сомнений в самой жестокой мере наказания.
– Молю о снисхождении, Ваше Высочество, – все же выдавил из себя узник. – Мне ничего не известно, я лишь должен был лишить жизни княжну Голицыну.
– Врешь, – прошипел цесаревич, едва сохраняя самообладание; рука подрагивала, и если бы не необходимость вытянуть всю возможную информацию, он бы уже размозжил голову допрашиваемого об обнажившийся острый кирпич стены. Становилось страшно помыслить, что он мог сделать с самим князем Трубецким при поимке, если так остро реагировал всего лишь на того, кто только осмелился напасть на Катерину.
– Никак нет, Ва… – он захрипел от внезапного удушья: свободной рукой Николай сжал его горло, не давая закончить очевидную ложь.
– Вы или глупы, или… впрочем, иного варианта нет, – с обманчивым спокойствием он покачал головой; в синих глазах плескалась едкая жалость. – Вы всерьез полагаете, что если Вы не сознаетесь, Ваша участь окажется менее тяжелой? Или Вы боитесь, что князь Трубецкой отыграется на Ваших близких? Так люди милейшего Василия Андреевича это могут сделать еще более изощренно.
– Они… н-ничего н-не… знают, – попытался мотнуть головой арестант, все еще не способный даже сделать полноценный вдох. На потной шее обещалась появиться крупная гематома.
– Зато, возможно, это прибавит Вам сговорчивости. Узнаем, что Вас сильнее трогает – крики младшей кузины или слезы матери.
– Н-нет, – он даже поднял замутненные глаза, вперившись ими в Наследника Престола, – н-не над-до, В…
– Так говори! – вновь тряхнул его цесаревич, тяжело дыша и тут же возвращаясь к обманчиво-ровному тону. – Глядишь, и каторга будет расстрелом заменена.
Он ослабил хватку, снимая руку с шеи и удерживая допрашиваемого только за когда-то белую ткань сорочки, но всем своим видом давая понять, что в любой момент готов вновь напомнить об отсутствии какого-либо снисхождения.
– Она… – даже после недолгого удушья говорить было крайне сложно, – представилась Тат-тьяной. Я не з-знал ее раньш-ше. Она ссказала где б-будет княжна.
Знакомое имя резануло слух. Все ниточки вновь сводились в один клубок. И, увы, полностью его распутать выпадало отнюдь не Николаю. Отшвырнув от себя арестанта так, что тот ощутимо приложился затылком о каменную кладку стены, он обернулся к коменданту.
– Вы знаете, что делать, Алексей Федорович.
Получив утвердительный кивок со стороны последнего, цесаревич бросил последний презрительный взгляд на даже не пытающегося подняться узника и молниеносно покинул камеру.
Он выяснил все, что мог.
***
Российская Империя, Санкт-Петербург, год 1864, апрель, 24.
Последнее воскресенье перед Пасхой становилось праздничным днем, словно бы дающим возможность набраться сил на последнюю самую строгую – страстную – седмицу: сегодня дозволялись и веселье, и даже вино. Но Катерина отнюдь не потому так ждала этого дня: ей не был в тягость пост – напротив, она с истинным смирением придерживалась всех правил и появлялась на каждой церковной службе, вечерами неизменно присутствуя у государыни, чтобы читать духовные книги. Душа, истерзанная и потухшая, желала прощения, а о покое даже не молила. Вместе с Марией Александровной, глубоко преданной христианской вере еще с момента появления в России, Катерина выстояла всенощную в дворцовой церкви, прижимая к груди веточки вербы и не замечая стекающих на руку капель воска от зажженной свечи. Пронзительные голоса, слившиеся воедино, наполняли столь долгожданной легкостью, и если становилось так хорошо только лишь сейчас, она имела смелость надеяться, что, пройдя таинство святого причастия, она действительно сумеет избавиться от всего, что тяготило.
Окропленные святой водой веточки нашли свое место у икон в углу, где должны были храниться до выходного дня, когда удастся навестить могилу батюшки, чтобы оставить на ней вербу, а сама Катерина по возвращении из церкви едва сумела (не без помощи разбуженной служанки) избавиться от верхнего платья и корсета, ощущая, как туманится сознание. Она даже косы не расплела – столь долгожданный сон, впервые за несколько дней не исполненный кошмарных видений, охватил внезапно и крепко. Настолько, что пробудилась она уже в одиночестве: постель Сашеньки, располагавшаяся напротив, была идеально застелена, а ее любимая шаль отсутствовала. Тревожно оглянувшись на часы, Катерина было побледнела – к Императрице надлежало являться в девять – но почти сразу вспомнила о милости оной и облегченно опустилась обратно на подушки; Мария Александровна дозволила ей приступить к обязанностям парой часов позже. Если бы сегодня было ее дежурство, вряд ли бы подобное разрешение было бы получено, но ей повезло.
Как оказалось – не только в этом.
То ли виной тому был праздник, то ли просто Императрица желала провести сегодняшний день в тишине, но она оставила подле себя только дежурную фрейлину и Анну Тютчеву, остальных распустив после обеда. Предоставленная самой себе, если не считать приставленных к ней жандармов, Катерина не знала, чем занять разум, в минуты отдыха моментально возвращающийся не к самым приятным думам. Не спасала даже что-то щебечущая о детском базаре, устраиваемом перед Вербным воскресеньем, Сашенька: стараниями батюшки хорошо знакомая с традициями этого церковного праздника, она рассказывала одну историю за другой. Но Катерина едва ли ее слышала – день за днем она ожидала решения Императрицы, и как бы ни силилась она найти себе занятие, все оканчивалось провалом. Единственным спасением стали молитвы, но они не могли быть бесконечны.
Она до сих пор не знала, что будет с ней дальше. После того разговора государыня вызвала к себе мадам Тютчеву; беседа их длилась с полчаса, после чего все фрейлины, присутствовавшие в тот день, были приглашены в кабинет, где обязались молчать об инциденте с украшениями. Несмотря на то, что Императрица должна была отлучить провинившуюся от Двора, в действительности к ней были лишь приставлены жандармы, как к находящейся под подозрением. Возмущение Ланской, похоже, более всех ратовавшей за справедливый приговор, было пресечено жестким взглядом Марии Александровны, уведомившей ее – и всех остальных – в том, что по данному делу еще будет проведено расследование из-за недостаточно веских доказательств. На вопрос же о том, почему Катерину не заключили под стражу за покушение на Великую княжну, ответила уже мадам Тютчева, хлестким «не Вашего ума дело, mademoiselle» указав той на ее место.
Пятый день Катерина закрывала глаза и уши на шепот, подбирающийся к ней со всех сторон, и презрительные взгляды тех, кто полагал, что ее оправдали лишь за какие-то неведомые заслуги, и, вполне вероятно, по протекции Наследника Престола. Даже здесь умы сплетников не преминули провести связь между «романом», развивающимся в дворцовых стенах, и особым отношением со стороны государыни.
Более всего не терпящей чужих оговоров Катерине хотелось сорваться на крик и заставить замолчать этот змеиный клубок, прицельно плюющийся ядом. Но она не могла повести себя столь… неподобающим ее положению и воспитанию образом.
Потому, схоронившись в собственной комнатке, она старалась без нужды не выходить отсюда, тем более что Императрица временно сняла с нее практически все обязанности, пока не будет найден настоящий преступник: то, что она верила своей фрейлине и имела некоторые предположения о личности виновного, не делало княжну чище в чужих глазах. Государыня была вольна решать судьбу своих подчиненных самолично, однако при этом следовало придерживаться общих порядков.
Стук в дверь, хоть и тихий, каким-то образом не остался незамеченным Сашенькой, тут же прервавшей свой пылкий рассказ и по-детски спрыгнувшей с постели, чтобы почти подлететь к двери и распахнуть ее, тут же окликая Катерину: прибывший адъютант цесаревича почему-то не желал делиться причиной своего визита с Жуковской.
– Мне было приказано передать, что Его Высочество будут ожидать Вас к семи в кабинете.
Откланявшись, офицер удалился, а княжна с тяжелым вздохом прислонилась спиной к двери.
– Сознавайся, думала с утра о цесаревиче? – смеясь, настойчиво поинтересовалась Сашенька, прожигая ее взглядом. Катерина закрыла глаза: соседка словно вознамерилась по поводу и без задавать такие вопросы. Хотя, тут и вправду стоит выразить «благодарность» цесаревичу, напомнившему о себе столь неожиданно, да еще и с этой таинственностью. Конечно, Сашеньке не составило труда вспомнить одну из главных, когда девушка с утра в мыслях рисовала образ любимого человека, равнодушного к ней; считалось, что вечером он должен был ее навестить.
– Onde, poniam che di necessitate surga ogne amor che dentro a voi s’accende, di ritenerlo è in voi la podestate*.
Если она надеялась на то, что это остановит интерес Жуковской, она крупно ошиблась. Любопытство той не знало границ, особенно когда дело касалось сердечных переживаний. Ни о каком «изгнании чувства» она и думать не желала.
– Счастливей станет ли от этого душа? – в тон ей отозвалась Сашенька. – Передо мной ты можешь не таиться – я ж вижу все.
Нарочито ничего не говоря, Катерина отошла к зеркалу, намереваясь поправить прическу и позвать служанку, дабы сменить платье. Все это было чистой воды глупостью, и даже если от внимательного взора соседки ее состояние не могло укрыться, она не лгала, цитируя Данте – сколько сильно б ни пылало чувство, разум мог справить свой справедливый суд.
Должен был.
Впрочем, разум едва ли удавалось заглушить радостью от скорой встречи, но не столько в силу того, что Катерина не видела цесаревича с того злополучного бала, сколько из-за ее волнения за его состояние. Резко остановившись в нескольких шагах от дверей, она сделала глубокий – насколько позволял туго затянутый корсет – вдох, выравнивая дыхание. Мазнув взглядом по безмолвным слугам, несущим пост, приблизилась, но стучаться не пришлось: один из охранников собственноручно отворил перед ней дверь. Она знала, что ее ждут, однако подобный жест все же вызвал удивление; впрочем, никак не выказанное.
– Ваше Высочество, – не скрывая улыбки, Катерина склонилась в книксене, – я рада видеть, что Вы здоровы.
– А я рад знать, что Вас не отлучили от Двора, – вернул ей ответную учтивость Николай; и хотя в голосе его звучала ирония, он явно был серьезен.
– Боюсь, это ненадолго – mademoiselle Ланская поражает своим упорством.
Она не любила осуждать кого-либо, но в сложившейся ситуации не выдать подобный комментарий оказалось выше ее сил. Она и вправду невероятно устала от того, что происходило в стенах дворца, и если бы не всеобъемлющее желание до конца своих дней оберегать государыню и исполнять ее приказы, и быть подле цесаревича, она бы уже давно просила об отставке. Клетка оставалась клеткой, сколько бы золота ни пошло на ее сооружение и сколько бы драгоценных камней ни украсило ее изнутри.
– Не думаю, что это ее рук дело, – жестом предложив гостье занять кресло у окна, Николай сопроводил ее и присел напротив. – Она, конечно, не питает к Вам особо теплых чувств, но на подлог бы не осмелилась. Ее орудие – острый язык, но марать руки она не станет.
– Даже если это будут чужие руки? – все так же не сводя с него взгляда, осведомилась Катерина.
Она не могла не признать весомую долю правды в этих словах: Ланская действительно не упускала случая задеть ее колким упреком или упомянуть в грязной сплетне, но все это больше походило на изящную пикировку, проводимую скорее со скуки, нежели в силу реальной ненависти. Им было нечего делить: ни мужчину, ни место, ни статус. Даже если принять во внимание тот факт, что при дворе Катерину считали фавориткой цесаревича, сама Александра являлась крестницей покойного Императора, что давало ей куда больший вес в обществе, и могла претендовать на любого дворянина из высшего круга, вздумай она возжелать брака. Для того, чтобы закончить дворцовую карьеру Катерины, ей было бы достаточно просто поставить Императора в известность об отношениях той с его сыном, приукрасить парой несуществующих фактов, выставив ситуацию как угрожающую Империи, и дело сделано. Но Ланская находила удовольствие в наблюдении, в этом не было сомнений, и потому поверить в то, что клевета – ее рук дело, становилось крайне сложно.
– Вряд ли, – Николай подпер рукой подбородок. – Кто из фрейлин был рядом с государыней в те дни?
– Mademoiselles Волконская, Мещерская, Анненкова, Олсуфьева, Розен, – начала перечислять она, вспоминая тех, кто заступал на дежурство или же присутствовал при утреннем и вечернем туалете. В остальные часы доступа к шкатулкам не было, если говорить о возможности незаметно взять украшения.
– Как на подбор ни одной активной сплетницы, – не преминул отметить цесаревич, – что одна, что другая – воплощение невинности. Насколько мне известно, ни с одной из них Вы не были в ссоре?
– Увы, – Катерина пожала плечами, – по крайней мере, точно не до той степени, чтобы ожидать подобной клеветы. С mademoiselle Анненковой мы как-то повздорили из-за облитого шампанским платья, а mademoiselle Розен я не нарочно сбила с ног однажды, но сомневаюсь, что хотя бы одна из них затаила на меня злобу. Тогда mademoiselle Ланская уже должна была мне желать смерти в застенках Секретного дома.
Это было резонно. Действительно, если бы за каждую мелочь, причем, единожды произошедшую, фрейлины чинили друг другу столь крупные козни, штат Великих княгинь и княжон уже бы опустел, да и Двор в целом, пожалуй. Но в случившемся определенно была замешана именно придворная дама, даже если она оказалась лишь исполнительницей, а причинить вред хотел кто-то со стороны. Со стороны?..
Николай замер, прокручивая в уме внезапную догадку, после чего тут же поднялся на ноги, стремительно подходя к письменному столу и пытаясь найти среди беспорядочно лежащих бумаг полученное утром письмо. Ответ на его собственный запрос, отправленный еще вечером того же дня, что было проведено дознание.
– Вам знакомо имя Татьяны Беляковой?
Катерина озадаченно качнула головой.
– Почему Вы спрашиваете, Ваше Высочество?
– C’est pas grave*, – не стал объяснять цесаревич, переходя к следующему вопросу, – а с mademoiselle фон Вассерман Вы не конфликтовали?
– Баронесса? – утончила она. – Мы особо и не вели бесед никогда. Почему Вы вспомнили о ней?
– Не берите в голову, Катрин.
Однако, попытка оставить эту тему оказалась напрасной: Катерина покинула кресло и приблизилась к Николаю, складывая руки на груди и не сводя с него непреклонного взгляда. Невольно, он залюбовался чертами ее лица, сейчас столь по-детски нахмуренного, яркостью зеленых глаз, переполненных упрямством и желанием добраться до сути. Кажется, она начинала злиться, и это вызывало только добрую усмешку с его стороны; в такие моменты в ней было что-то особенное.
– От чего Вы пытаетесь меня уберечь, Николай Александрович?
Она остановилась буквально в паре шагов; тихий, ровный тон голоса, абсолютное спокойствие, но явное намерение выведать все возможное. Никакого смирения, никакого благоговения, никакого раболепства. Возможно, именно это в ней и восхищало, заставляло присмотреться. Заинтересоваться.
Все с той же полуулыбкой дотронувшись до ее руки, помедлив, прежде чем, не сводя с нее глаз, мягко коснуться губами тыльной стороны ладони, он, продолжая удерживать ее руку в своей, произнес:
– Если бы я мог от чего-либо Вас уберечь, давно бы это сделал. Я всего лишь не имею пока полной уверенности в своих предположениях, и потому не желаю их озвучивать.
– Вы ведь говорили с графом Перовским?
Она выглядела так, словно знала все, и в какой-то момент цесаревич даже внутренне напрягся, пытаясь понять, кто и где допустил промашку. Однако… если бы она и вправду оказалась осведомлена, неужели она бы отреагировала настолько спокойно? Нет. Она лишь угадала. Не более.
Николай кивнул, осторожно размыкая пальцы и обходя письменный стол, тем самым создавая между ними дистанцию.
– Он действовал по указу князя Трубецкого.
– Почему-то я уже не испытываю удивления, – устало изрекла Катерина и, после недолгого молчания, добавила. – И злости тоже.
В ней действительно не осталось уже каких-либо сильных эмоций. Все, чего она желала – добиться самого строгого приговора для того, по чьей милости оказалась разлучена с семьей и потеряла папеньку. Даже когда-то бушевавшее намерение лично взглянуть в лицо находящемуся под пытками старому князю, узнать, неужели он и вправду забыл о сестре, которой его действия явно бы не принесли счастья, стихло. Сгорело в собственном пламени ярости, осыпалось невесомым пеплом, осталось лишь едкой горечью в легких.
Слишком многое легло на ее плечи, слишком быстро заставило повзрослеть. Между двадцатилетней барышней, дразнящей сестру очередным письмом, счастливой невестой, перед которой – полная спокойствия и тепла жизнь, и сегодняшней фрейлиной Императрицы отнюдь не бриллиантовый шифр и восемь месяцев. Между ними целая непреодолимая пропасть.
– Скажите, Ваше Высочество, – в обращенном к нему взгляде была только агонизирующая боль, – своей свободой после покушения на Великую княжну я обязана Вам?
Николай вздрогнул.
Вспоминать о том разговоре трехмесячной давности ему не слишком-то хотелось.
***
Российская Империя, Санкт-Петербург, год 1864, январь, 22.
– Федор Кузьмин был допрошен, – уведомил сына государь, – он поведал, что княжна Голицына просила его достать где-нибудь острый нож или другое холодное оружие, как можно скорее. Он полностью отрицал причастность князя Трубецкого к этому: нож он взял у знакомого сапожника, самого же князя ни в тот день, ни ранее он не видел.
– Ложь! – вспылил Николай. – Трубецкой его просто запугал, возможно, пригрозил отнятием жизни, или же семьей. Это не имеет значения, – цесаревич шумно выдохнул, разводя руками, – как Вы можете просто поверить в слова, не подкрепленные никаким доказательством?
– А как я могу просто поверить в Ваши слова, Николай?
– Стало быть, истина не найдена? Положим, я лишь желаю защиты небезразличной мне барышни. А что с Кузьминым? Может ли кто-то подтвердить его признание?
– Мажордом, служащий у Трубецкого, уверял, что Федора Кузьмина видит впервые, и в знакомстве с его барином он замечен не был.
– Они могли встречаться за пределами особняка, – возразил цесаревич, хмурясь. Он мог понять подозрения Императора, однако они принимали слишком крупные размеры.
Нехотя, он вынул из-за отворота парадного мундира плоский конверт со нарушенной печатью, доказывающей, что послание уже было вскрыто, и передал его государю. Тот, бросив вопросительный взгляд на сына, принял письмо, однако не торопясь приступать к чтению. Видя, что отец медлит, Николай протянул ему до того сжимаемый в ладони перстень-печатку и пояснил:
– Возможно, это не очистит имени княжны Голицыной, однако, смею надеяться, что Ваша уверенность в непричастности князя Трубецкого к покушению на Марию пошатнется.
Зашуршала бумага, забегали прищуренные глаза по торопливо выведенным строчкам – похоже, время у адресанта поджимало. Впрочем, судя по той информации, что несло в себе послание, писавший и впрямь сильно спешил, желая как можно быстрее донести сведения до – Александр вновь поднял взгляд к первой фразе – цесаревича. Однако, с каких это пор его сын принимает подобные отчеты?
– Когда Вы получили это донесение? – осведомился Император, удостоверившись в подлинности подписи и ювелирного изделия.
– За сутки до того, как было совершено покушение на Марию. А это, – Николай подал еще один конверт, ничем не отличающийся от предыдущего, – днем позже.
Несколько минут прошло в полном молчании, пока Александр изучал второе послание, сверял его с первым и что-то обдумывал, потирая висок и сдвигая к переносице густые брови. Цесаревич все это время лелеял надежду на то, что отец не задастся ненужными вопросами, на которые он пока не был готов дать ответ: и без того решение продемонстрировать эти послания не было бы принято, если бы не угроза чести и свободе Катерины.
– Допрос лиц, указанных здесь, будет проведен незамедлительно. Однако оправдывать женщину лишь потому, что она обладает приятной наружностью…
– На месте княжны Голицыной мог оказаться кто угодно, – бесстрастным тоном сообщил цесаревич, обрывая воспитательную речь отца, – мое решение не переменилось бы. Не Вы ли постоянно напоминаете мне, что я будущий Император, Ваше Величество? Так позвольте мне принимать решения самостоятельно и отвечать за них: однажды этот момент все равно настанет.
Александр остановил задумчивый взгляд на сыне, смотрящем твердо и уверено: внешняя мягкость и нежность, не раз попрекаемые им, скрывали железный стержень, похоже, передавшийся от покойного деда. Возможно, однажды из него выйдет действительно достойный правитель Империи, если он не пойдет по стопам своего отца, в юности отличавшегося излишней горячностью, особенно в женском вопросе. То, что сейчас Николай отстаивал честь и доброе имя хорошенькой барышни, а не «любого подданного», как он стремился показать, было видно, однако, в его глазах читалась готовность принять ответственность, и Александр не мог этого отрицать.
– Если Ваше мнение о ней окажется ошибочным, Вы лично будете присутствовать на ее казни.
– Слушаюсь, Ваше Величество.
Чтобы дать ответ, ему не потребовалось ни мгновения раздумий. Непричастность Катерины и ее верность короне не вызывали у него сомнений, и потому он был готов принять любое условие, лишь бы отец оставил ему возможность решить судьбу княжны. Это было меньшим, что он мог сделать для нее.
И все же, он не мог не признать – одна лишь мысль о противном исходе, нарисовавшая слишком живую картину расстрела, который ему пришлось бы наблюдать, вызвала тошноту. Он сомневался в том, что сумел бы, не закрывая глаз, не порываясь что-либо изменить, смотреть на ее последние минуты.
А ведь Император наверняка бы заставил его лично оповестить Катерину о приговоре.
– Княжна Голицына будет отослана из Петербурга сегодня же, – подвел итог Александр. – С ней отправятся жандармы, которые будут наблюдать за княжной до полного подтверждения ее невиновности. До этого момента Ваши встречи с ней запрещены.
Отрывисто кивнув, как того требовал этикет, тем самым демонстрируя полное принятие монаршей воли, цесаревич развернулся в сторону выхода из кабинета. Самый тяжелый разговор остался позади, и теперь следовало как-то увидеться с Катериной и успокоить ее: Петропавловская крепость растаяла на горизонте, а остальное она сумеет пережить – в ней было куда больше силы, нежели кто-либо мог представить. Разве что оберегать ее оттого хотелось ничуть не меньше.
– Я надеюсь, Вы не потеряете голову от женщины настолько, чтобы отказаться от престола.
Слова Императора настигли Николая, когда тот уже взялся за витую ручку. Помедлив, он все же нажал на механизм, но прежде, чем дверь приоткрылась, он твёрдо и спокойно произнёс:
– Я хорошо помню о своём предназначении, Ваше Величество, и давно вышел из возраста, когда совершают глупости.
Хотя такая женщина была достойна даже отречения.
Комментарий к Глава восьмая. И хлынет мгла, и ночь разверзнется еще бездонней
* Итак, пусть даже вам извне дана Любовь, которая внутри пылает, – душа всегда изгнать ее вольна. (ит.) “Божественная комедия”, Чистилище, песнь 18.
** это не имеет значения (фр.)
========== Глава девятая. Не сыграть эту жизнь иначе ==========
Российская Империя, Царское Село, год 1864, май, 3.
Происходящий по сложившейся за несколько лет традиции после празднования годовщины бракосочетания Их Императорских Величеств переезд на сей раз случился уже после праздника Светлого Христова Воскресения. Не все придворные разделяли радость августейшей фамилии от сего события, поскольку многим жизнь вдали от столицы казалась слишком уж пасторальной, лишенной того, что искали те, кто был готов лишиться последнего, дабы оказаться при Дворе. Александровский дворец в пышности и помпезности проигрывал Зимнему: всего два этажа, за минусом цокольного, верхний из которых был отдан под служебные помещения, а бельэтаж принял парадные комнаты. Впрочем, находилось и то, что радовало обитателей дворца: простота его плана – центральный фасад, отведенный под главное здание, и пара боковых флигелей. Внутри – расходящиеся в стороны анфилады, длящиеся на протяжении всего парадного фасада и оканчивающиеся либо церковью, либо библиотекой. Если Зимний казался местом для проведения пышных торжеств и приемов, призванных продемонстрировать величие русского двора, то Александровский скорее напоминал место отдохновения тех, кому нельзя было забыть о своем высоком положении.