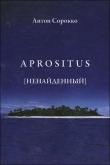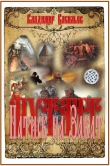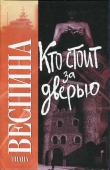Текст книги "Плачь обо мне, небо (СИ)"
Автор книги: Selestina
Жанры:
Исторические любовные романы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 60 страниц)
Это тонкое, едва ли весившее более семидесяти фунтов, тело, казавшееся старческим скелетом, обтянутым сухой морщинистой синеватого оттенка кожей; это худое лицо с острыми скулами и глубокими тенями под запавшими глазами, потерявшими свой блеск и ясность; эта неровно вздымающаяся от сильной одышки грудь, срывающиеся с бледных губ хрипы – все это не могло быть Верой. Той изящной и величественной, азартно вступающей в споры, порой слишком сильно хмурящейся, но способной на мечтательную улыбку одними глазами. Той, которой он со всей искренностью и надеждой вручал помолвочное кольцо.
Все походило на какой-то сюрреалистический сон.
На негнущихся ногах приблизившись к её постели и только сейчас уловив, как тяжело дышать в давно не видевшей свежего воздуха спальне, Борис Петрович неловко протянул руку к лицу невесты и вздрогнул, когда в тишине прозвучало его имя.
Хриплым, почти пропавшим голосом, больше похожим на мучительную попытку немого человека заговорить. Бесполезную.
В ужасе задохнувшись, князь упал на колени перед широкой постелью со сбитыми простынями и в каком-то отчаянном жесте обхватил ладонями маленькую холодную кисть.
– Не смей, слышишь, не смей, – горячо шептал он, покрывая поцелуями бледную, с ярко проглядывающими синими венами, руку; морщинистая сухая кожа казалась ледяной. – Ты должна жить. Ты должна увидеть, как падут Романовы. Должна гордо войти под своды Дворца и принять Императорскую корону. У нас будут дети, много детей. Они унаследуют трон, они укрепят власть, они вернут России величие и независимость.
Он что-то говорил, говорил, говорил, словно был в бреду. Он видел эти картины, нарисованные его сознанием еще в день той злополучной беседы. Видел её счастливую улыбку и её саму в сиянии царских бриллиантов. Слышал восхищенный гул на площади перед Дворцом и ощущал тепло супруги, стоя рядом с ней на эркере.
– Молчи, Бога ради, – её умоляющий хриплый шепот прервался затяжным кашлем, – во имя всего Святого, молчи.
Подняв голову, но не выпуская холодных пальцев из рук, он жадно всматривался в искаженные болезнью черты, незаметно для него самого ставшие столь дорогими. Когда случилось то, чего не должно было происходить, и брак из нужного обществу стал нужным ему? Когда он оказался готов не просто свершить месть, о которой уже начал забывать, но и исполнить невозможное ради женщины? Абсолютно чужой женщины. Второй, за всю его жизнь, перед которой он встал на колени.
Первой была его мать.
Перед затуманенным взглядом промелькнуло что-то серебристое. Моргнув, Борис Петрович сощурился, стараясь вернуть ясность зрению: нечто замедляло свое движение, постепенно обретая четкие контуры – маленький нательный серебряный крестик едва покачивался на простой цепочке из мелких звеньев. От внезапной догадки князь замотал головой, опасаясь посмотреть в глаза умирающей невесты.
Боялся увидеть в них неотвратимость.
Прикосновение скользнувшего в руку крестика укололо холодом. Бледные потрескавшиеся губы разомкнулись, чтобы в последний раз напрячь голосовые связки:
– Не упади.
Она умоляла, она надеялась, она взывала к сердцу и разуму.
Он слышал благословение, он видел просьбу, он вновь повторял клятву.
Что было после – Борис Петрович не помнил. Все заткала безликая дымка потери и скорби, стирая даже не дни – недели. Где-то в них остались похороны, опустевшее Бежецкое поместье, какие-то станционные дома, и дороги, дороги, дороги. Окончившиеся деревянным крестом на низком свежем холмике. Ярким раздражающим пятном желтели цветы канны, не менее ярко и раздражающе и совсем не по-осеннему светило солнце, словно насмехаясь. Вырезанные на дереве буквы – безликие. Могила – такая же как и десятки, сотни, тысячи на приходских кладбищах.
Вера не была одной из многих. Она была единственной достойной.
Он не сумел подарить ей дворец, не сумел надеть на её голову царского венца, и последним её пристанищем стал не Петропавловский собор – воздвигнутая спустя несколько месяцев круглая часовня. Но её последние слова продолжат звучать в его голове, не стихая ни на минуту, и он будет взбираться выше и выше, не позволяя себе упасть обратно к тем, кто ничего не имел.
Ради нее, ради её памяти, ради её мечтательной улыбки и блеска карих глаз, он совершит то, что не успел при её жизни.
Получит трон.
***
Российская Империя, Семёновское, год 1864, май, 16.
Дмитрий еще на пару дней задержался в Бежецком уезде, попросившись на постой в один из крестьянских домов, что расположились недалеко от поместья. Вокруг оного разместились жандармы, сменяющие друг друга на посту, но даже эта слежка не принесла никакого результата – усадьбу никто не посещал. Беседа с местными тоже ничего не дала: в дворянском гнезде уже шесть лет как никто не видел жизни, и последние недели не были исключением. Даже если князь Трубецкой и останавливался здесь (на что явно намекали зажженные свечи и цветы, вряд ли принадлежавшие кому-то другому), он делал это крайне осторожно, ничем не выдавая своего присутствия.
Пятнадцатого числа было решено выдвигаться в Царское Село, дабы сообщить цесаревичу о ходе дела и получить дальнейшие распоряжения. Впрочем, тот тоже не имел ни малейшего понятия, какой шаг предпринять следующим: все зашло в тупик. Анна Ростопчина, принявшая роль кухарки в доме старого князя зимой, тоже не сумела припомнить ничьих визитов, кроме баронессы Аракчеевой – если с кем князь Трубецкой и виделся, то делал это за пределами своей петербургской квартиры. Он был умен, это сомнений не вызывало. Но от ошибки не может уберечься никто, поэтому должна быть хоть какая-то деталь, что позволила бы выудить новую ниточку из плотно сбитого клубка.
Прокручивая в пальцах который раз медальон и крестик, собранные на одну цепочку, Дмитрий усиленно размышлял, казалось, изучив эту вещицу уже вплоть до короткой царапины у замочка. Шероховатое серебро, нагревшееся от тепла рук, не давало ни единой подсказки – только позволяло понять, сколь дорого было его владельцу: давно утратившее новизну, оно наверняка постоянно хранилось у сердца.
Тишина, царившая в поместье, дала понять, что графине стало значительно лучше, раз она отправилась в гости – больше причин для отсутствия у нее в такой день не было. Глава семьи же либо сопровождал супругу, что маловероятно, либо вновь выполнял распоряжение государя: Шувалов-старший уже более четырех лет обещал семье оставить службу, каждое новое поручение называл «последним», но на него находилось еще одно, и еще, и так до дурной бесконечности. Порой Дмитрию казалось, что он пошел по стопам отца и тоже до самого последнего вздоха в первую очередь будет слугой Отечества. Младшие пока не подавали таких надежд, совершенно не интересуясь ни офицерскими чинами, ни высоким положением, и отчего-то Дмитрий испытывал надежду, что и не заинтересуются.
Задумчиво толкнув дверь гостиной, со стороны которой лились тихие звуки незнакомого романса, который, по всей видимости, разучивала Эллен, Дмитрий обнаружил там помимо сестры, не сразу заметившей его появление, и невесту. Та, завернувшись в вязаную шаль, что-то увлеченно читала – по крайней мере, его шаги, пусть и значительно заглушаемые музыкой, льющейся из-под пальцев Эллен, остались пропущенными мимо ушей. Только когда Дмитрий, стараясь ступать как можно аккуратнее, подошел к невесте со спины и быстрым движением забрал из её рук толстую книгу, она вздрогнула и, ахнув, подняла голову.
На лице её испуг быстро сменился легкой полуулыбкой. Склонившийся Дмитрий оставил почти невесомый поцелуй на бледной щеке и, обойдя диванчик, присел рядом; взгляд его упал на книгу, что он все еще держал в руках.
– Madame Bovary? Общение с моей сестрой бесследно не проходит – ты начала читать французские романы, – весело констатировал он, возвращая томик невесте. Та пожала плечами, но ответить ничего не успела: Эллен, заметившая возвращение брата и расслышавшая его шутливое обвинение в свой адрес, не смогла смолчать:
– Главное, чтобы на Кати не сказалось общение с тобой, – на миг оторвавшись от идеально отполированных клавиш, она бросила насмешливый взгляд на брата. – И это далеко не худший образчик французского романа.
– Ни минуты не сомневался, что тебя история умершей от тоски в провинции барышни затронет, – парировал Дмитрий, – иначе бы батюшка тебе жениха по всей Европе не искал.
Эллен театрально закатила глаза, возвращаясь к инструменту; как-либо комментировать это заявление не было нужды – она не отрицала его правдивости. Как, впрочем, не отождествляла себя и с Эммой, но находила немало общего в их натурах. Но куда больше значимого в размышлениях о возможной тоске, преследующей барышню в браке, она сейчас видела для подруги: маленький томик на французском оказался у той совсем не случайно. Хоть и сомневалась она, что рациональная и порой излишне сдерживающая сердечные порывы Кати разделит мысли, изложенные г-ном Флобером.
Катерина, искренне надеясь, что её обсуждение книги не затронет – слишком уж острой оказалась тема, поднятая в романе – тут же поспешила отвлечь внимание жениха:
– Как прошел твой визит в Бежецк?
Дмитрий помрачнел: не настолько, чтобы задумываться, был ли данный вопрос уместен сейчас, но настолько, чтобы увидеть этот контраст между выражением его лица минутой назад, когда он подшучивал над сестрой, и сейчас.
– Увы – мы лишь потеряли несколько дней. Возможно, князь был в имении, но к моменту нашего прибытия уже оставил его.
– Ни единой зацепки? – нахмурившись, уточнила Катерина.
Дмитрий покачал головой, коротко пересказывая результаты осмотра комнат, но отчего-то умалчивая о подвергнутом сожжении неизвестном. Чуть более развернуто он обрисовал картину часовни, в двух словах упомянув ту, кому она принадлежала, и выудил из-за пазухи найденную цепочку и протягивая её невесте. Та задумчиво раскрыла маленькие створки и пристально всмотрелась в женский портрет, занявший левую половину.
– Никогда не слышала о матримониальных планах князя, – протянула она, не сводя глаз с медальона. – Хотя, пятьдесят седьмой… – Катерина прикусила щеку изнутри, усиленно пытаясь вспомнить, – родители были в Карлсруэ. Папенька решил вернуться в Россию только в шестидесятом. Даже если маменька знала – они обменивались письмами – она не говорила нам. Однако это лицо, – она мучительно вглядывалась в творение неизвестного художника, – мне кажется, я видела его когда-то.
– К чему теперь это? – Дмитрий осторожно забрал из тонких пальцев невесты медальон, убирая его обратно, и устало прислонился плечом к низкой спинке диванчика. – Не думаю, что сейчас покойная невеста князя Трубецкого может иметь какое-то значение. Она была лишь причиной помощи со стороны баронессы Аракчеевой, но в этом направлении искать уже бессмысленно.
– Полагаешь, она не сыграла никакой роли в этой истории?
– Никакой значимой для нас сегодня, – покачал головой Дмитрий, прикрывая глаза.
Катерина, из головы которой все не выходил образ несостоявшейся родственницы, отложила раскрытую книгу, намереваясь подняться на ноги, и замерла, подавшись вперед: пара коротких строк привлекла её внимание, заставляя задержать дыхание.
«Она купила себе план Парижа и кончиком пальца блуждала по столице. Скиталась по бульварам, останавливалась на каждом углу, на перекрёстках улиц, перед белыми квадратиками домов».
Париж! Точнее, не Париж – Петербург.
Резко обернувшись к жениху, на чье лицо снизошло умиротворение, она выдохнула:
– У князя был её портрет. Он висел в его петербургской квартире очень долго, пока мы с братом однажды не испортили холст, упражняясь в фехтовании. Нас тогда на целую неделю без сладкого оставили. После портрет был отдан на реставрацию, а нам строжайше запретили к нему приближаться. Но спустя год он был продан. Мы еще удивлялись – сначала такое наказание, нам казалось, дядюшка дорожил портретом. А потом внезапная продажа.
Дмитрий помассировал переносицу, раздумывая над сказанным: не то чтобы это вообще хоть немного прояснило ситуацию, да и вряд ли могло дать намек на местонахождение князя. Но даже за саму попытку невесты как-то помочь делу он был благодарен.
– Возможно, он просто захотел избавиться от тяжелых воспоминаний. Даже если он любил Веру, что в моей голове не увязывается с личностью князя Трубецкого, он мог желать быстрее покончить с этим. Никогда не знаешь, что творится в чужой душе.
Эллен, по всей видимости уставшая музицировать, осторожно выскользнула из гостиной: ей явно были абсолютно неинтересны эти странные разговоры – о происходящем она не была осведомлена, поскольку ничем бы не могла помочь.
Заметивший уход сестры, Дмитрий вспомнил о том, что его сейчас интересовало не меньше государственных дел, а то и в некотором роде значительно больше. Бережно обняв ладонями тонкую кисть и, не сводя глаз с Катерины, коснувшись губами отшлифованных граней изумруда, венчавшего помолвочное кольцо, он задал вопрос, что мучил его уже долгие месяцы, а в последние дни стал особенно болезненным:
– Ты все ещё желаешь связать свою жизнь со мной?
Катерина опустила глаза, не зная, что должна ответить. Она надеялась, что несколько дней вдали от Петербурга, в семье жениха, помогут ей успокоиться и вернуть привычное равновесие. Понять, чего желает сердце и просит душа. Но легче не стало и определенность не пришла. Она все так же боялась заговорить об этом.
Решение о браке принималось их отцами, но основывалось на чувствах. Искренних, чистых, светлых. На тех, что как-то зародились еще в раннем детстве, сначала будучи простой дружеской привязанностью, потом став чем-то большим, похожим на кровную связь, а после как-то незаметно превратившись в романтическое влечение, полное нежности и тепла, уверенности и желания заботиться, готовности провести всю жизнь вместе и не представляя этой жизни друг без друга. Этот флер охватил обоих, витая над их головами подобно мерцающей дымке рождественского чуда, и оттого свадьба была столь долгожданна, взлелеяна в мечтах. Но только после обручения постепенно начала формироваться одна важная и в некотором роде страшная мысль: брак – это не только улыбка родного человека рядом и детский смех в их собственном поместье.
Это ответственность.
Юной девятилетней девочкой Катерина представляла себе собственную свадьбу: пышное платье с множеством кружев, душистые цветы флердоранжа в волосах, прозрачная длинная фата до самых пят, роскошные украшения, множество гостей, обязательно бал, который соберет весь свет и станет обсуждаться больше года в столице. И, конечно, он – самый любимый, самый дорогой, самый важный; во фраке, белоснежной рубашке, стоящий рядом с ней, держащий свечу и перед батюшкой произносящий клятву вечной верности. Смотрящий на нее с нежностью и теплом.
Это был момент, который в каждой сказке, коими она зачитывалась, являлся кульминацией. Какой-то гранью, после которой герои обязательно обретали мир и согласие, проводили каждый день в беззаботности и неге.
Это был момент, которого она, как и многие девочки её возраста и воспитания, ожидала с придыханием и блаженной улыбкой на устах, отходя ко сну.
Когда цветастые домашние платья сменились форменным голубым, а после и белым, детское очарование браком начало таять. Смольный не только готовил девочек к службе при Дворе, но и раскрывал им роль матери и жены с той стороны, с которой не раскрывала ни одна сказка. Хотя, когда Катерина давала согласие Дмитрию перед папенькой, она все еще не до конца понимала, что это значит – быть повенчанной с кем-то. Что значит принять новый статус, и как меняется жизнь замужней барышни.
– Прежде чем я дам ответ, – голос её звучал хрипло, с затаенной грустью, – мне бы хотелось кое-что узнать.
Обернувшись к Дмитрию, на лице которого была написана решимость покаяться и раскрыть любые тайны, она вновь захлебнулась болезненным осознанием своей недостойности. Перед его благородством, необъятным чувством долга и чести, она казалась себе запятнанной грехом. Не делом – мыслью.
– Скажи, – слова давались ей тяжело, но без этого разговора она не сможет ничего понять не для себя, – если после нашей свадьбы перед тобой встанет выбор между семьёй и отечеством, к чему ты склонишься?
Она боялась снова испытать то же, что пережила не так давно. Боялась, что то же могут испытать их дети. Боялась, но не укорила бы Дмитрия в том. Как не могла помыслить и об отречении Николая – долг перед короной всегда будет выше сердца. Вот только и жить, ожидая этого выбора,.. смогла бы?
Смотря в безмолвное лицо жениха, понимала – этот вопрос для него не легче, чем его собственный для неё.
Горькая усмешка скривила её губы, но пропала почти тут же. Ей бы хотелось просто отложить этот разговор – они оба были не готовы дать честные ответы без раздумий. Но казалось неправильным еще сильнее заставлять ждать того, кто и так ждал её слишком долго. И, возможно, мог бы прождать всю жизнь.
Только, наверное, ей и целой вечности было бы мало для принятия решения: порой её разум становился слишком неуверенным.
Но и заговорить откровенно оказалось тяжело.
– Когда ты просил меня стать твоей женой перед моей семьей, я не могла дать определение охватившим меня чувствам: их было слишком много, – медленно начала она, отводя взгляд.
На лице Дмитрия проскользнула призрачная улыбка: он помнил тот день так, словно бы все произошло вчера – широко раскрытые глаза Кати, внезапно появившийся на её обескураженном лице румянец, выступившие слезы, задрожавшие губы, сбивчивые слова, даже не складывавшиеся во фразы. И её «да, конечно же да», повторяемое несколько раз, тихий смех и тонкие руки, обвившиеся вокруг его шеи. Он помнил все и хранил это воспоминание как одно из самых сокровенных. Там же, где и прочие дорогие сердцу минуты, связанные с ней.
– …Но я дала тебе ответ абсолютно искренне, – меж тем продолжала она, невольно прокручивая кольцо на пальце. – Нам довелось испытать истинное чудо – помолвка, совершенная по сговору, не претила сердцу. В моих мечтах с самых юных лет не было иного суженого, кроме тебя.
– Ты говоришь так, словно всё осталось в прошлом, – заметил Дмитрий, внимательно вглядываясь в родные черты и стараясь по ним хоть как-то угадать то, к чему приведет это откровение.
Катерина задержала дыхание, но спустя несколько секунд прервала внезапное молчание:
– Не всё. В тех детских мечтах не переменилось ничего, но они стали зыбким сном, который не выдерживает лучей рассвета. Он живет в сердце, но не может претвориться в реальность, – каждая новая пауза – попытка найти правильные слова; глаза все так же готовы изучать что угодно, но не лицо жениха, напряженно ждущего ответа. – Мы выросли, и свадьба теперь – не просто итог красивой сказки. Она – её завершение. А то, что после нее – навсегда.
Сглотнув, она наконец обернулась, и Дмитрий ощутил оцепенение, столкнувшись с чем-то безжизненным в её глазах. Такими пустыми они не были даже в момент, когда они встретились в кабинете цесаревича. В них не читалось ни-че-го.
– Мне страшно.
Два коротких, упавших ртутными каплями на кожу слова, дались ей сложнее всего, что было сказано до них. Признание, которое породило недолгое, но растянувшееся в мучительную бесконечность, молчание, где каждый вдох – отвоеванный с кровопролитным боем.
– Кати… – его собственный голос звучал настолько неестественно тихо для него самого, что Дмитрий прервался на полуслове, а договорить уже не смог – после внезапного откровения Катерина, казалось, захлебнулась мыслями, наконец сформировавшимися и готовыми друг за другом соскальзывать с губ. И то, что он услышал, обратило его в камень:
– Мне страшно, – повторила она, – однажды понять, что я – причина твоей несчастливой жизни. Что наше поспешное решение, подпитанное флером первого романтического чувства, стало твоим крестом. Что если бы мы не принесли друг другу клятвы однажды, ты бы встретил женщину, которая достойна тебя. Мне страшно однажды понять, что все мои опасения сбылись, и я не сумела стать тебе женой, которую ты заслужил.
Она действительно захлебнулась: не торопливо срывающимися словами, окончания которых глотала – слезами, комом стоявшими в горле и заставлявшими блестеть глаза. Прижала ладонь к губам и спешно отвернулась, желая не показывать своего лица – она плакала так редко, что каждый из этих моментов казался позорной слабостью. Будто она какая нежная барышня из французского романа, что только и умеет слезы лить да картинно страдать перед воздыхателем.
А ей менее всего хотелось бы искать утешения: в хаосе, что заполнил голову, была виновата лишь она одна.
– Кати!.. – все так же тихо, но уже уверенно и в какой-то мере с налетом ужаса, окликнул её Дмитрий, тут же ловя её свободную руку за запястье и настойчивым жестом заставляя не отстраняться еще сильнее. – Откуда в тебе все эти мысли? Почему ты полагаешь, что ты можешь сделать мою жизнь несчастной? Что за вздор?! – он тряхнул головой, скользнув ладонью вниз и переплетая их пальцы вместе. – Это мне стоит бояться, что ты однажды поймешь, какую ошибку совершила, став моей женой. Это мне стоит каждое утро благодарить Бога за то, что ты все еще со мной. Это мне стоит надеяться, что ты ни разу не задумаешься о том, что могла бы иметь лучшую жизнь.
Крепче сжав узкую кисть в своей руке, он твердо произнес:
– Мои чувства к тебе неизменны. И я не могу помыслить иного счастья, кроме как назвать тебя своей женой перед Богом.
Придушенно всхлипнув, Катерина стремительно обернулась и, все еще отводя взгляд, сократила то незначительное расстояние, что оставалось между ними, прислоняясь виском к плечу жениха и ощущая, как теплая ладонь, словно маленькую, успокаивающе поглаживает её по спине.
Она бы хотела просить его забыть о ней. Но язык ей не повиновался, а разум уверял: это единственное спасение.
***
Российская Империя, Царское Село, год 1864, май, 19.
Вернуться ко Двору было в некотором роде сложно: и даже отнюдь не потому, что Катерина надеялась избегать встреч с цесаревичем, но из-за её своевольного отъезда. То, что на оный она испросила разрешения у государыни, ничего не значило – ей начинало казаться, что она слишком уж злоупотребляет монаршей милостью, пусть и прочие фрейлины зачастую о своих обязанностях в целом не вспоминали, воспринимая шифр лишь как доступ к красивой жизни и веселью на высочайшем уровне. Ей, преисполненной благодарности и благоговения перед Императрицей, было невозможно принять такое поведение.
В молитве пообещавшись более не покидать Двор, если того не потребует сама государыня – и не считая нескольких недель на подготовку к свадьбе, Катерина еще раз проверила опрятность своего вида, прежде чем чинно выйти из комнатки, отведенной им с Сашенькой в Камероновой галерее. Четырнадцать ступеней, широкий пролет и еще восемнадцать – короткий путь с вершины; песчаная дорожка и большое озеро по левую руку – к поляне, на которой Императрица приказала обустроить сегодня все для утреннего чаепития.
Погода стояла благостная, грех было находиться в душных стенах дворца.
Невольно вспоминались редкие прогулки в садике-партере, куда наставницы выводили юных смолянок: этих часов каждый раз ждали с нетерпением – часов освобождения от долгих и утомительных занятий, от холодных стен института. Несмотря на то, что и здесь за воспитанницами велось наблюдение, оно было не столь пристальным, как в классах, и в некоторой мере девочки ощущали ласковые прикосновения иллюзорной свободы, будучи предоставленными самим себе. Порой же Мария Павловна (Леонтьева, начальница института, прим.авт.) была столь добра, что дозволяла прогулки в Летнем саду, где однажды смолянкам довелось даже лично здороваться с совершающим променад Великим князем Константином Николаевичем.
Вопреки всему, время, проведенное в Смольном, пусть и короткое – ввиду некоторых обстоятельств кофейное и темно-синее платья носить ей не довелось – оставило в сердце теплые воспоминания.
– Катрин?
Из легких выбило весь воздух: стоило ей услышать собственное имя, произнесенное на французский манер, она резко пожелала исчезнуть. Зыбкое равновесие и легкость, царившие с вечера, когда карета Шуваловых остановилась у искусно выкованных ворот, увенчанных двуглавым орлом, разлетелись клочьями.
Видит Бог, она желала, чтобы эта встреча состоялась как можно позднее. Или хотя бы не до её визита к государыне.
– Ваше Высочество, – развернувшись и мягко присев в книксене, она подарила вежливо-равнодушный взгляд цесаревичу.
Тот нахмурился: почему-то эта отстраненно-лживая реакция ему напоминала их встречу весной, и это совсем не могло радовать.
– Если после каждой разлуки мы с Вами будем приветствовать друг друга словно чужие, мне придется найти способ находиться рядом с Вами ежесекундно, – сообщил он с отчего-то не кажущейся шуткой угрозой. – Вы все еще в обиде на меня за тайну гибели графа Шувалова?
– Я не имею права держать на Вас обиды, Ваше Высочество, – отозвалась Катерина, замечая, как на лице Николая мимолетно отражается слабое раздражение: ему явно был не по вкусу её ответ. Слишком придворный.
– Вы к Императрице? – скрывая свое неудовольствие, ровно осведомился цесаревич. Получив безмолвное подтверждение, жестом предложил сопроводить, тут же коротко поясняя, что намеревался присоединиться к матери за чаем, а не искал повода дольше пробыть рядом. И, к тихой внутренней радости Катерины, до самого окончания недолгого пути попыток вновь заговорить с ней не предпринимал.
За круглым столиком с причудливым античным узором на лакированной поверхности, уже сидела Мария Александровна, перебирающая какие-то конверты. Компанию ей составляла Ольга Смирнова, медленно и с чувством читающая вслух что-то на французском – так, сходу, не вслушиваясь, определить было сложно, но мелодичный голос фрейлины приносил наслаждение, даже если звучал на абсолютно незнакомом языке. Великая княжна Мария, по всей видимости присутствующая здесь не ради чая, увлеченно играла с фрейлиной Бобринской в серсо: девочка показывала великолепную ловкость и быстроту реакции – в обеих руках её было по длинной деревянной палке, и маленькие обручи попадали точно на них почти одновременно. Анна Тютчева, по обыкновению находящаяся подле государыни, отчего-то отсутствовала. И, если судить по количеству чашечек, не намеревалась появиться.
Приближение Катерины, на удивление, было замечено еще до того, как она оказалась в нескольких шагах от Императрицы – хотя, возможно, тому виной был цесаревич. Мария Александровна, оставившая письма, светло улыбнулась, принимая приветственный поцелуй сына и переводя теплый взгляд на фрейлину:
– Рада вновь видеть Вас, Катрин.
– Благодарю Вас, Ваше Величество, – склоняясь на мгновение, чтобы тут же выпрямиться и ответить на улыбку такой же искренней улыбкой. А через секунду с той же эмоцией, но уже больше вынужденной, принять жест вежливости со стороны Николая, предложившего ей занять место за столиком.
– Я надеюсь, Ваше путешествие было удачным?
– Нет поводов для волнения, Ваше Величество, – Катерина на миг отвела взгляд, подхватывая щипчиками сахар и опуская его в горячий чай, чтобы этим секундным действом облегчить себе ответ. – Все вопросы положительно улажены.
– Прекрасные новости, – одобрительно кивнула Мария Александровна, снимая пузатую чашечку с блюдца. – Вы уже назначили дату венчания?
Рука, держащая позолоченную ложечку, размеренно перемешивающую сахар, даже не дрогнула, хотя внутри что-то сжалось: этот разговор должен был состояться, и именно сейчас, но некоторая доля неуверенности все еще оставалась. Просто потому, что она до сих пор не могла поверить в повторно озвученное согласие. Хоть и не было у нее иных вариантов: она бы не отказала Дмитрию – просила бы повременить, но не сказала б неумолимого «нет».
Но прежде чем Катерина успела дать ответ Императрице, в их диалоге появилась третья сторона:
– Вы выходите замуж? – слова камнями ударили в грудь.
– Да, Ваше Высочество. Дмитрий не переменил своего решения.
А сама она бесконечно путалась в своих решениях, нарушая их из раза в раз. Новое казалось непоколебимым ровно до момента, когда слуха коснулась французская речь.
Уголок губ цесаревича мимолетно искривился, что не могло укрыться от Катерины, бросившей на него короткий взгляд, прежде чем вернуть внимание Марии Александровне, не заметившей этой быстро пропавшей эмоции на лице сына, сидящего по левую руку от нее.
– Сначала нам нужно удостовериться, что Ирина уже замужем, – с тихим вздохом пояснила Катерина, бессознательно продолжая перемешивать уже растворившийся сахар. – После можно будет говорить о точной дате, но Елизавета Христофоровна желала бы, чтобы свадьба случилась после Успенского поста.
Она надеялась, что удастся отложить торжество до дня Иверской иконы, но даже так у них оставалось достаточно времени: весь Петровский пост, а после и длительный Успенский – считать, целое лето. И благо, что Елизавета Христофоровна с трепетом относилась к традициям, настаивая на праздновании после Покрова, как это было заведено еще на Руси. Хоть и Катерина понимала, что ей хоть месяц, хоть год, вряд ли что изменится в мыслях, но без оглядки бросаться в омут семейной жизни казалось не меньшей глупостью, нежели оттягивать до последнего. Потому, дата, которая будет обговорена после получения письма от маменьки, должна будет стать единственной точной и не потерпит больше перемен.
– Однако Успенский пост окончится за четыре дня до осени – у Вас не так много времени, – задумчиво произнесла Императрица, ненадолго отвлекаясь, дабы отчитать дочь, подбежавшую к столику и вознамерившуюся стянуть из вазочки печеньице, вместо того, чтобы присоединиться к чаепитию. – Вы думаете венчаться в своем приходе? Возможно, удалось бы договориться о церемонии в дворцовой церкви.
– Я признательна Вам за Вашу милость, но не думаю, что в том есть надобность, Ваше Величество, – чай постепенно остывал, а Катерина словно вовсе о нем забыла. – Мы бы не хотели слишком пышной церемонии. Я бы многое отдала, чтобы маменька в этот день оказалась рядом, а остальное… – она повела плечом, – пустое.
На лицо Марии Александровны набежала тень: она бы желала помочь своей фрейлине, но была абсолютно бессильна перед супругом – в конце концов, его решение не было беспочвенным. Вернуть из ссылки опальную фамилию она не могла: скорее бы удалось отпустить саму Катерину в Карлсруэ, но встал бы вопрос поиска православного священника, дабы совершить духовное таинство там.
– Что же Ваше платье? Вы уже виделись с портнихой? – сменила тему государыня, отвлекаясь от тяжелых мыслей: эта беседа была не только её надеждой как матери косвенно напомнить сыну о его скором путешествии и обручении, и не только интересом Императрицы к судьбе своей фрейлины – она на могла не вспомнить себя, шестнадцатилетнюю, полную надежд и мечтаний, всего как несколько месяцев принявшую православие и готовящуюся связать свою судьбу с тем, кого полюбила еще с первой встречи. Которой не должно было состояться, если бы не неожиданно сменившиеся планы Наследника Престола, но судьбоносной. Только очень хотелось, чтобы жизнь этой девочки, похожей и одновременно совершенно другой – более взрослой, менее влюбленной – сложилась лучше.