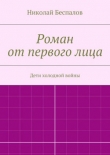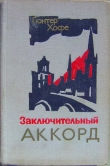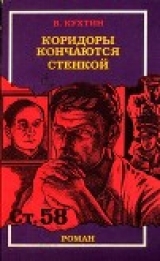
Текст книги "Коридоры кончаются стенкой"
Автор книги: Валентин Кухтин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 55 страниц)
– Ты, вероятно, слышала о трагической гибели сестры-хозяйки с «Бочарова ручья»?
– Да, разговоров вокруг этого много. Убийцу поймали?
– Поймали – не поймали, какая разница, – уклончиво ответил Малкин. – Главное – погибла женщина в расцвете лет. Прекрасная работница… А возмездие… оно придет. Но это я так, в порядке сочувствия, так сказать. Образовалась вакансия. «Бочаров ручей» – дача правительственная, объект, особо важный, поэтому кадры туда подбираем мы.
– Это сложный процесс?
– Очень сложный. И ответственность… Это не какой-то задрипанный санаторишко РККА, где сбрасывают жирок офицеришки, разъевшиеся на солдатских харчах. Это дача товарища Ворошилова, поэтому в обслуге ее могут работать лишь наши люди.
– Другими словами, Иван Павлович, вы предлагаете моей скромной персоне занять вакантную должность?
Малкин рассмеялся.
– Молодец, Оксана! С тобой не соскучишься. Да. Мне рекомендовали тебя и, скажу откровенно, я очарован. Мне нравятся твои искренность, проницательность, четкость мышления и… вся ты, как женщина… невероятно нравишься. Беседуем полчаса, а такое ощущение, будто знаю тебя всю жизнь.
– Родство душ? – лукаво предположила Оксана.
– Да, да, вероятно, – у Малкина кружилась голова. – Так ты согласна?
Оксана посмотрела на него затуманенным взором и утвердительно кивнула головой так, будто речь шла не о работе, а о чем-то ином, глубоко интимном.
– Одна деталь, – рука Малкина жарко легла на обнаженное колено Оксаны, – у тебя будут четкие функциональные обязанности, но кое-что ты будешь делать сверх того. – Оксана разрумянилась и часто задышала открытым ртом. – Периодически будешь докладывать мне обо всем, что доведется увидеть или услышать даже от самого Ворошилова, – Малкин уже не слышал себя. – Текущий момент требует.
– Иван Павлович! – Оксана схватила руку Малкина, дрожавшую на ее колене, и крепко стиснула, вздрогнув всем телом. – Иван Павлович, – прошептала она, качнув головкой, – я не против текущего момента и… вообще я не против…
…Расставаясь, они загадочно улыбались, довольные друг другом так, словно никогда в жизни не испытывали радости выше этой. Как только за Оксаной закрылась дверь, на Малкина вдруг навалилась усталость. В руках и ногах появилась дрожь, которую невозможно было унять, сердце заныло, в висках забухало, подкатила тошнота. Он достал из тумбочки флакон с нашатырем, вдохнул неистово, обжигая слизистую, и, вздрагивая от резких ударов в затылке, растер виски и прилег на диван. Захотелось спать и он непроизвольно закрыл глаза.
С трудом поднял отяжелевшие веки и сквозь сумрак увидел склоненное над ним лицо Оксаны.
– Мне душно, – пожаловался он слезливо, облизывая пересохшие губы. – Нечем дышать.
– Поднимайся, я отведу тебя к себе. У меня тебе будет хорошо.
– Так нельзя. Вокруг люди.
– Уже полночь, нас никто не увидит.
– В груди горит, словно залили свинцом.
– Пойдем и тебе станет лучше.
Малкин неуверенно, поднимается, Оксана помогает ему и увлекает за собой. Он идет, тяжело переставляя ноги, превозмогая боль в груди и спине. Где-то на задворках сознания блуждает сомнение, правильно ли он поступает, может, лучше полежать, не двигаясь, но в следующее мгновение мысли путаются и рвутся. Он силится понять, что с ним происходит, и не может: в голове пустота и боль.
– Оксана! Я не могу больше идти! Остановись!
Оксана оборачивается к нему и вдруг, как в кино, сменяется кадр и он видит себя в грязном загородном кабаке. Ор пьяных сотрапезников; похотливо-призывные взгляды затасканных особей; странное желание близости… Опутанный паутиной душный чулан с прелым тряпьем и немытыми бочками; податливое тело Оксаны и вместо пронзительной сладкой истомы – отторжение, брезгливость и подкатывающая к горлу тошнота. Кругом идет голова. Сердце немеет и нечем дышать. Хотя бы один глоток стекающей с гор прохлады. Все. Надо бежать, бежать немедленно, потом будет поздно. Откуда-то взялись силы. Ударом ноги он срывает с петель полуистлевшую дверь чулана, вбегает в зал, где на полу, за столом, на скамейках в самых непотребных позах застыли сотрапезники, и через раскрытое настежь окно выбрасывается наружу. На четвереньках пробирается через заросли чертополоха и, ощутив под ладонями мягкость росной травы, останавливается, ложится на спину и расслабляется. Боль проходит, он успокаивается и закрывает глаза. «Бред какой-то, – думает он, – чертовщина. Надо идти». По овражному устью, скользя и падая, спускается к морю. Стоя на мокрой гальке, пытается вспомнить, зачем он здесь, на этом незнакомом берегу в столь неурочный час. Хочется склониться к воде, зачерпнуть пригоршней, плеснуть в лицо. Что-то жесткое и холодное упирается в затылок. Он хочет взглянуть, что там сзади.
– Не оборачиваться, – командует некто крикливым фальцетом. – Руки на шею! Пальцы сомкнуть! Налево к скале – по-ошел!
Малкин повинуется командам и покорно идет в указанном направлении, обходя валуны, во множестве разбросанные в узком пляжном пространстве. Шуршит расползающаяся под ногами галька, пахнет водорослями и разложившимся моллюском. Подташнивает и снова кружится голова, но муть проходит и мысли возвращаются в строй.
– Стоять! Лицом ко мне!
Малкин не торопясь выполняет команду. Перед ним, выставив вперед руку с револьвером, стоит долговязый, узкогрудый мужичонка с крупной лобастой головой на тонкой морщинистой шее. Что-то давнее и очень знакомое угадывается в его остром вздрагивающем подбородке, тонких, словно распятых, бескровных губах, лишь наполовину прикрывающих желто-коричневый бурелом зубов.
– Не узнаешь? – на лице незнакомца застывает злобный оскал. – Не уз-на-ешь, – говорит он с сожалением и лицо его темнеет.
– Вспомнил! Вспомнил! – обрадовался Малкин. – Это сон! Это сон, и ты мне нисколько не страшен! И тебя я вспомнил: вон сколько на тебе особых примет! И моя метка есть! Я ж тебя, Совков, еще в двадцатом прикончил. Неужели забыл?
– Прикончил, – соглашается Совков. – Вот из этого револьвера пульнул в меня. Теперь настал мой черед.
– Дурак! Во сне не убивают!
– Но во сне, Малкин, умирают.
– А при чем здесь ты?
– При том, что я выстрелю и ты умрешь.
– Ты этого не сделаешь, Совков, не имеешь права, – сдрейфил Малкин. – Я тебя тогда по законам военного времени…
– А я тебя сейчас – по беззаконию тридцать седьмого.
– Не сможешь, – упирается Малкин. – Не сможешь потому, что тебя давно нет. Ты истлел… Змея! – кричит он, изображая на лице ужас, и тычет пальцем в скалу.
Совков резко поворачивается всем корпусом к скале и сразу оседает, сраженный мощным ударом по голове. Малкин брезгливо смотрит в покрытое испариной желтое щетинистое лицо Совкова, берет его за ноги и тащит к воде, но ненавистное тело вместе с истлевшей одеждой расползается, оставляя на гальке черные смердящие сгустки гнили. Снова подкатывает тошнота и Малкин бежит прочь, взмахивая руками, как крыльями…
Сменяется кадр, и Малкин видит себя у подъезда добротного особняка дачи НКВД № 4. Где-то здесь, наверху или внизу, – он не помнит – его квартира. Он устремляется в подъезд, к лестнице, но кто-то Невидимый хватает его за туловище и тащит обратно. Малкин яростно сопротивляется, судорожно цепляется за перила лестницы, но немеющие руки скользят и срываются. Малкин снова тянется к перилам и в ужасе останавливается: лестница медленно и беззвучно исчезает в черном провале. Оттуда пышет жаром, который обжигает легкие, и он задыхается. Та же невидимая сила толкает его вперед, в провал. Выбросив руки с растопыренными пальцами, Малкин упирается во что-то зыбкое и силится крикнуть, позвать на помощь, но голоса нет, только жалкие всхлипы. «Все, конец», – мелькнула мысль и в этот миг раздался треск, стены особняка содрогнулись, и справа от себя Малкин увидел пролом, ведущий в длинный коридор с тихим мерцающим светом. Он прыгает в него, рассчитывая на спасение, но свет гаснет, пролом исчезает, стены сдвигаются, и он снова начинает задыхаться. «Проснись! – приказывает он себе. – Проснись, или ты умрешь!» Страх смерти заставляет его открыть глаза… В кабинете светло и уютно. Он лежит на диване, на том самом, на котором сидел с Оксаной… Тишина и лишь рядом чье-то тяжелое дыхание. Малкин поворачивает голову – никого. Догадывается: это его дыхание. Он осторожно спустил ноги на пол, посидел, разминая пальцами грудь, затем, пошатываясь, пошел к столу, достал из тумбочки бутылку минеральной воды, откупорил и жадно выпил. Остатками смочил полотенце, помассировал им лицо, шею, виски…
Случилось, видно, не самое страшное, но сигнал слишком острый, чтобы им пренебречь. Он давно ощущал тяжесть в сердце и затяжные приступы головной боли, но отмахивался, думал – пройдет. Не прошло. Наоборот, усугубилось. Надо срочно менять образ жизни. Меньше пить, спать – сколько положено, избегать перегрузок. Взять, в конце концов, отпуск, съездить к родным на Рязанщину, к тихой безвестной речушке, где научился плавать, да заплыл, видно, слишком далеко. Впрочем… отпуск сейчас не дадут: впереди особый курортный период, для кого-то «бархатный сезон», и осточертевшие массовые операции по изъятию чуждых советской власти людей. Попробуй заикнись об отпуске – сочтут за дезертира и поминай тогда, как звали».
16
Массовые аресты, или, выражаясь официальным языком, – массовые операции, которые всегда, а сейчас особенно, заботили Малкина, были для личного состава городского отдела НКВД делом привычным и проведение их особого труда не составляло. Списки лиц, подлежащих аресту, готовились заранее, уточнялись и пополнялись походя. С УНКВД согласовывались формально, нередко после того, когда аресты уже были произведены. Главное было не кого арестовать, а сколько арестовать, поэтому конкретная фамилия значения не имела. Включались в эти списки все, против кого имелись хоть какие-то сведения о неблагонадежности. Поставлялись эти сведения из самых разных источников. Ими служили данные паспортных подразделений милиции – это для тех, кто подлежал аресту по национальным признакам, анонимные доносы, критические публикации в печати, приказы руководителей ведомств о наказании за различные производственные упущения, критические выступления стахановцев на собраниях и митингах, решения руководящих органов партийных организаций, данные органов госбезопасности других регионов страны, да мало ли откуда еще могла поступить информация о вражеских вылазках того или иного гражданина. Управляться с такой категорией арестованных было несложно: выпустил брак на производстве – вредитель; не выполнил в срок установленный объем работы – саботажник; рассказал острый анекдот, похвалил иностранную вещь, сострил по поводу «добровольно-принудительной» подписки на очередной государственный заем – провел антисоветскую пропаганду.
В начале года Малкин внедрил в деятельность отдела хорошо зарекомендовавший себя в Москве опыт альбомной системы арестов. Заключалась она в том, что жители города, в том числе и те, чье, время проживания в городе было ограничено, вписывались в специальный альбом, куда вносились сведения о их национальных, социальных и политических признаках. Получалось прекрасное подспорье при составлении списков на арест. Поступила, скажем, из НКВД команда провести операцию по грекам – в альбоме все они, как на ладони. Выбирай понравившиеся фамилии, включай в списки и действуй. Нужны бывшие белогвардейцы – пожалуйста, нужны бывшие кулаки – так вот они, голубчики, сколько угодно! Не важно, что бывшие и что в органах материалов об их преступной деятельности не имеется. Был бы человек, а статья для него в советском Уголовном кодексе найдется. Брали, как любил выражаться Николай Иванович Ежов, «на раскол». Следствие «нажимало» на арестованного и «выжимало» из него показания, которые потом ложились в основу обвинения, а следовательно, и приговора. Это в отношении тех, кому «счастливилось» пройти через суд. Судьбу большинства арестованных решали внесудебные органы – «двойки» и «тройки» – внебрачные детища ВКП(б) и НКВД. В день эти органы могли «пропустить» от семисот до девятисот человек.
Выжать нужные показания из арестованного не представляло труда. Достаточно было применить к нему меры физического воздействия. На этот счет имелось прямое указание наркома внутренних дел, согласованное с ЦК ВКП(б). «Следствие не должно вестись в лайковых перчатках», – поучал службу госбезопасности секретарь ЦК ВКП(б), он же председатель Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б), он же будущий народный комиссар внутренних дел Ежов, и рекомендовал не церемониться с подследственными.
В 1936 году, когда по настоянию Ежова, и, в соответствии с директивой НКВД СССР проводилась жесткая кампания по ликвидации так называемого троцкистско-зиновьевского контрреволюционного подполья, перед органами госбезопасности ставилась задача не только вскрытия контрреволюционных формирований, их организационных связей и изъятия актива, но и усиления репрессий против исключенных из партии в процессе чистки бывших троцкистов и зиновьевцев. Решить эти задачи законным путем, не прибегая к фальсификации и пыткам, без риска самому быть «пропущенным через мясорубку», было практически невозможно. Поэтому методы незаконного ведения следствия при поощрительном согласии Центра использовались широко и повсеместно. Начиная с 1937 года ЦК ВКП(б) «узаконил» применение мер физического воздействия к подследственным, установив, таким образом, беспредел органов госбезопасности и расчистив путь для массовых фабрикаций уголовных дел и осуждения невиновных.
Революционная законность, о которой так много говорили большевики, основанная на правосознании тех, кому власть имущие доверяли судилища, – это всегда беззаконие. Но когда над правосознанием низших слоев вершителей судеб довлеет еще и правосознание верхних, для которых репрессии – способ самовыражения, – правовая незащищенность от произвола каждого человека в отдельности становится полной.
Подразделения НКВД на местах быстро приспособились к «работе» с развязанными руками. Личный состав больше не утруждал себя кропотливой, творческой работой по выявлению и обезвреживанию действительно существующих враждебных группировок… Малкин видел, как разлагающе действовала на подчиненных легкость, с какой им удавалось выдавать «на гора» протоколы с признательными показаниями. Люди отвыкали думать, приобщались к лицемерию, бездушию и жестокости. Началась профессиональная деградация личного состава.
Что он мог противопоставить этому? Ничего, кроме казенных требований об «усилении, «активизации», «выкорчевывании», «ликвидации» и т. п. Морально он не был готов, чтобы ради истины отдать себя на заклание, он разлагался вместе со всеми и сам нередко крепко грешил против нее. Он был пловцом, способным плыть только, по течению, загребая то вправо, то влево, но только тогда, когда того требовала обстановка.
Общие планы массовых операций рождались в недрах народного комиссариата внутренних дел страны, а массовость их определялась в зависимости от потребностей ГУЛАГа. Он стоял во главе великих строек коммунизма, поставлял стране дешевые лес и уголь, поворачивал вспять реки, строил моря и каналы, разрушал дворцы, возводил мрачные бараки для строителей светлого будущего и обещал построить солнечные города для будущих поколений советских людей, походя опутывая шестую часть суши планеты Земля колючей проволокой и отделяя ее от мира «железным занавесом», чтобы никто не мешал строительству социализма в одной отдельно взятой стране. Страна поставляла ГУЛАГу бесплатную рабочую силу, набивая ею концлагеря, разбросанные по всей огромной территории, а он безжалостно перемалывал и пожирал эту силу и требовал: еще! еще! Разнарядки НКВД на «изъятие», пройдя ряд корректировок в промежуточных звеньях, лишь в самом низу приобретали осязаемый характер, воплощаясь в фамилии, списки, уголовные дела, решения внесудебных органов и эшелоны зэков, идущие нескончаемым потоком в места, обозначенные на карте ГУЛАГа. Наполнялись эти эшелоны бывшими офицерами царской армии, бывшими белогвардейцами, репатриантами и беглыми кулаками, попами и сектантами, троцкистами, национал-уклонистами, исключенцами, лишенцами, крестьянами, рабочими и прочими людишками, которых в годы гражданской междоусобицы швыряла судьба из огня да в полымя.
В 1937 году акции по изъятию чуждого элемента отличались от предыдущих тем, что проводились под ор всеобщего одобрения «исторических решений» февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б), давших мощный толчок новому витку невиданно массовых репрессий. Их повсеместному развертыванию предшествовала яростная мозговая атака истинных большевиков на доблестных строителей светлого будущего. Кинохроника, радио, пресса обрушивали на их неокрепшее сознание жуткую информацию о непрекращающихся фактах саботажа, шпионажа, умышленных взрывов и поджогов, отравлений, заражений, истреблений, покушений…
Огромной силы общественный резонанс вызвали аресты Бухарина и Рыкова, которые обвинялись в подготовке «дворцового переворота, поощрении и сокрытии террористических групп, готовивших покушения на товарищей Сталина, Молотова, Кагановича, Ворошилова, естественно – Ежова, в подготовке насильственного изменения государственного строя. Ужас охватывал «товарищей» от леденящей сердце информации и этот ужас заставлял их сбиваться в толпы и яриться, требуя смерти для тех, перед кем вчера еще преклонялись. Но сквозь вопли перепуганных соотечественников прорывался уверенный и непоколебимый голос отца народов, и всем вдруг становилось ясно, что не так страшен черт, как его малюют. «Нынешние вредители и диверсанты, каким бы флагом они ни маскировались, троцкистским или бухаринским, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движении «и превратились в беспринципную и безыдейную банду профессиональных вредителей, диверсантов, шпионов и убийц», – успокаивал вождь, а коль так, то по барину, как говорят, говядина, по говядине вилка: «Этих господ придется громить и корчевать беспощадно как врагов рабочего класса и как изменников нашей Родины», Гениально, просто и недвусмысленно: громить – это в самый раз для толпы. «Громить!» – подхватывает блудливая пресса; «Выкорчевать остатки еще не разоблаченных врагов народа!»; «Нанести их контрреволюционным замыслам сокрушительный удар, разгромить их осиные гнезда!» – заголовки ее передовиц.
«Громить!» – вторит Генеральному секретарю Председатель Совета Народных Комиссаров. Кого громить? В первую очередь неустойчивых коммунистов, исключенных из партии во время чистки ее рядов, потому что «их вчерашние колебания перешли уже в акты вредительства, диверсий и шпионажа по сговору с фашистами и в их угоду», – подводит идеологическую и правовую базу товарищ Молотов.
Чтобы врага разгромить, уничтожить, его надо как минимум выявить, разоблачить. Каким образом? Очень просто! Достаточно внять призыву товарища Ежова, позвонить ему по собственной инициативе по телефону и сказать: «Товарищ Ежов, что-то мне подозрителен такой-то человек, что-то там неблагополучно, займитесь этим человеком». И все. Сигнал будет принят, остальное – дело техники. Это на уровне наркомата. Что касается периферии, то там еще проще: можно даже вскользь упомянуть фамилию неприятного вам человека в критическом выступлении где угодно – ее услышат, запомнят, включат в списки. Остальное – как в Центре. Был бы, как любили говаривать опытные чекисты, человек, а дело пришьется. И были звонки, и были выступления, и шились дела. И были письма-доносы. Много, в инстанции разных уровней. Писали доброжелатели на соседей, родственников и друзей, а сами прислушивались по ночам к гулким шагам на лестничной клетке, к сумасшедшему лаю собак и скрипу калиток в соседских подворьях. «Не за мной ли? Кажется, нет. Слава богу – пронесло». А днем обессиленные от страха и бессонницы доброжелатели, в свободное от стахановской работы время шли на митинги, слушали звенящие ненавистью призывы партийных пропагандистов и агитаторов, ударников и беспартийных большевиков, озвучивавших чужие ядовитые мысли, и вместе с массой-толпой орали в исступлении, требуя смерти, смерти, смерти! И казалось, не было у строителей светлого будущего иных забот, кроме как разоблачать, выкорчевывать, уничтожать.
В клубах, кинотеатрах, избах-читальнях крутили свежую кинохронику. Шуршали кинопроекторы, прокручивая киноленты, сменялись на экранах говорящие черно-белые изображения, зрителям внушалось: враги вокруг нас! Мы окружены врагами! Будьте бдительны!
Кадры кинохроники: огромная площадь, запруженная людьми, импровизированная трибуна. Один за другим на нее восходят ораторы. Резко жестикулируя, формируют общественное мнение. Выступает беспартийный большевик:
– Наша коммунистическая партия – всеми любимая, и наш великий вождь Иосиф Виссарионович Сталин, всеми любимый и ведущий нас от победы к победе… – короткая пауза и вдруг яростный взрыв, – не позволим отдать наших завоеваний!
Буря аплодисментов.
На трибуне грузин. Низкий лоб, густые сросшиеся на переносице брови, выпученные глаза:
– Троцкистской трижды проклятой банде может быть лишь один приговор – расстрел!
Грузина сменяет женщина с хмурым, изможденным, нервным лицом:
– Они пытались отнять у рабочего класса всего мира самое ценное, самое дорогое – нашего любимого, родного товарища Сталина. Никакой пощады врагам! Расстрелять всех до одного, как бешеных собак!
Ее одержимость вызывает у кинозрителей взрыв одобрения. Кто-то вскакивает с места, загораживая собой луч кинопроектора и, демонстрируя любовь и преданность вождю всех времен и народов, кричит, вздыбив руки под низкий потолок: «Да здравствует товарищ Сталин! Ур-ра-а-а!» Разношерстная публика, объединенная то ли страхом, то ли ненавистью, то ли великой любовью к великому человеку, в едином страстном порыве подхватывает боевой клич русского воинства и орет его троекратно, нервно и разноголосо. Выполнив свой гражданский долг, публика снова впивается глазами в мелькающий киноэкран, дрожа, сопереживая, злобствуя, восторгаясь и негодуя.