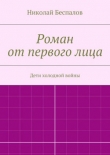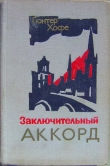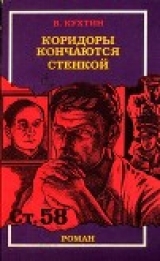
Текст книги "Коридоры кончаются стенкой"
Автор книги: Валентин Кухтин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 55 страниц)
– Не надо издеваться надо мной, Я ведь понимаю: другого выхода у «соучастника» не было. У меня его нет – вы правильно говорите. Только… что ж вы не меняете методы следствия? Взялись вроде бы наводить порядок, ратуете за законность, а показания выбиваете пытками, как и мы.
– С вами иначе нельзя. У вас опыт. Вы изощренные враги.
–. Причем здесь «изощренные»! Возьмите любое дело – и там все корявой белой строчкой. Или вам обязательно нужны наши признания?
– По террору ни белых, ни серых строчек нет.
– Так вы свои изобретаете? Чтоб потом и вас, как нас… Поймите вы: не было никакого террора! Вы его высасываете из пальца, потому что… – Малкин осекся, выдержал короткую паузу. – Если бы я хотел застрелить Сталина… Если б я поставил такую цель – зачем мне создавать группы? Уж я бы не промахнулся. Но… я не враг и волю Сталина выполнял безупречно.
– Обвиняемый Кабаев! У вас есть дополнения к данным вами показаниям?
– Нет… Нет. Прости меня, Ваня, – голос Кабаева дрогнул. – Прости и прощай. Вероятно, эта встреча последняя…
– Дело сделано, Ваня. Не надо казнить себя. Наломали дров – что ж! Кто-то должен делать и это. Прощай.
Очные ставки с Абакумовым и Шашкиным не были столь драматичны, но тоже запомнились. Оба так искусно лгали, с таким азартом наговаривали на себя и на него – Малкина, – что в конце концов он и сам стал поддакивать, уточнять отдельные эпизоды.
«Что ж мы строили? За что боролись? – спрашивал себя Малкин, подводя итог своим тягостным размышлениям. – Во имя чего угробили столько жизней? Неужели это то, о чем мечтали, что рисовалось нам в розовых красках? Ложь и насилие. Насилие и ложь. И смерть за каждым ходит по пятам. Это социализм? Но разве он совместим с насилием? Разве в него надо загонять силой? Разве он не должен притягивать к себе человечностью? Зачем же столько крови?» – Малкин рассуждал и возмущался как жертва. А было время, когда он думал совсем по-другому. Было время, когда он после очередной рюмки Бахвалился перед друзьями: «У нас это дело поставлено на поток. Представляешь… и-ик… Какой-нибудь вонючий грек ходит по базару, а у нас от его имени в это время… и-ик… составляется протокол допроса. Остается самая малость: этого грека… и-ик… арестовать, заставить подписать протокол и дело на «тройку»… и-ик… готово!»
«Свой» протокол Малкин подписал не читая. Молча подписал и отвернулся.
– Когда… суд?
– Скоро.
19
Дело Малкина рассматривалось Военным трибуналом войск НКВД Московского округа в закрытом судебном заседании без участия обвинения и защиты.
Вопрос председательствующего:
– Подсудимый Малкин! Вы признаете себя виновным в предъявленном обвинении?
– Да. Признаю.
– По всем пунктам?
– Да. По всем пунктам.
– В организации злодейского покушения на жизнь товарища Сталина тоже?
– Да.
Суд удалился на совещание.
Приговор вместился на одной страничке машинописного текста: «…Малкина Ивана Павловича лишить присвоенного ему звания майор госбезопасности и подвергнуть высшей мере уголовного наказания – расстрелу с конфискацией всего, лично ему принадлежащего, имущества». Последняя фраза этого пункта приговора прозвучала кощунственно, и Малкину до слез стало обидно. «Крохоборы проклятые… барахольщики… Отнимают жизнь – разве этого мало? Нет же, твари, пекутся об имуществе, словно осудили за хищение. И этой мерзости я служил!»
Из зала суда его переместили в камеру смертников. Жутко. Обидно. И страшно хочется жить. Не верилось, что все, что происходит – происходит с ним. Не верилось, что, возможно, через трое суток его не станет. Был Малкин и нет Малкина. Ой, как жутко, и как нелепо…
В ту же ночь его вывели из камеры и грубо затолкали в переполненный фургон. Было темно и тихо, как в могиле. Везли долго, петляя по улицам. Слава богу, хоть догола не раздели и не уложили в штабель. Вот-то была бы потеха! А может это и не душегубка вовсе? Может, за прошлые заслуги не пожалеют все-таки пули! А может, перемещают в Сухановку или в Бутырку? Бывает же так, что не утверждают приговоры… Вряд ли! Сказано ведь недвусмысленно: «подвергнуть высшей мере уголовного наказания – расстрелу»… Машину стало потряхивать, видно, выехали на брусчатку или гравийку. На какие-то секунды Малкин отвлекся от мыслей о смерти и сразу, не вовремя, не к месту, пришло на память одно из заседаний 2-й сессии Верховного Совета СССР. Анекдот, а не заседание: известный писатель-драматург, автор знаменитого «Платона Кречета» Александр Корнейчук вместо вдумчивого анализа принимаемого документа стал петь дифирамбы вампиру, жесточайшему и коварнейшему из людей. Как он тогда сказал? «Быть гражданином страны, которой руководит наше солнце, наше знамя – всенародный вождь, друг и учитель Иосиф Виссарионович Сталин, быть гражданином такой цветущей, могучей страны – великая честь и радость»? Да. Кажется, так… Зачем? Кому это было нужно? Ведь никто, даже сам он, не верил тому, о чем говорил. Но ведь говорил же! С высокой трибуны! А татарин из самой что ни на есть российской глубинки? Как славословил колхозный строй! Как воспевал прелести колхозной жизни! «Раньше татарам, – говорил он, ежась от равнодушных глаз депутатов, – совершенно запрещали есть свинину, а сейчас мы имеем свиную ферму! Мы теперь поняли, что от свинины грех небольшой. Мы не только не выбрасываем теперь свинину, а знаем, что свинина с картошкой – получается кушанье неплохое». Наивные люди! Нелепые люди! Знали бы они, что ждет их в эту или следующую ночь!»
Подпрыгнув несколько раз на колдобинах, машина остановилась. Шофер, матерясь, открыл задвижку примерзшей дверцы, грохнув по ней черенком лопаты, скомандовал:
– Десять человек на выход!
Малкин оказался в первой десятке. Непослушными ногами скользнул по утоптанному снегу. Удержался. По команде стал у края траншеи. Задышал часто-часто, словно спешил насытиться чистым морозным воздухом. По обе стороны от него тоже стояли смертники и тоже дышали часто, исторгая клубы пара.
«Морозно, – мысленно констатировал Малкин. – Погода – прелесть». И все? И больше ни о чем не подумал? За считанные секунды до выстрелов? Странно. Очень и очень странно.
Цепочка расстрельщиков выстроилась метрах в пятнадцати, не более. Вспыхнули фары автомобилей. Зарокотали двигатели. Взмах руки. Малкину обожгло висок и он свалился в траншею, больно ударившись плечом о голову закоченевшего трупа. «Промазал, подлец. Если не засыплют сразу, отлежусь и сбегу». Наверху раздался новый залп. Скрюченное тело упало на него, дернулось и затихло. Несколько лучиков карманных фонарей прошлись по дну траншеи, заваленному трупами. Малкин замер, закрыв глаза.
– Ну, что там? – голос.
– Два-три шаволятся!
– Штанько! Спустись, добей! Да лопатой, лопатой! Не знаешь, как это делается?
Штанько спустился. Видно, не удержался и грохнулся всем телом.
– Ну, б-дь, как мешок с гамном. Что за пор-рода!
– Смотри, вон тот, – корректировал кто-то сверху.;
– Ентот, што ли?
– Ентот, ентот, – засмеялись наверху. – Кончай быстрей, дюже зябко!
Хрясь! Родом с головой Малкина. Чвяк!
– И вон тот!
Хрясь! Чвяк!
– А у этого только висок оцарапан, – подал удивленный голос Штанько.
«Обо мне», – подумал Малкин. Боли он не почувствовал. Мозг словно вырвали из черепа и бросили на горячую сковородку…
20
Малкин умер. Но дело, которому он посвятил половину своей молодой жизни, продолжало жить. Новое поколение чекистов, бериевское поколение, уничтожив своих предшественников, подхватило знамя поверженных и рванулось вперед, к коммунизму. Социализм, как первая, низшая его фаза, был построен, и внутренние враги совсем уж было перевелись, но зашевелились внешние, накалили международную обстановку добела, надеясь смести с лица земли могучее образование – Советский Союз. И тогда снова застучали по лестничным маршам чекистские сапоги, снова стали содрогаться от ударов двери квартир:
– Иванов?
– Иванов.
– Вот санкция на обыск и арест…
– Петров?
– Да.
– Собирайся!
– Сидоров?
– К вашим услугам…
– В услугах врагов народа не нуждаемся! Одевайтесь! Вы арестованы!
Вновь беспредел, но уже в русле, прокладываемом партией. Вольготная жизнь НКВД, выпестованного ею, но на какое-то время отбившегося от рук, стала ограничиваться рамками, в которых решающее слово в центре и на местах оставалось за партией. В принципе – это мало что меняло. Надежды на то, что Берия остановит кровавый разгул, оказались тщетными.
21
Письмо было коротким, злым и без подписи.
«Товарищ Ершов!
До каких пор подпевала врагов народа Малкина и Сербинова Безруков будет орудовать в краевом аппарате НКВД? Не пора ли властью крайкома положить конец издевательствам над живыми людьми, которые он безнаказанно практикует у вас под носом? За время работы в органах этот человек погубил немало честных работников – и достойных людей, а недавно довел до самоубийства начальника отделения Когана, от которого якобы в крайком прошла информация об убийстве негласно арестованного гражданина Колода. Известно ли вам, что в течение последних пяти месяцев Безруков вынес из своего отдела три трупа, в числе которых двое арестованных?
Если известно, то почему вы безмолвствуете, а если неизвестно, то тогда непонятно, кому и зачем вы там нужны?
Почему не выполняется требование парторганизации УНКВД о немедленном отстранении Безрукова от руководства этой организацией и удалении его из аппарата Управления?
Пора, товарищ Ершов, взяться за наведение порядка в крае. Пора расстаться с подонками, компрометирующими органы, раз и навсегда избавиться от безруковых, коваленковых и прочих, подобных им, фальсификаторов и экзекуторов, воздать каждому по заслугам.
Предупреждаем: не примете мер – проинформируем о вашей бездеятельности ЦК и лично товарища Берия!»
Письмо без подписи, но в нем крик души, и Селезнев слышит этот крик и понимает, что рожден он дикой безысходностью. Если человек не решается поставить подпись под своим письмом, значит, не вполне доверяет адресату, значит, что-то в аппарате крайкома не так, есть что-то, что настораживает, отпугивает корреспондентов. Не зря ведь, не для красного словца завершает автор свое письмо предупреждением, что в случае непринятия мер крайкомом он проинформирует о безобразиях ЦК.
– Что будем делать, Владимир Александрович? – спрашивает Селезнев Ершова, плохо скрывая раздражение, и тот, не задумываясь, деланно бодро отвечает:
– Работать!
– Работать? – удивляется Селезнев. – А до сих пор мы чем занимались? Неужели прохлаждались? Это, Владимир Александрович, ответ не руководителя, а обывателя, занимающего место руководителя.
– Между прочим, автора письма очень легко найти. Я поговорю с Шулишовым…
– Зачем? Разве автор в чем-то не прав?
– Расследованием дела по Малкину и другим занимается Москва…
– О Малкине незачем говорить, он свое уже получил. Сейчас речь о тех, кто, оставаясь на свободе, продолжает нарушать законы. Речь идет о Безрукове и его приспешниках… Вот что, Владимир Александрович! Давайте поговорим откровенно, по-партийному, по-большевистски. Скажите, вы способны поднять вверенный вам участок работы на должную высоту? Способны шагать в ногу со временем?
– До сих пор ко мне претензий не было.
– Были претензии. Просто вопрос не ставился ребром и в этом моя вина. Вы очень запятнали себя связью с Малкиным и потому отношение к вам руководителей партийных организаций края настороженное. У вас есть страшный для партийного работника изъян – пьянство. По этому поводу рассказывается много разных историй. Вам надо сменить место работы. Уехать из Краснодарского края. Вам… помочь в этом?
– Не надо. Я сам.
– Ну что ж. Так даже лучше. И… не обижайтесь на меня, не поминайте лихом. Я вам желаю только добра.
22
Шулишов чувствовал, что удержаться в должности ему не удастся. Тучи, гонимые московскими и крайкомовскими ветрами, все более сгущались над его головой и, наблюдая, как они, тяжело ворочаясь, замедляют ход, сбиваясь в плотную массу, он лихорадочно искал выход из навязанной ему бесчестной игры. Прежняя нахрапистость в нынешних условиях – не помощник. Он это понимал и думал, думал, как с достоинством и без потерь выйти из создавшегося положения.
Мощные удары наносил Наркомвнудел. Не суетясь, медленно и методично, он выдергивал из краевого аппарата «малкинские кадры», загружая ими пыточные камеры Лубянки и Лефортово. Заполнять возникающие в связи с этим вакансии становилось все сложнее и сложнее, потому что теперь любую кандидатуру приходилось согласовывать с крайкомом, а тот долго и нудно перебирал, требуя представлять на выдвижение лишь тех, кто не запятнал себя безупречной службой беззаконию. Где их брать, таких? Он и сам служил при Ягоде и Ежове и гнул их линию, будучи уверенным, что это линия ЦК ВКП(б). Да так оно, если быть откровенным с самим собой, и было, потому что ни тот, ни другой никакой самостоятельности в вопросах террора не проявляли, а являлись лишь рьяными исполнителями воли Сталина и его окружения. Уж кому об этом знать, если не ему – Шулишову.
Мешала работать с прежней боевитостью странная симпатия Селезнева к крайсуду и крайпрокуратуре. Их холеными руками он держал Шулишова за горло, не давая вздохнуть полной грудью, терзая различными проверками в порядке надзора и массовым возвращением уголовных дел на доследование, а еще хуже —. прекращением их из-за отсутствия в действиях обвиняемых состава преступления.
Не давала спокойно вершить дела внутренняя «контра» – распоясавшиеся коммунисты Управления. Обреченные на молчание при Ягоде и Ежове, они вдруг осмелели, разговорились, люто набросились на руководство Управления, якобы «поощряющее порочные методы следствия, клеветников и карьеристов, подвергая «виновных» беспощадной критике на партийных собраниях. Объектами особого внимания «критиканов» стали как раз те сотрудники и руководители Управления, на которых Шулишов опирался с самого начала, кто не на словах, а на деле показывал свою преданность органам внутренних дел. Именно этих людей – Безрукова, Сорокова, Биросту, – он приблизил к себе и выдвинул на вышестоящие должности без согласования с крайкомом или вопреки мнению крайкома, чем навлек на себя гнев Селезнева и секретаря крайкома по кадрам Бессонова.
Предметом особой тревоги стали неприязненные отношения, которые сложились между ним и военпрокурором войск НКВД Краснодарского края Гальпериным. Этот неистовый законник с первых дней, а сейчас особенно, поставил себя в пику ему – Шулишову, раскапывая дела давней давности и придавая им такое современное звучание, будто именно Шулишов, а не его предшественник, арестованный и уже расстрелянный как враг народа, дал им жизнь, умертвив всех, кто по ним проходил. Но главное, пожалуй, не в этом. Главное в том, что по результатам своих раскопок он заваливает Управление письмами, в которых требует привлечь всех, принимавших участие в фабрикации дел, к уголовной ответственности. Все – это добрая половина аппарата Управления. Можно ли рассматривать подобные действия Гальперина как стремление очистить чекистские ряды от скверны, накопившейся за годы ежовщины? Скорее всего это желание парализовать деятельность вверенного ему Управления, лишив его профессионального ядра.
В пределах допустимого он дает отпор Гальперину, игнорируя его «нелепые» указания по делам, просмотренным в порядке надзора, и запрещая без согласования с ним вызывать для собеседований и допросов подчиненных ему сотрудников. Это вызывает потоки жалоб Селезневу и непосредственному начальству – начальнику 4-го отдела ГВП диввоенюристу Дорману и военпрокурору войск НКВД СКО бригвоенюристу Волкову. Последние двое пока молчат, но это сегодня. А что будет завтра? И хоть угрожает опасность и мучит неизвестность, он нет-нет, да и подсунет Гальперину мелкую каверзу, метко бьющую по самолюбию служителя закона, стремясь показать, что не прокурор первая скрипка в правовом оркестре, и не суд, на который ему наплевать, а он – Шулишов – как раньше, так и теперь, то есть не конкретно он, а НКВД в его лице. Именно поэтому он сделал помощником начальника Управления Безрукова, начальником 2-го отдела – Биросту, хотя Гальперин требовал их ареста, а крайком протестовал против их назначения. Кое в чем приходилось, конечно, и уступать. Более того, подчеркивать, что благодаря именно прокуратуре удалось выявить имевшие место серьезные нарушения или устранить, такие-то недостатки. Это были тактические ходы, в которых он поднаторел в свое время и теперь использовал для защиты и нападения.
Когда случалась удача, Шулишов спешил информировать о ней Москву. Пусть видят: Шулишов не мух ловит в Краснодаре, а разоблачает и отлавливает врагов. В начале года, например, агент «Алтайский», состоявший на связи сначала у Бродского, а затем последовательно у Карлина и Биросты, выдал информацию, свидетельствовавшую о существовании в Краснодаре троцкистской террористической группы, которая наряду с активной троцкистской работой готовила террористические акты над руководителями ВКП(б). Сколько было радости! Немедленно завели агентурное дело под кодовым наименованием «Осиное гнездо» и начали активную агентурную разработку лиц, поименованных в донесении агента, которая велась обособленной группой сотрудников и держалась в строгом секрете от оперативного состава, не причастного к ее реализации.
– Подготовьте спецсводку в Москву! – приказал Шулишов Биросте и шутливо добавил: – А вот здесь, – он ткнул ему в грудь указательным пальцем, – просверлите дырку для ордена!
– Главное – удачно ликвидировать разработку, – ответил Бироста бодро, – а дырку проделать – дело не сложное. Был бы повод.
– Будет, будет! За это я ручаюсь! Спецсводку – за тремя подписями: моей, вашей и Карлина.
– Хорошо.
23
«Раевскую» решили арестовать.
– Хватит ей отсиживаться на конспиративной квартире. Сексота из нее не вышло, пусть идет обвиняемой, – заключил Шулишов. – Переведи ее во внутреннюю тюрьму. Ты не интересовался, почему она так настаивает на аресте отца? – спросил он у Безрукова, завязывая тесемки личного дела агента. – Выясни. Протокол допроса составь на основе ее донесений. Чтобы никаких противоречий.
По просьбе Безрукова место «Раевской» во внутренней тюрьме определили рядом с камерой смертников.
– Ты не обижайся, что тебя спустили в подвал, – лицемерил Безруков, вызвав «Раевскую» на допрос. – Единственная свободная камера.
– Вы идиоты! – злобно выкрикнула арестованная вместо ответа. – Если шпионам станет известно, что я и Гущев арестованы – все разбегутся, скроются! А я что? Одна должна отвечать за это кодло? И гнить в этой вонючей камере? Одна? Почему до сих пор не арестован отец?
– Ты уверена, что он враг?
– Да! Это он втянул меня в эту грязь! Пусть пропадает, гад, вместе со мной! И мать! Видела, что старый ублюдок гробит мою молодость – не помешала. Всех возьмите! Всех под гребенку!
– Ты что это, сволочь, раскомандовалась? – возмутился Безруков. – Ты чего орешь? Полгода водила за нос погранотряд – доносила на невинных людей. Теперь мне морочишь мозги… Чем докажешь, что мать знала о ваших делах? Она же в разводе с твоим отцом!
– Мне плевать, знала она или не знала. Я говорю знала – и все! И попробуйте спустить на тормозах!
– Ты, сучка, прекратишь орать или нет? Или мне тебя размазать по стенке? Запомни: если лжешь – умрешь смертью, какой никто не умирал! Лично скормлю тебе твое собственное мясо! Будешь жрать себя, пока не сдохнешь!
– Еще неизвестно, кто раньше сдохнет! – отрезала «Раевская», с ненавистью и отвращением глядя в глаза Безрукову. – Я в курсе про вашу банду… Сербинов загудел и ты скоро туда же! Мразь!
– 3-заткнись! – заорал Безруков и с силой опустил тяжелую ладонь на голову женщины. От неожиданности та прикусила язык и тихо сползла со стула.
24
Сомнения Влодзимирского подогрели в Мироновиче желание во что бы то ни стало «размотать дело о подготовке покушения на Сталина и его соратников. Вернувшись с совещания, он приказал доставить ему Абакумова, с которым с самого начала имел доверительные отношения. Покладистый мужик, он легко шел на любые уступки, особенно, когда вопрос касался руководства Управления.
– Что ж вы, Абакумов, водите следствие за нос? – спросил он арестованного с добродушной улыбкой, как только за конвоирами закрылась дверь кабинета. – Подсовываете всякую шушеру вроде Никишина, Древлянского и прочих, а о террористической группе, которая готовила покушение на товарища Сталина, ни гу-гу?
– Так я о ней и сам толком не знаю. Я ж говорил, что с Малкиным не очень ладил и он не доверял мне сверхсекретов. За месяц до перевода в Новороссийск он, правда, пытался сблизиться со мной, но я на неслужебный контакт с ним не пошел – не мог простить оскорблений, которые он нанес в первые месяцы работы под его руководством. Вообще он мужик хамовитый и потому контачили с ним лишь подхалимы да карьеристы. Да еще тупицы, которым все равно, под чьим сапогом быть, лишь бы не гнали вон.
– И все-таки он включил вас в так называемую «группу по выполнению особо важных поручений»?
– Перед моим переводом в Новороссийск приказом по УНКВД была создана группа, на которую возлагалось обеспечение безопасности руководителей партии и правительства, прибывающих на отдых в Сочи. Какова истинная цель создания этой группы, я не знаю.
– Гришин знал истинную цель?
– Я думаю, что он был в курсе всех дел, которыми занимался Малкин.
– Хорошо, Абакумов. Можете отдыхать.
– Хочу только дополнить, что, со слов Малкина, подобные группы создавались ежегодно. В конце особого курортного периода все их участники крепко поощрялись.
Отпустив Абакумова, Миронович оформил состоявшуюся беседу протоколом допроса и вызвал к себе помощника начальника следственной части УНКВД по Краснодарскому краю Захожая, прикомандированного в НКВД для оказания практической помощи в расследовании дела.
– Вот тебе, Захожай, показания Кабаева, – Миронович зевнул до хруста в скулах. – Они разрозненны и неудобоваримы. Возьми себе Бурова и вместе приведите их в порядок. Протокол изложите последовательно, появятся неясности – проведите дополнительные допросы, очные ставки. Состыкуйте с показаниями Шашкина, Абакумова, Захарченко… кто там у нас еще… Стерблич! Как я его упустил… Стерблича возьми за основу. До ареста он работал секретарем Управления, знал всех и обо всех, у него четкие характеристики на каждого. Посмотри, кто еще созрел для ареста, и подготовь рапорт на имя наркома.
– За чьей подписью?
– Обычная цепочка: особоуполномоченный НКВД майор госбезопасности Стефанов, начальник следчасти НКВД комиссар госбезопасности третьего ранга Кобулов… точнее – наоборот: первым Кобулов, вторым Стефанов.
– Ясно.
– Срок – в пределах разумного. Работайте в темпе, так, чтобы к концу года дело можно было направить в суд.
– Хорошо. Будет сделано.
Захожай подключился к делу по распоряжению Влодзимирского, когда «раскрутка» шла уже полным ходом. Перелистывая еще не остывшие страницы протоколов, он удивлялся, с какой готовностью рассказывали подследственные о своих коварных замыслах, как, упреждая вопросы следователей, торопились саморазоблачиться, утопая в противоречиях, которых никто не хотел замечать. Первые допросы, правда, самые первые, завершались полным отрицанием причастности к заговору, но зато потом, после некоторого перерыва, они превращались в исповедь. Поток признаний был таким мощным и неудержимым, что следователь едва успевал вставлять в короткие паузы вопросы, придающие процессу форму следственного действия. На какое-то время усилия следственной группы сосредоточились на показаниях Кабаева. На их основе Миронович намеревался построить обвинения против большинства бывших сотрудников УНКВД.
Приводить в порядок дело Захожай начал с личного допроса Кабаева.
– Иван Леонтьевич! На предыдущих допросах вы дали развернутые показания по поводу вашего участия в антисоветской заговорщической организации. Возникла необходимость дополнительно допросить вас по всем изложенным вами ранее фактам, чтобы устранить противоречия и получить возможность для подготовки непредвзятого, обоснованного обвинения. Приступая к последнему, надо полагать, допросу, предупреждаем, что говорить вы должны только правду и ничего кроме правды, не оговаривая себя и других и ничего не – скрывая об известных вам фактах. Вы согласны с такой постановкой вопроса?
– Да. Было время, когда я утверждал, что не причастен к заговору, так как боялся ответственности. Когда выяснилось, что все уже вскрыто помимо меня, я решил прекратить борьбу со следствием и впредь давать только правдивые показания.
– И вы по-прежнему настаиваете на том, что заговорщическая организация в УНКВД действительно существовала и что вас вовлек в нее Малкин?
– Да. После того, как он высказал свое отношение к происходящим в стране процессам, я стал разделять его точку зрения.
– Это отношение было негативным?
– По многим позициям – да.
– Расскажите подробно, как это произошло.
– Я показывал на предыдущих допросах, что с Малкиным знаком с тридцать третьего года, когда начал работать под его началом в Кубанском оперативном секторе ОГПУ. Постепенно между нами установились дружеские отношения, мы безусловно доверяли друг другу и делились самым сокровенным без всякой опаски. Эти отношения сохранялись до его ареста. В апреле тридцать восьмого я по ходатайству Малкина был назначен начальником первого отдела УНКВД в городе Сочи, и когда «обмывали» назначение, он доверительно, в присутствии Абакумова, заявил, что «от постоянного нервного напряжения всякое терпение лопается и буквально все валится из рук». Я спросил, чем вызваны его переживания. Он стал клеветнически высказываться о Сталине, критикуя карательную политику в стране, в которой, вопреки совести, приходится принимать участие, а когда, я спросил, будет ли когда-нибудь положен этому конец, решительно заявил: «Нужна активная борьба против сталинской политики насилия и террора. Борьба эта ведется и особое место в ней занимает старый северокавказский костяк партийцев с авторитетом такой колоритной фигуры, как Евдокимов».
– Он назвал вам участников?
– Да. Назвал себя, Абакумова, который кивком головы подтвердил сказанное, затем перечислил некоторых сотрудников краевого аппарата: Сербинова, Захарченко, Феофилова, Шашкина, Долгопятова из Майкопа, Безрукова, Биросту, ряд ответственных работников из НКВД СССР и УНКВД других краев, областей. Среди них – начальника Первого отдела НКВД СССР Дагина, его заместителя Зарифова, начальника Второго отдела НКВД Попашенко и начальника Сельхозотдела НКВД Гатова, начальника Секретно-политического отдела из Ростова-на-Дону Раева и начальника УНКВД Горьковской области Лаврушина…
– Странно, что он назвал вам сразу столько фамилий. Была необходимость? А как же с конспирацией? Как-никак, организация подпольная…
– Разговор, как я сказал, сопровождался обильной выпивкой и Малкин был в этот момент изрядно накачан. Во-вторых, мы доверяли друг другу. В-третьих, ему очень хотелось, я так думаю, показать размах антисталинской борьбы.
«Врешь ты все, – подумал Захожай, глядя в честные глаза Кабаева. – С твоим кругозором знать такое количество руководителей, разбросанных по Союзу? Запомнил? А разве сам не был накачан? Эх, Кабаев, Кабаев!»
– И какую же вражескую установку вы получили в тот раз от Малкина? Каким образом он определил цели и задачи заговорщической организации?
– О них я был ориентирован в общих чертах.
– И все-таки?
– Путем проведения массовых арестов партийно-советских и хозяйственных кадров и граждан определенных национальностей внушить трудящимся края мысль о перегибах, организатором которых является ВКП(б), а если конкретно – ее ЦК.
– То есть вы получили установку всеми доступными вам способами дискредитировать в глазах населения партию и ее сталинский ЦК? Так я вас понял?
– Так. И показать таким образом антинародность решений партии, принятых на февральско-мартовском тридцать седьмого года и последующих Пленумах ЦК.
– Только-то?
– Не только. Главная задача – физическое истребление всех, по чьей воле развязан кровавый террор.
– Значит, вас – в первую очередь?
– Почему нас?
– Потому что вы осуществляли террор.
– Вы говорите об исполнителях, а я имею в виду организаторов.
– То есть вы имеете в виду ЦК?
– Получается так.
– Вы и сейчас полагаете, что массовый террор организовал ЦК?
– Нет. Сейчас я так не считаю. Решение ЦК и СНК от семнадцатого ноября прошлого года и последующая политика партии по восстановлению в стране ленинских норм жизни убедили меня в обратном.
– Значит, дискредитируя партию и советскую власть, вы добросовестно заблуждались?
– Выходит, что так.
– И как же вы намеревались решать непростые задачи истребления организаторов террора?
– Я же говорю, что сейчас таковыми их не считаю.
– Но тогда считали?
– Да.
– Ну так как же?
– По Сочи-Мацестинскому курорту, где обычно отдыхают руководители партии и правительства, мы предполагали создать условия, способствующие террористически настроенному элементу беспрепятственно проникать на особо важные объекты в качестве обслуги.
– Что вы разумеете под особо важными объектами?
– Прежде всего дачи, лечебные учреждения, места посещений…
– Вы можете назвать хоть один случай проникновения в обслугу лиц, настроенных террористически?
– Могу. На даче номер девять, известной как дача Сталина, поварихой работала некая Рыжкова Мария – жена латыша-белогвардейца, которая была связана с эстонцем-террористом, работавшим в Сочи, кажется, на хлебозаводе. Этот террорист намеревался вместе с Рыжковой отравить товарища Сталина.
– Очень интересно. Фамилию эстонца вы не знаете, о месте его работы имеете представление смутное, а намерения его у вас как на ладони. Вы с ним общались?
– Нет.
– Кто-нибудь общался? Из сотрудников?
– Не знаю.
– Как же вы узнали о его намерениях?
Кабаев замялся. Захожай с сожалением посмотрел на сидящего перед ним маленького, измученного пытками и неволей человека. В умных глазах мольба.
– Сергей Васильевич, – обратился, Захожай к Бурову, молча сидевшему за приставным столиком напротив Кабаева, – время перерыва и Миронович, наверное, в буфете. Будь добр, разыщи его, скажи, что очень желательно его участие в допросе Кабаева. Заодно пообедай.
– Хорошо! – обрадовался Буров и быстрыми шагами удалился из кабинета. Захожай и Кабаев остались вдвоем.
– Итак? – произнес Захожай тихо, давая понять, что теперь можно быть откровенным.
Кабаев молчал.
– Иван Леонтьевич! Разговор не для записи. Я понимаю: в условиях Лефортово, а вначале, вероятно, была Лубянка, вы иначе вести себя не можете. Не мне вас судить за это. Вероятно, я, окажись на вашем месте, вел бы себя не лучшим образом, но… Зачем вы втягиваете в дело такую массу людей?