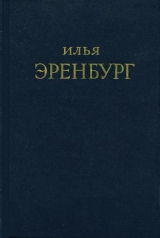
Текст книги "Буря"
Автор книги: Илья Эренбург
сообщить о нарушении
Текущая страница: 58 (всего у книги 63 страниц)
22
Фельдфебель Гельмут Рейнер находился в отпуску; трагедия застала его дома. Еще три дня назад он верил, что красных остановят. Ведь это не пограничный город. В прошлую войну русские тоже забрались к нам, но Гинденбург их расколотил. Рейнеру тогда было шестнадцать лет, он мечтал попасть на фронт. Теперь ему сорок семь, в таком возрасте хорошо сидеть у огня и рассказывать детям о своей молодости. А Рейнера год назад призвали, отправили в Барановичи, там он охранял пути от бандитов. Приходилось участвовать в стычках с партизанами. Один раз он бежал, не останавливаясь, шесть километров, это не занятие, когда человеку под пятьдесят. Он едва выбрался из Барановичей. Наконец ему повезло: он заболел тифом, провалялся полтора месяца в госпитале и получил отпуск. Увидев родной городок, он умилился: здесь он вырос, женился, прожил всю свою жизнь; он знал всех людей, все липы парка, все вывески. Его табачный магазин на главной площади, напротив ратуши, когда-то считался лучшим во всем округе; Рейнер понимал толк в сигарах, не гнался за красивой упаковкой и товар получал непосредственно из Гамбурга и Бремена. У него были постоянные покупатели: бургомистр, господин Зейдель, владелец лесопилки и большого поместья, директор музея, Шмидке – фюрер местной организации, словом, все уважаемые лица города. Городок был невредим – ни разу не бомбили, но Рейнер его не узнал: все потеряли голову. Раньше сюда понаехало много народу из Западной Германии: искали тихое место, где нет бомбежек. Беженцы первые поддались панике, кричали, что лучше бомбы, чем русские, осаждали поезда, которые приходили переполненные из пограничных районов. Потом заметались и коренные жители города. Шмилке не хотел выпускать мужчин, требовал, чтобы они шли в «фольксштурм». Бургомистр говорил, что «чудо Танненберга повторится», а сам уехал ночью на машине. Рейнер растерялся. Потом он думал, что погубила его радость встречи с семьей; все его домашние были живы и здоровы – рыхлая немолодая жена Эмма, четыре дочери, старшей, Анне, недавно исполнилось шестнадцать лет, а младшая, Грета, родилась в тот день, когда объявили траур после Сталинграда. А может быть, Рейнер не удрал вовремя потому, что, находясь в отпуску, чувствовал себя освобожденным от суровых забот солдата, усмехался: что за паника, здесь не Барановичи!.. Так или иначе он застрял, а когда позавчера он решил уехать или хотя бы уйти, было слишком поздно – Генрих сказал, что все дороги перерезаны русскими.
Два дня Рейнер метался: то верил в чудо, то молчал, охваченный ужасом. Сегодня утром он понял: надеяться не на что. В городе осталась сотня эсэсовцев; они забрали ром в погребке под ратушей и перепились, кричали, что не сдадутся. На площади возле табачного магазина разорвался снаряд.
– Что нам делать? – спросил Рейнер Генриха.
– Ждать… Я их не боюсь, до тридцать второго я был социал-демократом…
Хотя Рейнер понимал, что Генрих тоже боится русских, он ему позавидовал. Генрих не в партии… А меня повесят. Я записался в тридцать пятом, тогда все записывались… Потом я был в России, нас посылали усмирять деревни, где прятались бандиты… Мы там основательно похозяйничали. Придется расплачиваться… В газетах было, что русские творят ужасы, Шмидке говорил: «Такого еще не знала история…» Повесят меня, обесчестят Анну, могут убить Эмму. А если и не убьют, все равно детей она не прокормит. Магазин пропал… Все пропало…
– Нам нужно покончить с собой, – сказал Рейнер Эмме, – ничего другого не остается…
Эмма закричала:
– Господи, ты понимаешь, что ты говоришь? Как мы можем оставить маленьких детей?..
– С детьми…
Эмма заплакала:
– Ты сошел с ума!.. Я тебя боюсь!
Он погладил ее жидкие седые волосы:
– Я пошутил.
Эмма приготовила хороший обед: хотела немного развлечь мужа, побаловать детей, да и не стоит беречь продукты – наверно, русские все отберут. Она приготовила свинину, капусту с тмином и пудинг – не пожалела на него ни яиц, ни варенья. У нее была припрятана бутылка кюммеля. Рейнер развеселился, покраснел, дразнил Анну: «За тобой ухаживает Отто, он заика и не сможет никогда объясниться…» Эмма радовалась: Гельмут опомнился…
Под вечер город заняли русские.
Осип вошел в большой кабинет владельца лесопильни Зейделя, повесил шапку на оленьи рога и выругался. Вот уж не думал, что придется стать комендантом немецкого города! Напрасно он доказывал члену Военного Совета, что лучше назначить другого… Одно утешение – обещали через неделю освободить. Пока его полк во втором эшелоне…
С отвращением поглядел он на стены. Чей это портрет? Самодовольная морда, торчат усы, высокий воротничок подпирает щеки. Гербы с единорогами. Вообще дрянь… Осипу все здесь было противно, он тосковал по Киеву. Хоть бы скорее домой!.. И всегда в такие минуты сжималось сердце: нет у меня дома…
Осип оказался, вопреки тому, что он говорил члену Военного Совета, хорошим комендантом; были у него и организаторские способности и опыт – чем только не приходится заниматься экономисту-плановику, когда он попадает на стройку… Осип приказал расчистить улицы; поставил патрули (здесь не его полк, могут напиться), Генриху, который явился с билетом социалистической партии, Осип сказал:
– Ладно… Сейчас не выборы. Вот коров здесь много бесхозяйных, бродят вокруг города. Пошлите ваших девушек, пусть соберут и ухаживают… Часть коров выделим для населения, чтобы у детей было молоко. Понятно? Где директор музея?
– Уехал. Он реакционер, и когда я выступил в защиту Веймарской конституции…
– Ясно. А что в музее – Рембрандты или наусники фюрера?
– О, там много экспонатов, коллекции бабочек, знамена, фото Танненберга, я лично там не был, все время поглощали собрания антифашистских организаций…
Осип еле его вытолкал.
Потом пришел младший лейтенант Воробьев и привел маленькую девочку:
– Вы послушайте, товарищ майор, что это за племя!.. Девочку видите?.. Зашли мы в один дом возле ратуши. Лежат мертвые – девчата, женщина, какой-то военный. А эта ревет благим матом… Спрашиваем жителей, оказывается, немец жену застрелил, родных детей. Вот подлец!.. Не знаю, как эта уцелела. Пожалел или просто промахнулся… Не люди они, вот что!.. С девочкой что прикажете делать?
– Надо в немецкую семью отдать… Погоди, она, наверно, голодная, я Насте скажу, чтобы покормила. Пусть пока здесь останется, Настя за ней присмотрит – дом-то большой, комнат двадцать у мерзавца было…
Когда Воробьев ушел, Осип отвел девочку к Насте, потом вернулся в кабинет, влез на письменный стол, снял портрет и приставил его лицом к стенке.
Весь день он работал, ходил по городу, осмотрел ратушу, музей, нашел архивы гестапо, допрашивал эсэсовцев, которые успели переодеться в цивильное. Вечером, когда он ужинал, пришла девочка. Напрягаясь, он вспоминал немецкие слова:
– Как тебя зовут?
– Грета…
Девочка вначале стеснялась, но, увидев, что Осип улыбается, доверчиво взобралась на его колени. Он играл с нею в «ладушки»… Она что-то говорила, он не мог понять что. Ему было хорошо и нестерпимо больно – все время он думал об Але. Вот такой она была, когда он уехал из Киева… Может быть, ее убил отец Греты?.. Нежно и печально Осип глядел на сонную девочку; потом отнес ее Насте.
На посту коменданта Осип пробыл десять дней. Его уже хорошо знали все жители города, почтительно кланялись, улыбались: «Добрый день, господин комендант».
Он глядел на них без злобы и без сочувствия: не мог убедить себя, что перед ним люди; не верил ни их улыбкам, ни смирению, ни Генриху, который клялся, что город был «почти красным». Он никому и ничему здесь не верил. Только когда он глядел на Грету, глаза его становились мягкими и грустными.
Полк двинулся дальше. Осип сидел в деревенском доме у полевого телефона. Немцы пытались удержаться в старом замке над городом. Осип кричал:
– Захарченко? Ты меня слышишь? Подбавь огоньку…
Еще один город – чистый и чужой… Февраль месяц, а весна – Осип увидел в садике подснежник. Какая чудесная весна в Киеве, другой такой нет! Рая любила фиалки… Теперь скоро фрицам конец – месяц-другой, больше не протянут… А что я буду делать, когда кончится? Ведь никого у меня нет… Как никого нет?.. Сто восемьдесят миллионов… Буду работать, это у меня осталось. Позову в гости Минаева с Ольгой, пусть посмотрят, какой красивый Киев. Поведу их в сад. Они будут гулять, как гулял я с Раей… В саду всегда много детей. Верещат, щебечут… Послушаю и пойду работать…
23
– Сон немцев и немок потревожен надолго, – сказал Минаев Оле. – Покрываться им нечем, поскольку пух из перин разлетелся прахом, а простынь, по-моему, тоже не останется – изрезали на флаги…
Немцы продолжали отчаянно сопротивляться; каждый город приходилось штурмовать. Порой и жители стреляли из окон. Но когда советские части доходили до центра города, все менялось, как в сказке. Жители, даже те, что час назад стреляли, превращались в мучеников, пострадавших от Гитлера. Город лихорадочно резал простыни. Белые полотнища болтались на всех фасадах, выползали из окон; обрезками немцы перевязывали рукава.
Отовсюду выходили люди, томившиеся в неволе: украинские девушки, которых хлестала по щекам Христина Штаубе или другая своенравная немка, рабыни, проплакавшие свои глаза на подземных заводах или в хлевах красномордых скотоводов; французские военнопленные, пять лет протомившиеся в шахтах Силезии, англичане и американцы, которые были аристократией немецкой каторги, завсегдатаи варшавских цукерен, превращенные в землекопов, и пражские доценты, чистившие солдатские нужники. Кого только не встречал Минаев! Здесь были и голландский актер, арестованный немцами за то, что зрители прервали аплодисментами монолог шекспировского героя, и норвежский пастор, не отслуживший вовремя панихиды по солдатам фон Паулюса, и миланский адвокат, рассорившийся, хотя поздновато, но шумно, со своим дуче. Минаев рассказывал:
– Даже австралийцев видел. Идут и радуются, как будто они не антиподы, а откуда-нибудь из Пензы…
Минаев шутил, а в душе он был взволнован невиданным зрелищем: ничего не возразишь, действительно освобождаем!.. Думал ли я, когда мы сидели на проклятом курганчике, что дойду до Германии и какой-то долговязый американец из штата Мичиган будет мне кричать «тенкью»?.. С этим американцем Минаев разговорился – он был сыном чешского эмигранта и понимал по-русски.
– Здорово, что вы сюда пришли! – восклицал американец. – Я-то ждал, что нас освободит Паттон а вижу – русские… Главное, что мы с вами встретились, правда?
– Правда, – ответил Минаев. Он задумался, потом улыбнулся. – Знаете, когда мне очень хотелось с вами встретиться? В сентябре сорок второго. Я тогда прогуливался по одной степи, было жарко и скорее невесело… Вот тогда мне пришло в голову, что хорошо бы встретиться с американцами. Я ведь знал, что это веселые парни, любят джаз. Я его тоже люблю… Думал – пошутим вместе, позабавимся. Но та встреча не состоялась… Я очень рад, что мы вас освободили и что мы встретились теперь в Бранденбурге. Лучше поздно, чем никогда. Вот женщины этого не понимают, одна мне прямо сказала, что лучше никогда, чем поздно…
Американец загрохотал:
– Ну и весельчак! А у нас говорили, что красные никогда не смеются…
Снова шли вперед солдаты Минаева. Завязывался короткий, но жестокий бой. Появлялись обрывки простынь. Солдаты пили шнапс и ругались. Всеми овладело нетерпение последних часов перед развязкой.
А по дорогам двигались освобожденные. Американцы и англичане шли налегке. Американцы шумели, старались хлопнуть по плечу каждого русского, отпускали комплименты девушкам, восторгались советскими танками и требовали от встречных лейтенантов, чтобы им немедленно предоставили помещение с душем, а потом отправили в Оклахому или в Небраску. Англичане были высокомерны и спокойны, сдержанно радовались свободе и сдержанно тосковали о пятичасовом чае. Больше всех было французов. Многие из них катили на немецких велосипедах, прихватив кто гуся, кто теплый джемпер на первую послевоенную зиму, кто аккордеон. Они быстро разобрались в обстановке, поняли, что русским не до них, самостоятельно передвигались на восток и мгновенно превращали бродячую свинью или барана в такое замысловатое рагу, что русские, которых они угощали своей стряпней, говорили: «Ну и народ – все у них повара…»
Однажды на такую трапезу попал Минаев. Его полк стоял неделю на месте: говорили, что подтягивают артиллерию. Минаев вдруг увидал на немецком домике широковещательную вывеску: «Ресторан Чортова кухня для Союзных войск». Оказалось, это дурачатся освобожденные французы. Один из них говорил немного по-русски: два года проработал на заводе с советскими. Минаева угостили каким-то диковинным блюдом и ромом. Потом французы очень громко и очень нестройно пели, слова были непристойные, а мотивы напоминали заупокойное богослужение. Когда все поели, попили, погорланили, француз, говоривший по-русски, сел рядом с Минаевым и начал расспрашивать про Россию. Минаев был поражен: француз знал и про Днепрогэс, и про московское метро, и про стихи Маяковского; несколько раз он перебивал Минаева – подсказывал.
– Где вы все это узнали? От наших в плену?
– Нет, во Франции. Я был студентом, но у нас даже среди студентов были люди, которые искали правду о Советском Союзе, я говорю «даже» потому, что студенчество у нас не впереди… Когда началась война, я вошел в подпольную организацию. Потом мне пришлось уехать из Парижа в Марсель. Там я участвовал в операциях: напали на немецкий клуб, освободили арестованных товарищей. Когда немецкие войска вошли в Марсель, мы жили одним – Сталинградом. Мой товарищ Нико убил немецкого лейтенанта и приколол к его груди записку «в честь Сталинграда»…
– Не знали мы этого, когда сидели там… Я ведь у Сталинграда все время проторчал – на одном отвратительном холмике…
Француз взволновался, что-то сказал товарищам; все подошли, стали разглядывать Минаева: русский, который был в Сталинграде! Минаев засмеялся:
– Ну, что тут удивительного? Вот немца, который был у Сталинграда, вы здесь вряд ли встретите. А наших сколько угодно… Мне нравится, что ваш Нико в честь Сталинграда застрелил фрица. Это лучше, чем посылать телеграммы…
– Телеграммы посылали не мы. Нико расстреляли – его взяли месяц спустя. Он еще до войны был коммунистом. А я с сорок первого.
Минаев теперь в свою очередь с удивлением оглядел собеседника:
– Никогда еще я не разговаривал с потусторонним коммунистом. А много во Франции людей, которые думают, как вы?
– Примерно треть, другая треть думает наоборот, почти как немцы…
– Погодите, где же у вас третья треть?
– Те вообще не думают.
– А как вы пришли к этому?..
– От обратного… Я очень люблю моего отца, он честнейший человек, но профессиональный скептик, кажется таких людей можно встретить только во Франции. С детства я от него слышал: «Люди – подлецы. Среди собак еще попадаются порядочные, которые не отнимают кости у маленькой собачонки и не гордятся тем, что они породистые сенбернары. А среди людей я таких не встречал». Говорил: «Во Франции было три с половиной революции» (за половинку он считал восемьсот тридцатый). А каковы итоги? При Людовиках герцог был выше маркиза, а маркиз выше графа. Теперь другая котировка: «Рио-Тинто», «Роял-Детч», «Мексикан Игл»… Отец думал меня этим отпугнуть от политики, а он первый мне раскрыл глаза… Несчастье Франции, что у нас из неверия сделали веру, есть настоящие фанатики неверия. Мой отец доктор, он возится с больными, а рассуждает так: «Я его вылечу от воспаления легких, потом он умрет от воспаления почек. Когда-то умирали от чумы. Обрадовались „уничтожен бич человечества“ и начали прилежно умирать от рака. Когда победят рак, появится какая-нибудь новая пакость…» Я тоже француз, люблю посмеяться, знаю, что и на солнце пятна, но я не хочу удовлетвориться иронией. Мы слишком долго перелицовывали, пора кроить. На моих руках умирали товарищи и во Франции, и здесь в лагере. Я простился с одной девушкой в Марселе, мы условились, что назавтра пойдем купаться, ее взяли гестаповцы и замучили. Неужели она умерла за то, чтобы снова Даладье валил Рейно или Рейно валил Блюма? Нет, теперь многое должно перемениться…
Прощаясь с Минаевым, он сказал:
– Если попадете в Париж, я вас угощу лучше, чем сегодня, покажу вам хороших товарищей. Я сейчас запишу адрес… Зовут меня Рене Морило.
Минаев написал своей мамуле:
«Вчера я ужинал у французов. Они меня накормили чем-то сверхъестественным, говорили, будто это вульгарная утка, которой надоело крякать на немецком пруду, но я тихо подозреваю, что это загадочная помесь вола и лягушки. Впрочем, дело не в ужине. Ты мне писала в самое поганое время, что не нужно унывать потому, что у нас очень большая страна, это бесспорно, но вчера я установил, что наша страна куда больше нашей страны. Когда приеду, изложу тебе это в виде небольшого доклада о международном положении. Хотя мы довольно близко от Берлина, придется еще повоевать – немцы соображают исключительно медленно, а нам ждать неохота, у каждого свои причины торопиться. Я, например, хочу поскорее тебя обнять. Оля кланяется, просит сказать, что здорова и счастлива, в последнем я сомневаюсь – ее извели и немки, которые ее величают не иначе, как „фюрерин“, и твой неисправимый Митька».
Ночь пахла сыростью, морем, весной – тревожная мартовская ночь. Минаев долго думал о судьбе своего поколения и, засыпая, решил, что придется жить беспокойно, но этого беспокойства он уже не променяет ни на что.
24
Все последнее время Билу Костеру не везло. Он приехал во Францию зимой. Армия топталась на месте. Он спрашивал себя: чем заполнить тысячу слов? Разумеется, происходит много интересного. Если описать, как Монтгомери хочет перехитрить Брэдли, читатели пальчики оближут. Нельзя – не пропускает цензура. Солдаты пьянствуют, ругают французов «грязные, воняют чесноком, хвастунишки», потом кричат: «Зачем нас сюда прислали? Если уж драться, так лучше с япошками…» Тоже не тема…
Настала весна; начались боевые действия. Понаехало множество корреспондентов. Приходится петь хором, а он не хорист; так можно испортить свое реноме. Ко всему, Била преследовал злой рок: он никак не мог угадать, где произойдет очередная сенсация – прозевал и Кельн и Ремагенский мост. Пришлось списывать с чужих слов, не было живых красок, анекдотов, сочности.
Бил решил съездить в Париж – может быть, удастся что либо разнюхать – говорят, немцы зондируют почву в Ватикане. На худой конец опишу любовь актрисы Ксавье и американского летчика, который потерял ногу. Читатели, это любят. А из Германии нельзя дать ничего трогательного: цензура задерживает – приказ не брататься с населением. Я ругал в Куйбышеве русских, а наши военные не лучше. Один мне преподнес, что я не должен сообщать о занятии города до того, как об этом сообщит главная квартира. Что же тогда делать уважающему себя журналисту?
В Париже он провел приятную ночь с одной девицей, как он потом говорил, «суперпикантной». Та ему сказала:
– Я теперь дружу только с американцами. Ничего не поделаешь – англичане скупердяги, а у наших нет ни шиша. Скверная история…
Бил захотел ее утешить:
– Ничего, скоро будет лучше.
– Не думаю. Слишком много коммунистов, рабочие ни черта не делают – занимаются политикой. Понятно, что хозяева закрывают предприятия. Торговцы прячут товары, никто не верит, что будет лучше. Наоборот… Кики нашла хорошего американца, он обещал взять ее в Нью-Йорк. А я попадаю на таких прощелыг, как ты…
Она зевнула. Бил хотел возразить, но увидел, что она уже спит. А ему не спалось. Он думал о картине, нарисованной девушкой. И вдруг вскочил: идея! Тотчас он составил телеграмму редактору:
«На фронте остался Грэффит. Предлагаю ряд сенсационных корреспонденций. Общий заголовок: „Красная петля на шее Франции“ – террор черни, экономический маразм, интервью – что думают деловые круги, политики, полиция, человек с улицы».
Девушке он дал, сверх того, что ей полагалось, пять долларов и «картон» сигарет – он любил в делах честность. Два дня спустя он получил поздравление от редактора.
Адвокат Гарей рассказал Билу, как FFI произвели обыск в квартире почтенного коммерсанта. Бил описал это ярко: ночью врывается в дом банда коммунистов, стаскивают одеяло с молодой женщины, глумятся над нею, разбивают фаянсовую статуэтку богоматери, уверяя, что внутри спрятаны доллары, уносят семейные драгоценности. Бил закончил статью словами: «Для того ли отдали свою жизнь герои из Огайо или Техаса?» Гарей рассказал ему о массовых арестах:
– В чем обвиняют тысячи людей? Не в криминальном акте, а в простой принадлежности к милиции или PPF. Это полное попрание законности. Со времени Робеспьера Франция не знала ничего подобного…
Бил рассказал своим читателям, как бледная девушка прощается с жизнью через тюремную решетку только потому, что ответила коммунисту: «Я никогда не пойду с вами. Мой идеал не произвол, а справедливость и свобода, которые царят в великой заатлантической республике».
Гарей познакомил Била с Пино: это был кладезь информации. Бил доказал сухими цифрами, как падает производительность из-за растлевающего влияния коммунистов. Он умеет заниматься и скучными делами, если от этого зависит спасение Европы, следовательно, благосостояние Америки. Теперь нужно дать что-нибудь живописное… Бил попросил Пино познакомить его с «забавным французом». Пино задумался: может быть, свести его с Лансье? Такой болтун для журналистов находка…
Несмотря на то, что с освобождения Парижа прошло полгода, Лансье не успокоился. Он даже понял, что никогда не успокоится – Марселина умерла вовремя: того, что было, не воскресить.
Выпадали тихие дни, когда Лансье вспоминал о своих коллекциях, улыбался табакеркам и негритянским божкам; однажды он сказал Марте:
– Ты знаешь, чего недостает «Корбей»? Суданского козла. Я понимаю, что теперь нельзя достать нового. Может быть, завести простую козочку? Они очень грациозны…
Минуты успокоения сменялись вспышками тревоги. До войны Лансье не выносил, когда при нем говорили о политике, а теперь он сам затевал споры, начинал вдруг кричать: «Необходимо отложить муниципальные выборы…» Марта его упрекала: «Чего ты волнуешься? Это не твое дело…» Он отвечал: «Ты меня не видела в счастливые времена. Говорят, что плохие деньги вытесняют хорошие. В моей голове политика вытесняет высокие мысли».
Завод работал три дня в неделю: не было ни сырья, ни топлива. Лансье роптал: почему жизнь не налаживается? Ему казалось, что война давно кончилась, бошей разбили. Не все ли равно, какой немецкий город взяли вчера американцы? Это может интересовать только военных. А вот здесь, в Париже, все идет из рук вон плохо. Люди не понимают, как они пережили зиму. Стояли сильные холода, угля не было. Теперь тепло, но повсюду очереди, женщины жалуются – не достать самого необходимого. На черном рынке цены растут. Рабочие говорят, что нужно положить этому конец. Ясно, что на муниципальных выборах выиграют коммунисты. Стоило ли героически сражаться против бошей, чтобы попасть под иго своих собственных азиатов?..
Когда Пино рассказал Лансье, что с ним хочет познакомиться видный американский журналист, Лансье покапризничал:
– Зачем? У них газеты еще глупее, чем наши. Будь это писатель – другое дело…
– В Америке печать играет большую роль, а мы заинтересованы, чтобы американцы знали о наших трудностях – только они могут нам помочь. Костеру рассказали, что в деловом мире нет человека более тонкого, чем вы, и он загорелся желанием с вами побеседовать. Примите его на час…
– На час? Ничего подобного! Я убежден, что он дикарь, как все его соотечественники. Я приглашу его к ужину, пусть он видит, что такое французская культура. Завтра к Марте приезжает младшая сестра Клер из Пуатье. Мы отметим это скромное семейное событие. Я рассчитываю, дорогой друг, на вас и на госпожу Пино…
Лансье начал составлять меню. Теперь это не так просто: все время приходится спрашивать Марту: «Можно достать?..» Впрочем, большой художник создает картину из ничего… Лансье остановился на рыбных кнелях и на фаршированной курице.
Он убрал стол цветами и скрещенными флажками: американский и французский. Клер вскрикнула:
– Как красиво! Можно забыть, что теперь такое ужасное время…
Это была хорошенькая веселая девушка, которая пять лет ждала счастья. Ее жених был в плену. Она служила в конторе и по ночам плакала. Бил сразу ее оценил, подумал – не будь работы, я занялся бы красоткой. Но я здесь не для забавы… Бил стал разглядывать хозяина: действительно колоритная фигура…
Лансье вдруг с грустью оглядел стол: вспомнил довоенные вечера. Разве можно сравнить Пино с Дюма или с Нивелем? Конечно, Нивель плохо кончил, но это все-таки не Пино, который способен только говорить о делах и проникновенно сморкаться. А этот американец… Я был прав, сказав, что они дикари. Пришел и сразу положил ноги на курительный столик. Выпил вино до еды, а кнели запивает ледяной водой. Ест и курит, это отбивает вкус… Зачем ему давать изысканные блюда? Он привык к своим консервам. А как он бесцеремонно хохочет! Невежда… Тот русский, что приходил перед войной, был куда тоньше, скромно себя вел, оценил мои миниатюры. А этот, когда я ему показал Рекамье, сказал: «Таких много в Нью-Йорке у актикваров, теперь они упали в цене – привозят из Франции, можно купить за пятьдесят долларов…» Варвар! Лансье, однако, не забывал о законах гостеприимства, был обходителен, подливал Билу вина, охотно отвечал на все вопросы.
– Мне сказали, что ваш сын погиб на фронте. Он был в армии Леклерка?
– Нет, он погиб в России. Я им горжусь…
– В России? Что же, он был коммунистом?
– Никогда. Он, как я, ненавидел политику. Он хотел освободить Францию от бошей. В Россию он уехал задолго до высадки. Я понимаю этот жест… И потом нельзя смешивать Советскую Россию и наших коммунистов. У русских свои национальные цели…
– Я был в России, – сказал Бил, – но тогда там никаких французов не было. Я видел русских, когда они защищали Москву. Это фанатики, которые любят свою землю, свой ужасный строй и какого-то князя, забыл имя, кажется Дмитрий Невский. Тогда многие думали, что русским крышка, но я написал, что русские ни в коем случае не сдадут Москвы. Вы говорите, что у них свои национальные цели? Согласен. Но, может быть, их национальные цели – захватить всю Европу? В Америке многие считают, что есть русская опасность… В штабе Брэдли мне говорили, что Монтгомери хочет обогнать русских и первым попасть в Берлин. Конечно, это несправедливо – англичане любят собирать плоды с чужого дерева. В Берлин должен войти Паттон или Ходжес. Но лучше – Монти, чем русские…
– Я думаю, что русские опередят всех, – сказал Лансье. – Может быть, у них ужасный строй, но воюют они артистически. Во время оккупации мы привыкли радоваться их победам.
– Понятно, – сказал Бил. – Мы тоже радовались. А вам было туго под немцами, а?
– Ужасно…
Лансье это произнес с глубоким чувством. Ему казалось теперь, что никогда он не страдал так, как в годы оккупации. Бил что-то записал, проглотил машинально кусок курицы, взял бутылку коньяку, которая была приготовлена к кофе, выпил большую рюмку и вдруг сказал:
– Наверно, вы делали дела с немцами. Здесь все делали дела…
Лансье обиделся:
– Я хотел бы посмотреть на американцев, если бы по Пятой авеню прошли немецкие колонны. Да, вначале я поверил Петэну. Вы ему тоже верили, ваш посол просидел в Виши два с половиной года. Я и теперь считаю, что Петэн честный француз. Я сражался под его командованием в Вердене. Он ошибся… Мы все сопротивлялись, как могли. Посмотрите на господина Пино. Это не юноша и не романтик, а он участвовал в сопротивлении с сорок второго, рисковал своей жизнью… И после этого вы нам кидаете в лицо такой укор!..
Бил дружелюбно ответил:
– Не нужно обижаться. Журналист это провокатор. Я говорю не то, что думаю, – я пересказываю глупости, распространенные в Америке, чтобы услышать ваше опровержение. Лично я очень люблю Францию, это, кажется, самая изящная страна, которую только можно себе представить… Я не понимаю одного, господин Лансье, как вы уживались в сопротивлении с коммунистами?
Ответил Пино:
– Союзников не выбирают, вы это знаете не хуже нас. Я могу вас спросить в свою очередь, как вы уживаетесь с большевиками? Напрасно в Америке думают, что коммунисты играли первую роль. Они мастера на рекламу. Достаточно вспомнить, что в сороковом году они сидели тихо, а начали кричать только после нападения Гитлера на Россию…
Бил записывал. Лансье хотел ему сказать, чтобы он попробовал козий сыр, который Марта достала с большим трудом. Но вдруг Лансье забыл обо всем: он начал ругать коммунистов. Он сам не давал себе отчета, почему он их так ненавидит, и приписывал это своим гражданским чувствам. Только однажды, когда Марта спросила его, боится ли он, что коммунисты отнимут у него завод, он тихо ответил: «Что завод? Они отняли у меня Мадо…»
Сейчас он кричал:
– Я видел этих «патриотов» в тридцать девятом, когда началась война! Они защищали русских. Я сказал тогда Лежану: «Вы не француз, вы татарин». Может быть, потом такой Лежан проповедовал войну против бошей, но я ему не прощу измены… Они хотят нажиться на крови мучеников, использовать развалины Орадура, чтобы набрать побольше голосов. Это одержимые, они рассекли надвое Францию, рассекли каждую семью. У меня сердце обливается кровью…
Пино рассказал Билу, что дочь Лансье – коммунистка, именно поэтому Бил так настаивал на встрече: это будет сенсационная корреспонденция – трагедия отца, убеленного сединами. Правда, Била несколько разочаровал внешний облик Лансье, но он быстро прикинул – в этом есть своя экзотика – жуир, который скрывает за улыбкой отцовские слезы… Пино запретил Билу ссылаться на него, если речь зайдет о дочери Лансье. Бил понял, что спросить нужно именно теперь, и сказал:
– Я видел в одной левой газете фото молодой красивой женщины с подписью «Маделен Лансье». Это не ваша родственница?
– Это моя дочь, господин Костер… (В голосе Лансье послышались слезы. Марта возмущенно поглядела на американца. Пино закашлялся. Клер сказала «здесь накурили» и встала, чтобы открыть окно.) Да, это моя дочь… Никого я так не любил. Кроме покойной Марселины. Она могла бы стать прекрасной художницей. Вот на стене ее первые работы… Марке сказал, что у нее талант… И ее отняли у меня коммунисты! Я не сомневаюсь в ее честности. Но между нами теперь пропасть. Когда она пришла сюда, я собрался с силами и прямо сказал: «Кто тебе дороже: отец или эти безумцы?..»








