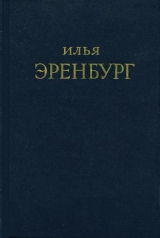
Текст книги "Буря"
Автор книги: Илья Эренбург
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 63 страниц)
19
Отряд не потерял ни одного человека, перебили около двадцати немцев, взорвали дом полковника, взяли много оружия и продовольствия. Выпив коньяку, Василенко размечтался:
– Кончится война, напишу пьесу – про партизан и про немца. Поглядели бы вы на этого Ширке!.. Обязательно напишу и пошлю на конкурс.
Вася улыбнулся:
– Ты потребуй, чтобы меня включили в жюри – первая премия обеспечена…
Гранату в дом полковника бросил Вася – настоял, что должен бросить именно он – за Ивана. И потом волновался: вдруг там никого не было? Конечно, Василенко видел, как к полковнику пришли гости, но могли в последнюю минуту куда-нибудь уйти…
Два дня спустя отправили в город Настю; она вернулась с хорошими вестями – капитан Губерт убит, полковник Шуммер тяжело ранен. Василенко огорчался, что не убили Ширке: «Я его знаю – это главный гад…» А Вася успокоился: немного их проучили…
Он не мог забыть Ивана: вместе провоевали год – Иван убежал из лагеря в Тростянце. Часто по ночам они беседовали. Иван, будучи студентом, изучал мировую литературу, помнил наизусть множество стихов, пересказывал прочитанные им романы. Вася называл его «живой библиотекой». А Вася говорил об архитектуре – о пирамидах и о московских особняках, о куполе Софии, который «держится, как на ниточке», и о небоскребах. Порой говорили они о своих сердечных делах. Иван был влюблен в одну студентку, которой нравился другой, усмехаясь, он повторял:
Эта старая история
Вечно новой остается…
Вася не знал, как рассказать о своем счастье, которое длилось всего одну ночь, но которое казалось ему длинным, сложным и непонятным; он иногда только выговаривал вслух милое имя.
В обычное время люди растут, взрослеют, стареют, подчиняясь ритму годов, и как о странностях говорят об одном, что в нем сохранилось много детского, о другом, что он до срока постарел. Душевный опыт, который отличает зрелого человека от юноши, приобретается медленно. Иначе складывается душевная жизнь в годы испытаний: люди тогда и теряют и приобретают необычайно быстро; исчезает понятие возраста, сердце одновременно и черствеет и становится особенно восприимчивым; мир сужается – холм для солдата, лес для партизана, и этот мир ширится, потому, что от обнаженности чувств, от ощущения кровной связи с другими человек начинает жить не одной, а многими жизнями.
Нине Георгиевне Вася казался чересчур простым. До войны он скорее приглядывался к жизни, чем жил. Разумеется, ему были знакомы трудности, лишения, но он не знал опасностей, искушений, того духовного лабиринта, в котором блуждали многие юноши Запада, обеспеченные и, казалось бы, счастливые. То, что представлялось матери простотой, было отрочеством, еще свободным от настоящих испытаний. Кажется, только Наташа чувствовала, что за внешней простотой Васи скрываются глубокий ум и большое сердце, но Наташа тогда была девочкой, и, чувствуя душевное богатство Васи, она его не осознавала. Теперь он часто думал: если увижу Наташу, она меня не узнает. Минутами он думал об этом со страхом: вдруг они окажутся друг другу чужими? Но сердце подсказывало: этого не может быть, они живут одним, поймут друг друга с полуслова. Он несколько раз писал ей, давал письма товарищам, которые пробирались на Большую землю, но не знал, дошли ли эти письма. С самолета дважды им сбросили оружие, табак, газеты, а почты не было. Он никогда не спрашивал себя: ждет ли его Наташа; знал, что после ночи в Минске не может быть ни у него, ни у нее ничего другого. В партизанском отряде были девушки, вокруг Васи разворачивались романические истории – влюблялись, ревновали, расходились. Близость смерти развязывала былые клятвы, стирала воспоминания. А Вася не мог себе представить другую женщину, кроме Наташи. Не раз он задумывался над силой своего чувства, пробовал над собой подшучивать, но стоило ему подумать – милая моя, курносенькая, как ирония пропадала.
Он стал прекрасным командиром, тщательно подготовлял операции, заражал бойцов своей храбростью. А в тихие вечера он продолжал думать о мирной жизни, возвращался в мыслях к своей работе, видел светлые ясные дома, вычерчивал на клочках старых газет, перед тем как их раскурить, планы будущих городов. Накануне войны его прельщали небоскребы. Теперь у него были сомнения: идея небоскреба родилась от желания преодолеть пространство. Чем больше машин, чем гуще сеть метро, тем наивнее нагромождение этажей – преодоление пространства останавливает прыжок камней вверх, Вася думал о городах, похожих на сады, о стиле эпохи, которая все еще ищет своего выражения – ведь не только заводы у нас и не только бетон!.. Архитектура прежде казалась ему индустриальным строительством, теперь все чаще и чаще он тосковал об искусстве. Развитие техники, думал он, идет такими темпами, что нет раздельных периодов, все переплетается. Чертовски увлекательно… И все-таки это иллюзия, – чем выше техника, тем выше и материальные потребности. Мы здесь страдаем от отсутствия электричества, партизаны двенадцатого года этих страданий не знали. Можно страдать от отсутствия охлажденного воздуха, оттого, что у тебя машина с шестью цилиндрами, а не с двенадцатью. Два года назад у немцев было больше техники, чем у нас. Почему же они не взяли Москвы? Теперь они придумали «тигры», и наши их лупят почем зря… Они пишут в своих газетах, что готовят какое-то «секретное оружие». Ничего это не изменит. У американцев тоже техника очень высокая, наверно и они что-то изобрели. Все это поражает, слушаешь в первый раз и раскрываешь рот. А решает дело другое – человек. Жалко, что нельзя дать анализ души. Вот Иван, или Аванесян, или Смирнов – наши советские люди, не выдающиеся, если угодно обыкновенные, никто о них не знает, кроме друзей, могли бы попасть в газету, это случайность, и я убежден, что душевно они несравненно выше наших противников…
Однажды они с Иваном заговорили о том, что лучше у нас и за границей. «Социальный строй у нас самый высокий, – сказал Вася, – следовательно в ряде областей мы впереди – в разрешении национального вопроса, в демократичности образования и так далее. А вот что у немцев лучше?..» – «У немцев, – Иван сказал это кисло, не хотелось ничего за ними признать, но условились – будут разбирать беспристрастно. – У немцев, судя по журналам, дома устроены удобнее». – «Ну, это деталь. А тебе, кстати, нравится их архитектура?» – «Не знаю. Я мало видел фотографий, и потом это твоя специальность». – «С индустриальной точки зрения, я предпочитаю Америку, а с художественной… Кажется, Акрополь еще никто не переплюнул…» – «У американцев автомобили лучше…» – «А у нас музыка…» – «Это уж от внутренней сущности…» – «Вот именно». Вася оживился: «Я тебе скажу коротко, что у нас лучше – человек; по-моему, это главное, человек может сделать машину, а нет машины, которая сделала бы человека…»
Этот разговор произошел незадолго до гибели Ивана. А сейчас Вася подумал: почти никого не осталось из старых товарищей, Смирнов, Лунц, Рудный и я – четверо… Я в партизанах два с половиной года. И почему-то все мы, как только начинаем говорить по душам, говорим о мирной жизни. Может быть, людям в тихом тылу кажется, что мы заняты одним – войной, что ничто больше нас не интересует, что мы превратились в героев Майн-Рида или Купера. А все проще и сложнее. Без напускной романтики… Иван, когда шел на операцию, говорил про свою Милочку, потом вспомнил, как смотрел «Три сестры», и сказал: «Чехова трудно понять в ранней молодости…» Это были его последние слова. Пришли газеты, все накинулись, обрадовались, что в Москве продолжают строить метро, спрашивали, что идет в театрах. Вероятно, в этом наша сила: деремся отчаянно, а остались мирными людьми…
Теперь как будто ждать недолго – наши наступают… И тотчас Вася отогнал от себя эту мысль. Слишком часто увлекался, думал – через месяц придут наши… Лучше об этом не думать, придут, когда должны притти. Мы теперь далеко, здесь до тридцать девятого была Польша… И все-таки он улыбался при мысли – Витебское направление…
В ночь на двадцать девятое декабря они произвели новую операцию. Васе сообщили, что в поезде едут какие-то важные немцы. Специалистом по минам считался Лунц. Нужно было замести следы на свежем снегу – немцы были настороже. Примерно в шестистах метрах от колеи залег Вася с товарищами. Когда раздался взрыв, немцы из задних вагонов бросились врассыпную. Застрочили пулеметы партизан. Ходил на операцию и новичок – Паша Кутас.
– Страшно? – спросил его потом Вася.
– Страшно, – ответил Паша.
– Ничего, так полагается. Потом привыкнешь… Мне и теперь каждый раз страшно, только привык…
– Как же страшно, если привык?..
– Вот именно так – привык к тому, что страшно…
Новый год встретили торжественно. Слушали речь Калинина и улыбались: хорошо! Сейчас и в Москве слушают… Часы бьют… Пили сначала за Сталина, потом за Красную Армию. Потом пили за каждого: Лосев (его называли «наш АХУ») припрятал три ящика с немецким ромом.
Встал Смирнов:
– Вытьем за жену нашего командира и за всех жен.
Вася заулыбался широкой улыбкой – за эту улыбку Наташа его прозвала «кот-мурлыка». С Новым годом, Наташа! Знаешь ли ты, что я жив? Бьется сердце, это так странно… В апреле осколок мины попал в руку, часики сломались. А сердце бьется… Та ночь продолжается, она была самой короткой в году, и она самая длинная, длиннее жизни. Милая моя, курносенькая!..
20
Дивизия, в которой служила Рая, перебазировалась, и письмо Осипа пролежало на полевой почте два месяца. Рая давно была готова к страшной вести; а накануне Нового года приехал военный корреспондент, побывавший в Киеве, он рассказал про Бабий Яр. И все же Рая еще надеялась. Сколько раз она говорила себе, не на что рассчитывать, но где-то таилась надежда – вдруг ушли в село или кто-нибудь их спрятал… Только прочитав письмо Осипа, она поняла, что Али нет.
Сержант Кузнецов, один из лучших снайперов дивизии, огромный молчаливый сибиряк, до войны был охотником. Он сам походил на лесного зверя, только глаза у него были ласковые и наивные. Однажды он сказал Рае: «Не знаю, как немца назвать? Если сказать „зверь“, медведь обидится. Медведь, когда сытый, разве он пойдет на человека? Никогда. А немцу лишь бы терзать…» Он трогал Раю своей непосредственностью, душевной чистотой. Никто в роте не узнал, что младший лейтенант Раиса Альпер получила дурные вести; а Кузнецову Рая сказала:
– Муж написал… Мать его убили и нашу дочку, Алю. В Киеве…
Голос ее не дрогнул; спросила Кузнецова, как у них в роте – все ли благополучно, и ушла. А Кузнецов долго думал – откуда у нее столько спокойствия?
Когда-то Рая могла заплакать от резкого слова Осипа, могла всплакнуть и без причины, объясняла Вале «на меня находит»… Да, тогда было всего вдоволь: и сна, и хлеба, и слез. Говорят, что горе сушит сердце, как засуха землю. Сердце Раи оставалось живым, отзывчивым, только теперь у нее не было ни слез, ни жалоб, ни той внешней печали, которая помогает человеку перейти от острого отчаяния к налаженным будням жизни. Разве, по тому, как бились ее ресницы, как глуше становились слова, можно было догадаться, что она переживает. Ее личное несчастье казалось ей самой и безмерным и маленьким; если для других жестокие дни боев перемежались мечтами, иногда фронтовой идиллией, иногда веселым смехом вокруг костра, то Раю не покидало ощущение общего горя, оно стояло над ней, как стоял красно-черный туман над горевшими селами Смоленщины. Она вспоминала, как в санбате умирал ее бывший напарник Костя Белов. Он был на пять лет моложе Раи, казался ей мальчиком. Умирая, он все говорил о какой-то девушке, улыбался ей сухими, темными губами, кричал: «Танечка, я сейчас, сию минуту…» Она вспоминала, как они нашли ров, а в нем лежали грудные дети с почерневшими сморщенными личиками. Вспоминала и другой день: пахали, женщина шла за старой, очень худой коровой; корова не выдержала, упала на борозду, натянулись постромки, в ее больших глазах были слезы, а женщина стояла рядом и тоже плакала…
Когда при Рае говорили «мы им отплатим тем же», она качала головой: нельзя отплатить тем же. Никогда немецкая мать не переживет того, что пережила она, когда узнала про Бабий Яр… «Мстишь?» – спросил ее как-то Белов. Она ответила: «Нет. Воюю». Она воевала, потому что не могла жить, пока не повергнуто то страшное, что газеты называют «фашизмом». И это ощущение необходимости, разумности войны ее поддерживало: люди дивились – хрупкая женщина, она выносила все тяготы окопной жизни лучше многих рослых и сильных. Два месяца она пролежала в госпитале – осколок мины попал в ногу, кость не была задета, но рана медленно срасталась. Она скрыла от Осипа, что была ранена. Когда она вышла из госпиталя, полковник предложил ей отправиться на курсы. Она отказалась, снова взяла снайперскую винтовку: «Нужно наверстать…» На ее счету теперь было пятьдесят три немца.
Наступление, которое началось в горячие дни июля, не прекращалось. То один, то другой фронт, прорывая вражескую плотину, устремлялся на запад; и когда бои затихали на юге, они вспыхивали на севере; они перекидывались с Днепра к Ильменю, из Новгорода в Ровно. Двинулся весь огромный фронт, но двигался он как бы порывами; враг не знал, где завтра разразится очередной удар. На участке, где стояла дивизия Раи, уже два месяца не было серьезных боев. Каждый день шумела артиллерия, бомбардировщики аккуратно скидывали свой груз, разведчики шарили по блиндажам противника. Создался свой распорядок: знали тихие часы, спокойные дороги – изучили привычки противника. Напарник Раи, Чубарев, говорил: «Наш сезон – снайперский…»
Был морозный ветреный день. Рая подумала: сегодня должен быть пятьдесят четвертый… Она сидела в теплой землянке, поджидала Чубарева. Вынула письмо Осипа и снова его перечитала. Вчера, получив письмо, она не могла думать ни о чем, кроме Али. Сейчас она чуть не вскрикнула: Осип!.. Она поняла все, что он пережил в Киеве; до нее дошли его горе, его любовь – невнятная, незаметная – и она ее не замечала, – большая, как жизнь. Рая почувствовала теплоту его дыхания, силу и вместе с тем детскую беспомощность его широкой костистой руки. Что ж это такое, ничего я не видела, думала – сухой, а каждое слово жжет… Искала любовь в книгах, а любовь была рядом. Как странно устроены люди, нужно столько страданий, чтобы понять самое простое!.. Ей стало бесконечно жалко Осипа – так может жалеть только любящая женщина большого и сильного человека, которого никому в голову не придет пожалеть. Вечером напишу, все напишу, чтобы он знал, что мы действительно вместе, может быть, не будет былой легкости, но будем с ним жить по-настоящему…
В землянку зашел капитан Цыганков из седьмого отдела. Он замерз, бил обледеневшими руками по груди, тяжело дышал; потом его полушубок сдался, запотел, и капитан блаженно улыбнулся. Он рассказал, что прислали передвижку – будут передавать фрицам обращение «Свободной Германии», ну и музыку, – чтобы слушали.
– Я летом был на таком вещании – на Калининском фронте. Фрицы обожают музыку… Там был один лейтенант – переводчик, он себя называл крысоловом, песенку сочинил, как он играет на дудочке, а фрицы выползают из блиндажей. Смешно…
До немецких окопов сто метров. Ночи теперь светлые – молодая луна, много снега…
Было тихо, и вдруг раздались сладкие, пожалуй, чересчур сладкие звуки. Это вальс Штрауса. Рая его играла… Она на минуту забылась – вспомнила Киев, счастье. Снег был зеленоватым. Вот бугорок и елочка – там у них НП… Еще один вальс, такой он грустный, что непонятно, как под него могли танцовать, под него бы плакать – у камина, с уютом, с носовым платочком…
Немцы открыли сильный огонь. Капитан Цыганков ругался:
– Не дали передать обращения…
Больше не было ни вальсов, ни тишины. Рая жадно вглядывалась вдаль.
– Пятьдесят четвертый. Пятьдесят пятый.
Пальцы отмирали. Длинные ресницы поседели от холода.
Капитан Цыганков не мог успокоиться:
– Фрицы здесь дикие. Даже Штраус не действует. Обращения не передали…
Кузнецов усмехнулся:
– Ну и не передали. Обойдутся без обращения.
– Нужно их переубеждать.
– Переубедишь ты таких разговорами… Вот она двоих переубедила, это точно.
Рая согрелась в землянке. Горело лицо; клонило ко сну. Прибежал вестовой, рявкнул:
– Товарищ младший лейтенант, вас полковник требует.
Тихо он добавил:
– Поздравить хочет. Вы можете лесочком пройти, в это время он никогда не стреляет…
Рая шла среди елок. Повалил неожиданно крупный снег, а ветер улегся. В голове Раи звенел вальс, грустный и глупый. Она не думала ни об убитых немцах, ни о предстоящей беседе с полковником. Ей казалось, что она идет с Осипом по святошинскому лесу – когда они только поженились, поехали в дом отдыха, там встречали Новый год… Осип держит ее за талию и ничего не говорит. А снег кружится, и кружатся в голове звуки. И тихо, так тихо, как еще никогда не было на свете.
Снаряд обломал несколько елок. Когда вестовой, который шел далеко позади, подбежал к Рае, она больше не дышала.
– Что за дурацкая случайность, – кричал полковник.
Потом он сам на себя рассердился: почему дурацкая?
Все здесь глупо и все логично – война… Вот девушку жаль. Хорошая была девушка.
Когда Раю хоронили, ее винтовку торжественно вручили снайперу Кузнецову. Он начал говорить твердо:
– Обязуюсь бить ненавистного врага…
Сорвался голос. Кузнецов заморгал и глухо, как будто говорил сам с собой, закончил:
– Большое горе у нее было – дите замучили. Никогда я этого не забуду…
Он поднял винтовку над головой, потом поднес ее к губам и бережно поцеловал.
21
Христине казалось, что она тяжело больна: двоилось в глазах, мучили то сердцебиение, то рвота. Лагерный врач Фуснер сказал:
– Ничего серьезного, возрастные явления и нервы, то есть критический возраст женщины плюс критическое положение Германии…
Он слишком много позволяет себе! Недавно он заявил Христине:
– Дантисты собираются удалять зубы через нос.
Она не поняла. Он объяснил:
– Никто не смеет раскрыть рот…
Несколько дней тому назад Христина была у своей старой подруги Энхен – праздновали выздоровление брата Энхен, Рихарда, который был ранен на Восточном фронте. Пришли родственники Энхен – чета Галле, недавно приехавшие из Берлина. Госпожа Галле, полная астматическая блондинка, кудахтала:
– Это такой ужас! Фриц заболел, его лечат синим светом, ничего нет удивительного – он подымался, а дом начал гореть, лифт застрял между этажами, Фрицу сказали, чтобы он спрыгнул, но у него отнялись ноги. Разве это не кошмар? Я купила ему ко дню рождения севрскую вазу, теперь невозможно найти в магазинах что-нибудь приличное, а это была замечательная ваза, ее привез один отпускник из Франции, он хотел пятьсот марок, отдал за полтораста, наверно она стоила тысячу. Доктор Винтер сказал, что она музейная, и, можете себе представить, ваза тоже пошла прахом!..
– Я не понимаю, почему допускают эти террористические налеты, – сказала Христина. – Наверно, есть конвенция… Господин Кирхгоф вчера сказал мне, что его шурина засыпало в подвале.
Рихард глупо рассмеялся:
– Засыпало? Бывает… Что касается меня, я предпочитаю все бомбежки мира русской артиллерии.
Заговорили о военных перспективах. Господин Галле сказал:
– Новости скорее грустные, но не нужно падать духом… Фюрер сказал, что его нервы выдержат, это главное.
Госпожа Галле поднесла платочек к глазам:
– Мои нервы уже не выдержали…
Рихард снова глупо рассмеялся:
– Фюрер сказал – быть иль не быть. «Вот в чем вопрос»… Я перед войной видел «Гамлета», мне не понравилось. Но, конечно, интересно, как все это кончится?..
– Кончится хорошо, – ответил господин Галле. – Русские напрасно рассчитывают на второй фронт. Союзники и в этом году не высадятся, полгода, как они топчутся между Неаполем и Римом.
Доктор Фуснер, который до этого молча уписывал свинину с кислой капустой, вытер рукой усы и ухмыльнулся:
– Вы думаете, что русским теперь нужен второй фронт? Ничего подобного!.. А вот один здешний коммерсант недавно мне преподнес: «Хоть бы они скорее высадились – пока нет красных…»
– Какой позор! – воскликнул господин Галле.
Рихард загоготал. Христина почувствовала, что ее душат слезы, и выбежала в переднюю.
Полтора года, как она служит в лагере. Ей опротивели и русские лица и русские песни. Будь ее воля, она всех бы убила… Некоторые из этих дикарок прикидываются послушными, одна даже заявила Христине, что хочет после войны остаться в Германии. Христина ей не поверила. Она не верит ни одной русской – все они хотят, чтобы немцев разбили. Достаточно поглядеть, как они радуются бомбежкам!.. Христина пробовала все – и била их по щекам и ласково разговаривала. Ничего не помогает: они ее ненавидят. И Христине страшно: если красные ворвутся в Германию, эти девки ее задушат.
Особенно возненавидела Христина Галочку. Эта певунья – зачинщица, ее слушаются, она подбивает других. Девушка в таком положении должна быть грустной, а Галочка вдруг начинает смеяться. И ко всему, она нравится мужчинам… Однажды Христина пришла на завод – господин Кирхгоф попросил послать к нему на постирушку рыжую Олю. Был перерыв. На ящике сидела Галочка, а рядом с нею француз. Христина невольно им залюбовалась: как нарисованный – тонкий овал лица, орлиный нос, черные блестящие глаза… Молодые люди были увлечены разговором и не заметили Христины. Она не понимала, о чем говорит француз, но говорил он так восторженно, так необычайно, что она замерла. Наверно, объясняется в любви… Ох, эти французы, они действительно сумасшедшие! Разве может немец так разговаривать? Густав, даже когда мы считались женихом и невестой, говорил обстоятельно, спокойно… Этой девчонке везет. Ну что в ней хорошего? Нос, как пуговица… Христина раздраженно крикнула:
– Что вы здесь делаете?
– Сейчас перерыв, – спокойно ответила Галочка.
Христине хотелось ее ударить, но она сдержалась: достаточно, что ее ненавидят русские, зачем обращать на себя внимание французов?..
Галочка часто себя спрашивала с целомудрием и взыскательностью девушки: что у нее с Пьером – дружба или больше?.. Никогда они об этом не заговаривали; встречались только на людях; порой Пьер украдкой гладил руку Галочки, шептал «милая». Она его называла Петей. Он научился говорить по-русски, коверкал слова, но говорил бойко. Иногда в воскресенье им удавалось встретиться на берегу чахлой мутной речки, радужной от масла. Не было там ни деревьев, ни птиц – только шлак, каменные стены, копоть, но эти прогулки казались им восхитительными; с понедельника они начинали гадать, удастся ли встретиться в следующее воскресенье.
Пьер знал, что полюбил Галочку. Знал и другое: он недолго протянет. Врач-француз откровенно сказал ему: «Одно легкое кончено. А при этих условиях…» Смерть в лагере многим казалась избавлением; но Пьеру было трудно умирать – только теперь он узнал, что такое жизнь.
До войны Пьер мало задумывался над окружающим: он брал слегка иронический тон, когда при нем говорили, что нужно переделать общество. «Чем больше все меняется, тем больше все остается по-прежнему», – повторял он любимую поговорку отца. Доктору Морило удалось внушить сыновьям, что скептицизм – признак зрелости; порядочный человек презирает существующие порядки и вместе с тем понимает, что лучше не будет. Старший брат Рене иногда спорил с отцом. А Пьер не успел ни в чем разобраться – когда разразилась война, он был мечтательным и смешливым подростком. Да и война вначале показалась ему нелепой игрой; одни уверяли, что Даладье защищает человеческие ценности, другие возражали – Все это комедия, дело в рынках, в сырье.
Школой жизни для Пьера стал плен. Это была тяжелая школа. Люди в лагере постепенно опускались, проступало все худшее, что было в них заложено. Были циники, они говорили: «Лишь бы выжить. А Петэн или республика – это все равно». Были подлецы, готовые в любую минуту предать товарищей. Были мечтатели, в голодные и холодные ночи они вспоминали идиллию довоенной Франции – беседки на Марне, где рыболовы срывали жасмин, а влюбленные ели жареных пескарей. Были легкомысленные, готовые утешиться домашней колбасой, пересланной через «Красный Крест», или поспешными ласками немецкой солдатки. Почти никто из пленных не участвовал в боях; из войны они узнали одно – колючую проволоку лагеря.
Для Пьера Галочка стала источником жизни; его поддерживало глубокое душевное веселье этой девушки, гордой и скромной. Когда она рассказала, как переписывала старую листовку в Киеве, он задумался: «Да, так стоит жить…» Она часто его просила: «Расскажи что-нибудь. Ты столько знаешь…» Он много читал, помнил прочитанное, увлекательно пересказывал содержание романов, говорил о различных странах, как будто побывал там. Порой ей казалось, что она студентка, а Пьер профессор, хотя она была на пять лет старше его. Однажды она сказала:
– Ты куда больше знаешь, чем я.
Он ответил:
– Может быть… Но ты знаешь большее.
Они шли вдоль черной речки. Дул зимний резкий ветер. Пьер был грустный, кашлял. Галочке хотелось его утешить, она сказала: «Мне с тобой хорошо, Петя». И покраснела. Он ответил: «Мне тоже…»
А в понедельник он не пришел на завод. Он скрывал от Галочки свою болезнь. Она иногда спрашивала, что с ним – он кашлял, стоило ему поднять что-нибудь тяжелое, как он покрывался потом. Он отвечал: «Ничего. Затяжной бронхит…» Он не пришел и на следующий день. Только теперь Галочка поняла, как к нему привязалась. Что с ним? Болен? Или немцы перевели его в другой лагерь?..
Несколько дней спустя товарищ Пьера Роже сказал:
– Пьер в лазарете, я его видел, он просил передать тебе, чтобы ты не волновалась…
У Роже был озабоченный вид, и Галочка поняла, что Пьеру плохо. Жизнь сразу помрачнела. Ночью, убедившись, что все спят, Галочка уткнулась лицом в подушку и долго плакала. Она не могла показать свое горе, знала, что должна быть бодрой: если и хохотуша раскиснет, что станет с другими?..
Два года неволи сделали свое дело; все чаще и чаше можно было увидеть в бараке заплаканные лица. Напрасно Галочка доказывала, что терпеть недолго. Прежде многие получали от родителей открытки, теперь, когда Красная Армия освободила почти всю Украину, оборвалась последняя связь, родной дом казался еще дальше.
Через день в барак приходила фрейлейн Штроссенройтер, рижская немка, с огромным угреватым носом. Она рассказывала, что на Украине не осталось ни одного дома, говорила: «Большевики кончаются».
До болезни Пьера Галочка регулярно сообщала девушкам новости: французский врач слушал лондонские передачи. Теперь все стало сложнее: Роже работал в другом цехе, и он никак не мог запомнить названия русских городов. Галочка ему строго сказала:
– Узнай все в точности. Если ты друг Пьера…
Христина последние дни стала несносной. Она подарила девушкам какие-то пуговицы из пластмассы, плакала, говорила, что их любит. И в тот же вечер накинулась на Варю, обвинила ее в краже пудреницы, избила. Пудреницу она нашла потом в своей комнате и, чтобы сгладить впечатление от тяжелой сцены, сказала Галочке:
– Почему бы вам не устроить в свободный вечер маленький концерт? Позовите девушек из других бараков, я не возражаю. Можете спеть или подекламировать. Выберите день рождения какой-нибудь девушки и скромно отпразднуйте.
Галочка сразу ответила:
– Хорошо.
Она предложила девушкам отпраздновать День Красной Армии.
– Христина взбесится, – сказала Варя.
– Она не поймет, да мы и не будем ничего говорить, просто отметим дату…
Убрали барак. Спели несколько песен. Христина сидела, одобрительно кивала головой. Песни были печальные, они вязались с настроением Христины: она думала – убьют, и никто меня не пожалеет…
Галочка хотела рассказать девушкам из других бараков про наступление Красной Армии – Роже на этот раз не подвел. Она стала читать стишки:
Есть карта, на ней значатся
Новгород, Пушкин, Луга, Гатчина.
Город Гдов на Чудском озере,
Именинница в Кировограде и в Мозыре,
В Сарнах, в Смеле, в Ровно, в Луцке,
Скоро в Одессе дождутся,
А сейчас именинница
Возле самой Винницы…
Девушки смеялись. Одна, не выдержав, вскрикнула:
– Маму освободили!..
Христина ничего не понимала; глядя на веселые лица девушек, она сердилась. Чего им радоваться? Такое страшное время, брат Энхен, мужчина, солдат, и тот не выдержал – на вокзале заплакал… Опять эта Галочка их рассмешила. Нахальная тварь!..
– Что вы читали?
– Поздравляла именинницу.
– А кто у вас именинница?
Некоторые девушки прыснули. Галочка серьезно ответила:
– Я.
Христина сдержалась, и вечер закончился благополучно. Всю ночь Христина не спала. Эти мерзавки празднуют наше несчастье!.. И я должна с ними жить. Какой ужас!.. Все клокотало в ее сердце. Гроза разразилась два дня спустя. Неожиданно Христина обрушилась на маленькую Настю. Эта Настя была хромой, ходила с палкой; непонятно было, зачем ее привезли в Германию. Она всегда ковыляла позади. Христина крикнула ей: «Живее!» Настя тихо ответила: «Не могу». Тогда Христина выхватила из ее рук палку, начала избивать девушку. Галочка, не помня себя, подбежала к Христине и ударила ее по лицу.
Галочку отвезли в тюрьму. Она сидела в темной камере и мечтала: Пьер поправится, придет Красная Армия, они поедут вместе в Киев… Она не знала, что ее ждет: начальник лагеря кричал, что ее расстреляют, а надзирательница сказала с усмешкой: «Ты еще пожалеешь, что тебя здесь не прикончили…» В тюрьме она просидела недолго. Когда ее увозили, в сборной она увидела Роже, на руках у него были наручники. Он успел сказать:
– Меня арестовали – я обругал их офицера… Пьер умер двадцать шестого. Накануне я у него был. Он сказал, когда увижу тебя, передать – он о тебе думает, желает вернуться на родину, и потом он сказал, что русские взяли еще один большой город, я забыл какой…
Галочка не узнала, что, умирая, Пьер повторял ее имя; он так и не научился его выговаривать, шептал: «Гальошка… Гальошка…»








