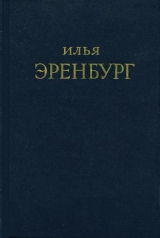
Текст книги "Буря"
Автор книги: Илья Эренбург
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 63 страниц)
27
Мари сияла – профессор Дюма был неузнаваем, он с аппетитом съел две тарелки лукового супа, сказав «исключительно вкусно», потом надел пальто и отправился гулять. Прежде, как Мари ни уговаривала его подышать свежим воздухом, он отказывался, говоря: «Никакого свежего воздуха больше нет – все ими провоняло…» А сегодня сам сказал Мари:
– Пойду посмотрю, что в городе делается. Теперь даже приятно на них посмотреть. Пусть ходят… Скоро их всех закопают.
Хотя Дюма по меньшей мере десять раз объяснял Мари, что произошло у Сталинграда, перемену в его состоянии она приписала своим молитвам. Ее очень огорчало, что профессор не выходит, почти не кушает, все время курит, а доктор Морило сказал: «У него сердце того…» Каждое воскресенье Мари молилась, чтобы богородица спасла профессора. Конечно, Мари не рассказывала об этом Дюма – знала, что он ее засмеет. Ничего смешного тут нет, хоть он и ученый, а этого не понимает…
Дюма понравилось все: и свежий прозрачный день, и детишки, прыгавшие на мостовой, и старик, который прогуливал плешивую собачонку. Проходя мимо церкви, где по воскресеньям молилась за него Мари, он увидел много народу – немецкие офицеры, полицейские, какие-то господа в черном, «серые мыши», француженки. Наверно, хоронят важного немца… Нельзя отказать покойнику в находчивости: он не стал дожидаться исторического возмездия… На паперти толпились зеваки. Дюма спросил:
– Кого это хоронят?
Кто-то ответил:
– Панихида по европейским защитникам Сталинграда.
Дюма не читал газет, о событиях знал по радиопередачам из Лондона и Москвы; поэтому слова «европейские защитники» показались ему чрезвычайно забавными. Он еле сдержался, чтобы не рассмеяться.
– Положим, не по европейским, а по немецким, – сказал он добродушно. – Я, например, тоже до некоторой степени европеец, генерал Рокоссовский тоже не азиат и не американец…
Он пошел дальше, весело пыхтел трубкой. Хотел бы я сейчас поглядеть на того, с позволения сказать, коллегу! Говорил я ему, что это плохо кончится… Они еще будут просить, чтобы мы заступились: «Наука… цивилизация… гуманизм…» Как человек развивается, это много раз описывали, интересно описать другое – как он молниеносно глупеет…
Эго был первый выход Дюма после двух месяцев болезни и хандры. Он решил проведать Лео. Консьержка его остановила:
– Они уехали… За господином Альпером пришли. Позавчера снова справлялись, не знаю ли я, где он…
– Чорт знает что! – зарычал Дюма. – Панихиды по себе служат, а еще хотят погубить порядочного человека. Упыри!..
Консьержка затряслась:
– Ради бога, тише!.. Здесь живут и такие, что лучше, если бы они не жили…
От недавнего благодушия не осталось следа. Дюма был в ярости; хотелось схватить первого встречного немца и, не дожидаясь, как история рассудит, швырнуть его в Сену.
С набережной он свернул в узкую старую улицу и вдруг увидел на стене «Сталинград» – кто-то написал мелом. Дюма засмеялся: все видят, что им крышка… Лео во-время уехал – эти господа хлопнут дверью… Давно не приходила Анна, уж не случилось ли чего-нибудь?.. Хоть бы скорее высадились! Очень хорошо, что они взяли Триполи, но о Париже тоже стоит подумать… После Сталинграда немцы не подымутся, это была генеральная репетиция… Красивый дом, триста лет такому, не меньше. Здесь скептик в парике читал последнюю книжную новинку – «Кандида». Якобинцы клялись: «Свобода или смерть». И такой город наци хотели превратить в кафешантан для своей солдатни!.. Дюма снова увидел на заборе «Сталинград». Кто-то покрыл все фасады домов, все заборы надписями. Мане, такел, фарес – взвешено, подсчитано, разделено…
Профессор вернулся домой веселый, рассказал про все Мари. Она не знала, можно ли высмеивать церковную службу, но Дюма так заразительно смеялся, что и она улыбнулась.
А Дюма сел в кресло, покрылся одеялом (угля не было) и решил перечитать «Остров пингвинов». Читая, он громко смеялся, и Мари, которая в соседней комнате вязала, всякий раз вздрагивала. Профессор выздоравливает, подумала она и, счастливая, уснула.
Позвонили. Дюма удивленно поглядел на часы: половина двенадцатого… Он открыл дверь. Вошли два немца – лейтенант и фельдфебель, между ними юлил юркий полицейский в бежевом, не по сезону легком пальтишке. Полицейский спросил:
– Здесь живет господин Дюма?
– Я самый…
Начался обыск. Мари плакала. Дюма спокойно курил трубку, как будто происходящее не имеет к нему никакого отношения. Лейтенант наблюдал; трудились фельдфебель и полицейский. Перед полками с книгами они растерялись – не пересмотришь и за неделю…
– У вас слишком много печатного хлама, – раздраженно сказал полицейский.
Дюма пожал плечами:
– Такая профессия. Как это вам ни странно, но я не сыщик, а профессор.
Фельдфебель удивленно поглядел на Дюма и начал его именовать «господин профессор». Это разозлило лейтенанта, он сказал:
– Такие профессора у нас чистят нужники.
Дюма зевнул и стал глядеть, как короткий толстый фельдфебель, который взлез на табуретку, скидывает книги с верхних полок. Пыль щекотала нос.
Профессор чем-то раздражал лейтенанта. Старый шут!.. Таким именно лейтенант представлял себе карикатурного француза – неряшлив, обсыпан пеплом, все высмеивает, воображает, что он ученый, и осмеливается выступать против страны, которая дала миру Лейбница, Канта.
Стаскивая огромные тома старой энциклопедии, фельдфебель потерял равновесие, упал. Дюма засмеялся.
– Скоро вы заплачете, – сказал лейтенант. – У вас будет достаточно времени, чтобы подумать о своем ничтожестве и о мощи Германии.
– Я об этом достаточно думал, – ответил Дюма. И неожиданно для самого себя спросил: – Скажите, вы на панихиде по себе не были?..
– Не понимаю.
– Сегодня ваши служили панихиду по так называемым «европейцам», вот я и спрашиваю…
Лейтенант закричал:
– Вебер, уведите его! Обыск закончит Ришар…
Мари вцепилась в полицейского (немцев она боялась):
– Что вы делаете? Профессор болен, он сегодня в первый раз вышел… У него слабое сердце, можете спросить доктора Морило…
Дюма улыбнулся.
– Соберите мне немного белья, Мари. Может быть, и не понадобится, это на всякий случай. И не огорчайтесь. Если бы меня забрали осенью, я сам огорчался бы. А теперь я совершенно спокоен…
– Куда вы его ведете? Он болен! – кричала Мари.
Дюма ее обнял:
– Все будет хорошо. Только не огорчайтесь…
Когда Дюма увели, в квартире остался полицейский – ему поручили закончить обыск. Мари его спросила:
– Вы что – марселец?
Он нехотя ответил:
– Нет, тулузец.
– И вам не стыдно? Где ваша мама вас родила – в Тулузе или в Берлине?
– Помалкивай! А то я тебя тоже посажу под замок.
Мари обливалась слезами. Вдруг она вспомнила, как профессор ей рассказывал про Сталинград: там перебили столько бошей, что трудно сосчитать, то есть профессор знает, сколько, он говорил, но она забыла, во всяком случае, очень много. И хорошо сделали. Нужно их всех перебить. Особенно этого офицерика. Как он смел кричать на профессора?.. Мари начала молиться. Никогда она так не молилась, понимала, что это грех, и все-таки повторяла: «Господи, сделай, чтобы они все сдохли! Господи, сделай, чтобы этого негодяя завтра убили! Господи, сделай, чтобы в Париже было, как в Сталинграде!»
Дюма думал, что его будут допрашивать, приготовился к ответам. Может быть, сообщили, что он против преследования евреев – услышали на лестнице в доме Лео или донес Нивель? Он скажет: «Не отрицаю. Я антрополог, а ваши теории – бред. Мне сейчас обидно, что я не еврей – вы сделали из желтой звезды настоящий орден мученичества». А может быть, донесли, что он болтал сегодня на паперти? В таком случае он ответит: «Генрих Четвертый говорил, что Париж стоит молебна, очевидно, Гитлер считает, что Сталинград стоил панихиды…»
Заспанный фельдфебель спросил: имя, возраст, место рождения, профессия? Девушка с локонами стучала на машинке, крикнула: «Фамилию – по буквам…» У Дюма отобрали ручку, часы, лекарство от головной боли; трубку ему оставили, но табак немец взял себе. Потом его отправили в тюрьму Френ. Камера была темной, Дюма ее обследовал. С трудом он разобрал выцарапанные булавкой или ногтем надписи:
«Умираю за Францию. Жан Мутье. 19 ноября 1942»,
«Остерегайтесь Шартье – предатель»,
«Передайте госпоже Дорьяк в Блуа, что ее сын вел себя, как нужно, и обнимает ее перед смертью».
Дюма почувствовал, что он не один, с ним погибшие. Шартье? Да ну его!.. А вот Мутье или Дорьяк – это настоящие люди. Если есть такие, не страшно умереть…
На следующее утро Дюма прислушался к смутному гулу. Постепенно он начал разбирать слова. Заключенные переговаривались друг с другом через форточки. Это было запрещено, но люди, которые ждали смерти, не останавливались перед наказаниями. Дюма внимательно слушал. Малыш говорил с Рене, Пьер с Чижиком, Серж окликал Бондаря, а тот не отвечал… Какие у них странные прозвища!.. Они рассказывали о допросах – Малыша снова пытали; вспоминали прошлое: «Чижик, помнишь, как мы заблудились в лесу»; передавали важные известия – Виктора расстреляли, нужно остерегаться Диди… Дюма понял, что все эти люди связаны общей работой. Он почувствовал себя посторонним, загрустил. Потом он услышал:
– Эй, новичок!.. Как ты назвал себя на допросе?
– Профессор Дюма.
– Где тебя взяли?
– Дома. Я сидел и читал, пришли два боша, полицейский, раскидали все книги.
В ответ наступило молчание. Дюма обиделся: если я не из их организации, значит, со мной и говорить нельзя? Должны понять, что я не сволочь, раз я здесь…
– Профессор! Какие новости на воле?
Дюма оживился, подробно рассказал про Сталинград. Немцы служили панихиду. Он загрохотал:
– Называют себя «европейцами», этакие кретины!..
– Тише, не нужно кричать… А это действительно смешно – панихида…
Вдали гудело: «Сталинград» – сосед передавал соседу рассказ профессора.
Потом все замолкли. В камеру Дюма вошел немец, крикнул: «Встать!» и ударил профессора по лицу. Когда немец ушел, Дюма прикрыл глаза рукой, подумал: вот и пришли дни испытаний… Он стар, тело может не выдержать. Зато есть у него преимущество: хорошо изучил себя, знает, что не станет на колени, не попросит пощады. Наци для него огромные насекомые. Такой может умертвить, унизить такой не может…
– Профессор!..
Он подошел к окну, напряг слух.
– Профессор, передает Жорж, он – студент, слушал ваши лекции. Он передает, что его приговорили к расстрелу. Передает привет… Погодите, он продолжает… Он передает, что гордится тем, что вы здесь…
Хорошо, что сейчас нет поганого немца, подумал Дюма, он решил бы, что это он меня довел до слез… Я, наверно, никогда не узнаю, кто этот Жорж. Сидел в аудитории среди других… Его приговорили к расстрелу, а он передает привет, хочет меня приободрить… Здесь кончаются возможности палачей: они не могут приговорить ни к низости, ни к бесчестью…
Все-таки хороший народ!.. Говорят, что Франция протухла… Есть в этом правда. Меньше единства, меньше силы, многие разжирели… «Мы, Филипп Петэн»… Нивель пишет про Персефону… Шартье или Диди предатели… Но сколько таких?.. Есть у французов одно достоинство – человечность. Да, да, мы человечны и в геройстве, и в слабости, и за едой, и с женщинами, и на баррикадах. Я работал с англичанами, норвежцами, с Гомесом. Они, может быть, чище, сильнее, благороднее. А человечней, пожалуй, мы. Что бы фашисты ни писали, есть человеческое достоинство. Именно поэтому Жорж спокойно ждет смерти. Да и я здесь поэтому. Могла быть вместо меня Мари… Тот, кто написал на стене «Сталинград», думал не о мести, не о реванше, не о славе, не о тех конференциях, где после войны будут торговаться и блефовать, он думал о достоинстве, о том, что человека нельзя раздавить железом. Тело можно раздавить, а сущность нет.
И Дюма улыбался такой улыбкой счастья, что немец, который поглядел на него в волчок, уныло подумал: старик от страха рехнулся…
28
Когда майор Шеффер месяц назад сказал Ширке: «Вы преувеличиваете значение сталинградских боев», – Ширке ответил: «Я не люблю играть в прятки. В тридцать втором году католики и социал-демократы уверяли, что не следует преувеличивать значения победы наци. В тридцать восьмом парижские газеты писали, что Судетская область ничто по сравнению с мощью объединенных Франции и Великобритании. Нужно глядеть правде в глаза. Я верю в гений фюрера. Наступают месяцы проверки, до сих пор мы завоевывали, теперь мы должны воевать…»
Февральское сообщение ошеломило многих, но не Ширке – он был к нему подготовлен. Он считал, что многие командиры рейхсвера, обладая и знаниями, и опытом, лишены того, что он называл «нервом войны». Для некоторых генералов фюрер – выскочка, случайная фигура, они живут в прошлом, поклоняются уставу, идут в поход с грузом академических формул. Такие люди думают, что теперь, как в девятнадцатом веке, происходит поединок двух армий, что будут победители и побежденные, мирные переговоры, компромисс. Вздор! Немецкий народ все поставил на карту – он или будет господином, или попадет в рабство. Мы воспитали молодежь, динамичную, смелую, свободную от предрассудков, эта молодежь и теперь, после сталинградской катастрофы, способна победить. Нужно только убрать из армии старых интриганов, мягкотелых и двуличных!
Нелегко было Ширке работать во Франции; он понимал, что нужно маневрировать, любезничал с покойным Берти, льстил Нивелю, не скупился на комплименты и улыбки. Рассказывали, что у него на письменном столе стоит бронзовая статуэтка Жанны д'Арк. В душе он ненавидел французов. Они говорят с дрожью в голосе «дорогой господин Ширке», а сами мечтают – как бы вздернуть этого боша на фонаре… Он не обольщался иллюзорным спокойствием. Франция косит – один глаз смотрит на запад, другой на восток. Они готовы перегрызть друг другу горло, одно их объединяет – вражда к Германии. Когда Шеффер с возмущением рассказал, что «французики распустились» – на доме, где он живет, написали «Сталинград», Ширке усмехнулся: «Надеюсь, это не помешало вам спать?» Такой Шеффер наверно трясется. Меня не удивит, если в трудную минуту он попробует перестраховаться…
Ширке знал, что он не изменит фюреру. Его жизнь до того, как он примкнул к движению, была тусклой и неинтересной. С фюрером он узнал вкус победы, пригубил вино власти. Ширке презирал человеческие взаимоотношения, основанные на недомолвках, на дружбе, на зыбком песке увлечений или отталкиваний. Человек должен или приказывать, или повиноваться. Полковник Байер приказывает Ширке, Ширке приказывает Иенчу или Форсту.
Он считал себя идеалистом. Однажды жена спросила его, правда ли, что в Польше убивают всех евреев, даже детей. Он ответил: «Подробностей я не знаю, этим занимается другое ведомство, но мне говорили, что на Востоке есть города, уже очищенные от евреев. Я понимаю, как тяжело ликвидировать детей, но это необходимо – нужно уметь корчевать до того, как сеять. Через двадцать лет человечество будет благословлять тех, кого либералы теперь называют палачами…» Госпожа Ширке сказала: «Ты прав». Она всегда соглашалась с мужем, когда речь шла о вещах, которые ее не затрагивали. Зато она была непримирима в денежных делах. Ширке ни в чем ей не отказывал, но она изводила мужа упреками, что он живет слишком широко и ничего не откладывает на черный день. Напрасно он пытался ей объяснить, что, если действительно настанет черный день, им не помогут никакие сбережения. Она отвечала: «Нельзя быть таким эгоистом, ты должен подумать обо мне, о Гансе». Госпожа Ширке сделала все, чтобы удержать сына от политики, воспитывала его, как девочку, а потом знакомила с хорошенькими дочками солидных людей, надеясь, что они сделают то, чего не сумела сделать мать. Но эпоха оказалась сильнее госпожи Ширке, и Ганс, восприняв идеи своего времени, попал в эсэсовскую дивизию.
В начале февраля Ширке получил письмо от жены, она писала:
«Часть, в которой находится Ганс, отправляют к тебе, говорят, что на их долю выпадет отразить десант союзников. Это ужасно. Ведь все это дети, как Ганс! Я готова наложить на себя руки».
Ширке сам не раз в ужасе думал: Ганса скоро отправят на фронт. Получив письмо жены, он обрадовался – хорошо, что не в Россию… Неизвестно, когда союзники высадятся. Да и война здесь не будет такой беспощадной… Мальчику повезло. Жене Ширке написал:
«Я удивляюсь твоим жалобам, все немецкие матери в равном положении. Если бы наш Ганс оказался среди защитников Сталинграда, мы могли бы гордиться, что дали родине и фюреру героя».
Он надеялся повидать вскоре сына. Все сложилось иначе. Был ветреный февральский день. Ширке завтракал с Пино. Он пожалел, что Берти умер, с тем было интересно и поспорить… А Пино не возражал, сухо говорил, что «промышленники вполне удовлетворены, осуждают террористов»… Так они все говорят. Но что у него в голове?.. Ширке заговорил о Сталинграде:
– Это тяжелый удар. Для нас и для всей Европы.
Пино соболезнующе вздыхал, не высказывая своего мнения. Когда Ширке поставил вопрос в упор, Пино ответил:
– Вы сами понимаете, что я не могу сочувствовать коммунистам. Для этого я прежде всего недостаточно обездолен жизнью…
А когда они пили кофе, Пино сказал:
– Действительно тяжелый удар – двадцать ваших дивизий, не считая румын, это серьезные убытки, не знаю, как вы выйдете из положения…
Слово «убытки» разозлило Ширке – торгаш! Но он не подал виду, улыбнулся:
– Такую цифру дают красные. Я вижу, что вы слушаете Лондон… Удар, как я вам сказал, тяжелый. Но летом мы должны отыграться… Нужно во что бы то ни стало остановить большевиков. Иначе они придут не только на Шпрее, но и на Сену…
– Мы надеемся на вашу армию, – поспешно сказал Пино (он упрекал себя за неосторожность).
После завтрака Ширке отправился на службу. Майор Шеффер ему сказал:
– Вас вызывал полковник.
Шеффер догадывался, в чем дело, и соболезнующе глядел на Ширке.
Выйдя из кабинета полковника, Ширке был спокоен, но озабочен.
– Меня посылают на Восток.
Шеффер вздохнул:
– Да, это тяжело… Все-таки вы не юноша…
– Напротив, я очень рад. Здесь теперь нечего делать. Французы способны только пачкать стены мелом… А в десант я не верю, они повернут на Балканы или в Италию… Другое дело Россия, там положение действительно трудное.
– Полковник сказал вам, какое назначение?
– Он сам не знает. Сейчас перебрасывают туда все, что можно перебросить… Я должен направиться в Минск в распоряжение генерального комиссара Кубе.
Оставшись один, Ширке подумал: жаль, что не увижу Ганса. Может быть, никогда не увижу… Он – солдат. А я еду в Россию, там фронт повсюду…
Ширке вышел на балкон и, хотя было холодно, долго глядел на Париж, задернутый легким туманом, серый, старый, печальный. Ширке глядел на город, в котором прожил много лет, как на номер гостиницы. Его мысли были далеко – в заснеженной России. Красные идут от Курска дальше. Но полковник говорил, что фон Манштейн собрал сильный кулак… Трудно, очень трудно победить. Но мы – немцы и своего добьемся…
На балкон выбежал Шеффер:
– Сейчас позвонили, что на авеню Ваграм возле вашей квартиры террористы застрелили лейтенанта-отпускника. Средь бела дня!.. А вы говорили, что они способны только пачкать стены…
– Это они меня провожают, – усмехнулся Ширке.
Он отнесся безразлично к выстрелу на авеню Ваграм: это больше его не касается. И что значит один лейтенант после Сталинграда?.. Он сказал Шефферу:
– Если вы не возражаете, я поеду домой, мне нужно приготовиться к отъезду.
Он еще раз взглянул на Париж, который медленно погружался в темнолиловые сумерки. Меня здесь не любили, и я их не любил. Так лучше. Мы должны освободиться от всяких чувств, тогда победим…
29
Новый год Герта встретила неплохо: был брат Фридрих, приехавший из Норвегии в отпуск (он привез теплый свитер, перчатки Рудди, анчоусы, шоколад), были Френцели. Альфреда Френцеля снова признали негодным – у него не хватало на правой руке трех пальцев. Прежде Герта жалела Марту; все-таки некрасиво, когда муж, здороваясь, подает левую руку. А Марта оказалась в выигрыше – она не должна беспрерывно волноваться. Герта давно не получала писем от Иоганна. Если она все же сохраняла спокойствие, а под Новый год даже выпила и развеселилась, то не потому, что Иоганн ее предупредил «с письмами будут перебои», и не потому, что Фридрих говорил «на войне не до супружеских обязанностей», – Герта верила в счастливую звезду Иоганна. Прошлой зимой он участвовал в страшных боях за Москву и даже не отморозил ног… А в одном из последних писем Иоганн успокаивал жену: «Я почти в Азии, но это – юг и здесь куда теплее, чем было прошлой зимой…»
Френцель предложил витиеватый тост: «Выпьем за оружие фюрера и стремление Гёте к свету, за великодушие победителей». Потом поднял стакан Фридрих, сказал просто, по-солдатски: «Пью за то, чтобы всю сволочь стереть в порошок». Рудди это понравилось, он крикнул: Siegheil. По случаю праздника и ему дали немного шампанского. Фридрих показывал фотографии каких-то норвежских красоток. Марта говорила, что жаждет путешествий и любви. Френцель, подымая уродливую руку, повторял: «Необходимо великодушие», Фридрих назвал его «пастором». А Герта была в мыслях далеко, как писал Иоганн, «почти в Азии»…
Герта оставалась верной мужу и в помыслах; ни разу, глядя на другого мужчину, она не испытала волнения. Она осуждала подруг, которые вели себя чересчур свободно. Стоило приехать в отпуск какому-нибудь мальчишке, все дамы зазывали его к себе, кормили, поили, расспрашивали про жизнь на фронте, вздыхали «я не могу уснуть, думаю о нем», а расспросы, как выразилась супруга доцента Вирта, «заканчиваются в постели – жизнь берет свое»… Были дела и похуже. Жена садовника Краусса, которая до войны работала поденно у Келлеров, угодила в тюрьму за сожительство с военнопленным французом. Герта, красная от возмущения, говорила: «Я бы ей отрубила голову. Как может немецкая женщина допустить близко французика? Они воняют чесноком и все зараженные…»
Герта работала в «Зимней помощи», организовала детскую столовую. Трудно было прошлой зимой – приходилось оставлять маленькую Гретхен у соседки. Летом Герте удалось получить русскую прислугу, девушку лет восемнадцати. Герта была ею довольна – невзыскательная, работящая и тихая, пожалуй даже чересчур, можно сказать пришибленная – днем работает, а вечером сидит на кухне и плачет. Когда приехал Фридрих, Герта показала ему Ольгу (так звали прислугу): «Можешь посмотреть… Иоганн писал, что они все запуганы большевиками, но я это поняла, только когда ее увидела…» Френцель говорил: «Все русские обожают страдания, достаточно почитать Достоевского»… Герта мало интересовалась психологией Ольги, она была довольна, что у нее прислуга, до войны об этом не приходилось мечтать.
Вскоре после Нового года без всякого предупреждения ввалилась Ирма. Герта обрадовалась сестре, но сразу поняла, что случилось несчастье. Они давно не виделись. Ирма вышла замуж за инженера, жила в Дортмунде. Ее мужа недавно призвали.
– Почему ты плачешь? – спросила Герта. – Что-нибудь с Вилли?..
Ирма не могла ответить. По щекам текли черные капли – сошла краска с ресниц. Наконец она заговорила:
– Это такой ужас!.. Вы здесь ничего не пережили. В Дортмунде гораздо хуже, чем в Сталинграде… Можешь себе представить, я пошла в кино, хотела немного развлечься, я с ума схожу после того, как Вилли уехал… Какая-то дурацкая картина «Последние тени». Вдруг среди сеанса «воздушная тревога!» Мы не успели сойти вниз, грохот, я этого не могу описать… Я кричала, как сумасшедшая: «Мама!..» Бедная мама, в Штуттгарте тоже ужас… Одним словом, когда мы вышли из кино, Шиллерштрассе просто не было. Я совершенно не помню, как дошла домой… Макс сказал мне, чтобы я уехала… Дай мне воды, я приму валерьянки, я схожу с ума, не удивляйся, и сойду, это вполне естественно…
Ирма поселилась у Герты, сразу внесла в маленькую квартиру запах сладких духов и беспорядок. На книгах Иоганна валялись порванные чулки. Ирма кричала, что Ольга настоящая свинарка, что Рудди плохо воспитан, рявкает и не умеет шаркнуть ножкой; обкормила Гретхен конфетами, которые брат привез из Норвегии (Герта их спрятала – может быть, Иоганн приедет). Каждый вечер Ирма устраивала истерику, кричала, что Дортмунд срыт с лица земли, что могут убить маму, что Вилли не вернется из России.
Герта сама приуныла: прошел еще месяц, а от Иоганна не было известий. Обливаясь слезами, Ирма повторяла: «Иоганн в Сталинграде, Вилли тоже в Сталинграде, все в Сталинграде». Герта понимала, что сестра говорит глупости: Вилли где-то под Новгородом. А вот Иоганн, может быть, действительно в Сталинграде…
Объявили траур на три дня, закрыли театры, кино. По радио передавали грустную музыку. Пришел Френцель, желая утешить Герту, сказал: «Может быть, Иоганн не там, а на Кавказе»… Значит, и Френцель думает, что Иоганн в Сталинграде… Герта пошла на кухню за стаканами. Ольга сидела возле окна и улыбалась. Герта забыла про стаканы, убежала к себе, расплакалась. Ирма вдруг успокоилась, накапала валерьянки, Френцель повторял: «Мне почему-то кажется, что Иоганн на Кавказе…» А Герта плакала от злобы. В своем доме приютила змею! Она ни разу ее не ударила, подарила ей старую юбку… А теперь эта дрянь радуется, что столько честных немцев погибло. Может быть, и Иоганн… Действительно, русские не люди, Иоганн был прав, когда писал, что хочется их пожалеть и нельзя…
– Эта мерзавка рада, – сказала Герта Френцелю.
Он задумался, потом засунул руку за борт пиджака, сказал:
– Всеобщее ожесточение. Колесница человечества натолкнулась на преграду. Но я убежден, что Гитлер – это стихия света, Феб… Мне только страшно, что люди перегрызут друг другу горло…
Когда он ушел, Ирма сказала:
– У него не только с пальцами плохо. По-моему, он сумасшедший… Теперь на почве событий много душевных заболеваний. В Дортмунде один банковский служащий решил, что настал конец света, и после отбоя вышел на улицу абсолютно голый… Слушай, Герта, ты должна на ночь запирать твою свинарку, с русскими нельзя шутить.
Герта слышала, как по радио говорил майор; он до двадцатого января был в Сталинграде; рассказывал, что там стояли ужасные холода, нечего было кушать, немцы защищали город, как античные герои, но осаждавших было больше, и защитники изнемогли в неравной борьбе.
С ненавистью Герта глядела на Ольгу: у этой девки четыре брата и три сестры. Их слишком много, русских! И они хотят нас уничтожить. У нас культура, университеты, идеи, а у них только грубая сила. Достаточно поглядеть, как Ольга подымает куль с углем…
Пришло письмо от матери:
«Дорогая Герта! Я все время думаю о тебе. Что с Иоганном? У нас много горя, я пережила такую ночь, что думала, это последняя. Вокзала нет. Госпожу Цигель засыпало в подвале. Я не могу понять, за что мы так страдаем?..»
За что я так страдаю? – спрашивала себя Герта. Никто не мог ей ответить. Фридрих давно уехал в Норвегию. Ирма вдруг перестала плакать и завела шашни с мальчишкой из противовоздушной обороны. Пришли Френцели. Марта плакала:
– Говорят, что Альфреда призовут. Как он может стрелять, если у него нет пальцев? Это неслыханно!..
Френцель говорил:
– Мы должны противопоставить темным совам свет Гёте и добрую волю фюрера…
Наконец пришло извещение: унтер-офицер Иоганн Келлер погиб за фюрера и за Германию.
Герта пролежала весь день в темной комнате с мокрым полотенцем на голове. Ирма отнесла траурное объявление в газету, спорола с черного платья сестры розовые оборки. А Герта не двигалась; она видела снег, очень много снега, на снегу Иоганн, и его клюют огромные русские вороны…
Утром она сделала усилие и встала. Нужно одеть Гретхен, отправить в школу Рудди. Она пошла на кухню. Ольга поила кофе мальчика. Он учил ее немецкому языку; он спросил, как «зайфе» по-русски, она ответила «мыло»; он не мог выговорить, и оба смеялись.
Ольга за последнее время повеселела, одна русская, которая работала в аптеке, сказала ей: «Немцев поколотили. Скоро домой поедем…» Ольга поверила, что скоро увидит мать и сестер. Мишу убили немцы в самом начале войны, а что с отцом и с другими братьями, она не знала.
– Как ты говоришь? «Милё?» – Рудди продолжал смеяться.
Герта, не помня себя, схватила половую щетку и ударила Ольгу. Рудди испугался, залез под стол. А Герта, выронив щетку, стояла и плакала: Иоганн все равно не вернется…








