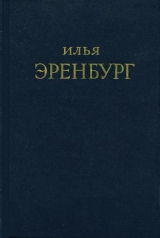
Текст книги "Буря"
Автор книги: Илья Эренбург
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 63 страниц)
21
Последние недели казались Луи яркими и бессвязными, как обрывки сна, когда просыпаешься среди ночи: парад на аэродроме, иранский генерал, жирный и пышный, который говорил «я обожаю Фоли-бержер», красавицы, похожие на миниатюры в «Корбей», горы, потом море с льдинами, русский офицер в меховой шапке… Странно подумать, что еще недавно он был в Лондоне…
Накануне отъезда майор Девис сказал ему:
– Сталинград доживает последние дни. Но я не пессимист, зима помешает немцам развить успех. Вчерашние сообщения меняют все. Ясно, что мы не ограничимся Северной Африкой. Весной начнутся операции, может быть, на Балканах… Жалко, что вы уезжаете. Но, конечно, Россия сейчас притягивает, я понимаю…
На Луи смотрели с двойным чувством – восхищения и жалости: он уезжал навстречу смерти. А Лондон еще переживал радость возвращенной жизни; был особенно приятен послеобеденный чай, особенно милы скромные семейные праздники. Только понаехавшие американцы, у которых было много денег, сигарет, шоколада и еще больше бурной жизнерадостности, которые ходили под ручку с бледными пастелевыми англичанками, напоминали о том, что война не кончена, впереди много горя. Луи без сожаления, расстался с городом, который был ему дорог в зиму воздушных боев, – теперь он чувствовал себя здесь чужим.
В Раяке ему сразу выложили новости: американцы договорились с Дарланом. Чорт знает что! Опять проклятая политика. Они воюют, как будто это покер, ничего нельзя понять. А если придется умереть, хочется умереть за что-то простое, постоянное. Рассказывают, что в Алжире люди, которых арестовали при Петэне, по-прежнему сидят. Пожалуй, скоро мы окажемся дезертирами, а в герои произведут полицейских!
Встреча с новыми товарищами, лихорадочные сборы, леопарды Нормандии на груди, споры о том, какие истребители лучше – советские или американские, – все это заслонило и Дарлана, и мысли о будущем.
Неподалеку от французского аэродрома находилась американская база. Летчики пригласили на ужин американцев. Возле Луи сидел гигант с наивными молочными глазами младенца, лейтенант Джеффер. Вначале он стеснял Луи своими манерами: облокотившись, чуть ли не лег на стол, пускал дым прямо в глаза соседям, каждую фразу перебивал восклицанием «о!». Потом Луи подумал: «Зато говорит, что думает, ведь из англичан слова не вытянешь…» К концу вечера все подвыпили: стало шумно.
– Среди французов много очень храбрых, – говорил Джеффер. – Понятно – у вас были Наполеон и Лаффайет. Но признайте, что вы отстали. Нельзя на «девуатине» сбить «мессера». Англичане были лучше подготовлены, но они тоже отстали. Жалко, что вы не были в Америке, – это действительно Новый Свет.
Луи рассердился:
– Когда началась война, у англичан ничего не было. Они взялись за дело после нашего разгрома. А вы вообще еще не воевали… Я не понимаю – чем вы хвастаете? Если англичане умнее нас на Ламанш, то вы – на целый океан…
Джеффер не понял, Луи повторил, тогда Джеффер очень громко засмеялся:
– О! У вас чисто американский юмор.
Его смех еще больше разозлил Луи.
– А то, что вы сторговались с Дарланом, это тоже американский юмор?
– Я в этом мало что понимаю, – ответил Джеффер. – Это политика, а меня до войны интересовали моя работа, кино и бокс. Но что тут плохого? Майор говорил, что это соглашение спасло жизнь многим американцам. Мы не русские, у нас никто не хочет зря умирать…
– А русские, по-вашему, хотят?
– О! Русские – герои, это все знают. Но у нас другое отношение к жизни… Я читал в газете, что один русский летчик врезался в немецкий бомбардировщик. Это эффектно для фильма. Но я этого не понимаю…
– Должно быть, не знаете, что такое беда. Французам теперь легче понять русских, чем вас…
– Я видел одного русского. Он просидел у нас два дня – погода была нелетная. Очень симпатичный, я ему хотел подарить зажигалку, но он не курил…
– Вы думаете, ему не хочется жить, как вам? Хорошо, доллар выше и рубля и франка. А жизнь русского или француза?..
Луи увидел, что Джеффер его не слушает. Американец сказал:
– О! Вы очень красиво говорите. Все французы красиво говорят… Вы увидите, что американцы скоро освободят Францию… Я хочу вам подарить зажигалку, это последняя система…
Луи кажется, что все это было очень давно. Он идет по улице русского города. Падает снег; белые птицы носятся над миром, задумчивые и тихие, опускаются на голову, на плечи, на ресницы. Здесь лица другие – горестные. Наверно, родные на фронте… Странный город: большой дом, а рядом деревянная лачуга, мало магазинов, нет кафе, люди часто идут по мостовой…
– Луи, ты понимаешь их буквы?
– Нет. И когда говорят, ничего не понимаю. Но чувствуется, что они воюют… Интересно, попадем ли мы в Сталинград? Чтобы освоить машины, нужно несколько месяцев… Здесь все непохожее. Сигареты с картоном, водку пьют не после обеда, а до… Я уже записал двадцать слов, буду учиться… Рене, мы неделю без газет, ничего не знаем…
Вечером они стояли у репродуктора. Понятно только одно слово «Сталинград».
Луи спрашивает переводчика:
– Держится?
Переводчик объясняет:
– Передавали «В последний час»: результаты наступления. Убили девяносто пять тысяч и семьдесят две тысячи взяли в плен. Окружили немецкую армию…
– Где?
– В Сталинграде.
Луи бежит к Рене:
– Слыхал? Бошей окружили! Рене, это начало… За Париж, за Тулон, за все…
Он стоит и смеется. Кажется, что я вижу клочок синего неба, солнце над Францией. Они думают, что я пьян… Я не пил водки, но я пьян… Скоро и мы будем в бою… Они дают нам «яки». Майор сказал, что это замечательные машины… Только бы поскорее!.. Жалко, что нельзя послать несколько телеграмм. Майору Девису в Лондон: «Сталинград повернулся иначе…» Конечно, он знает, но хотелось бы под этим подписаться… Я там не был, но я француз. Франция, могила мамы, большой ясень с редкими листьями на синем небе. И боши… Написать Джефферу: спасибо за зажигалку, сигареты с картоном мне не нравятся, зато здесь воюют, и знаете, Джеффер, русские умеют не только умирать, они умеют бить бошей… И еще – какой-нибудь незнакомой девушке в Париж или в Тур, или в маленькую деревню, в Бекон-сюр-Брюер: милая, мы вернемся отсюда, из холодной России, с победой… Я, кажется, действительно пьян, но я ничего не пил. Окружили бошей!.. Не все же им окружать… Как хорошо, что я здесь!..
Несколько дней спустя французские летчики были в цирке; они аплодировали и эквилибристу, и усталой худой наезднице, и невеселому клоуну. В антракте их обступили, спрашивали: «англичане?» Они отвечали: «франсуз».
К Луи подошла немолодая женщина и протянула ему платочек. Он растерялся, не знал, что делать. Его выручил переводчик. Женщина сказала:
– Я читала Золя… У меня сын – летчик. Как вы… Возьмите это на память…
Луи хотелось ее поцеловать, но он не посмел. Он только держал на своей широкой ладони маленький платочек, как бабочку, боясь смять, и повторял «спасибо». Она похожа на маму…
– Рене, здесь очень холодно, но, знаешь, я еще не чувствовал такого тепла…
Они шли по пустой, темной улице, а тихий снег все падал и падал.
22
Келлер мылил кисточкой щеки и думал: никто меня не узнал бы, ни Герта, ни Мими. За три месяца я постарел на двадцать лет. Когда мне исполнилось тридцать четыре года, я сказал Вилли, что это – половина жизни, я не думал тогда, что конец так близко… Нужно оглянуться назад, осознать прошлое…
Но Келлер не мог сосредоточиться. Он давно не брился, порезал подбородок, почему-то подумал: хорошо бы заполучить осколок снаряда в зад… И сразу вспомнил: это не спасет, они в котле, раньше раненых вывозили на «юнкерсах», а теперь эвакуируют только старших офицеров. Значит, конец… Последние годы были пестрыми, шумными: война, Мими, Лотта, та рыженькая в Харькове, попойки, шалости с мальчишками вроде Вилли – щенка зачем-то повесил… Время задуматься… Но он снова отвлекся: унтер-офицер Штельбрехт получил хлеб на Круммера и Грюна, а их утром убили. Штельбрехт спрятал хлеб в сумку. Сейчас он пошел к обер-лейтенанту… Никогда в жизни я не воровал, даже ребенком не брал в буфете конфеты. Но чертовски хочется жрать! Ведь это несправедливо – почему четыреста пятьдесят граммов Штельбрехту? Я слабее его… Пусть подозревает, доказать все равно не сможет. Келлер пошарил в мешке, хлеба не оказалось. Подлец сразу съел. Келлер вдруг рассмеялся – вот тема для рассказа: антрополог, о котором профессор Боргардт сказал: «это одна из надежд нашей науки», совершает неудачную попытку кражи, соблазненный кусочком хлеба… Когда я должен был попросить взаймы у шурина триста марок, я неделю высчитывал, смогу ли отдать в срок. Вся наша цивилизация – это лак, мигом слезает… Мне так хочется есть, что я готов задушить человека, лишь бы достать кусок хлеба.
Два месяца они мучаются в этом проклятом котле. Сначала никто не знал; может быть, генералы знали, но обер-лейтенант Краузе не был осведомлен, он отправил Феглера в отпуск, тот вернулся с криком: «Поздравляю! Оказывается, мы в настоящем котле». Многие ему не поверили: мы окружили русских, при чем тут котел?.. Но Феглер оказался прав.
Обер-лейтенант Краузе, говоря с Келлером, подчеркивал, что перед ним не просто унтер-офицер, а доцент Гейдельбергского университета. Келлер не был болтлив, и Краузе иногда говорил ему то, чего не сказал бы другим. Еще в начале декабря обер-лейтенант рассказал Келлеру, что «командир дивизии настаивает на отходе к Ростову»; многие генералы придерживаются того же мнения; но имеются среди офицеров сторонники «защиты Сталинграда во что бы то ни стало» (Краузе добавил: «это партийные фанатики, люди в военном отношении неграмотные»). Келлер растерялся; сильнее всего на него подействовала откровенность обер-лейтенанта, который не побоялся осудить «партийных фанатиков». Так выражались скептики в тридцать третьем; а потом, если даже приходили в голову подобные мысли, ими делились только с женой, да и то шопотом… Ясно, что дела плохи, если у такого Краузе развязался язык… С августа мы штурмовали Сталинград; недавно был приказ – уничтожить последние очаги сопротивления. И вдруг перемена декораций: оказывается, мы – «защитники Сталинграда». Ничего не понимаю…
Мало что изменилось в повседневной жизни. Тот же несносный грохот артиллерии, те же бои за дом или за окоп, те же детские непристойности Вилли, бахвальство Вергау, причитания Шмидта. Кормили плохо, но все-таки кормили. Феглер рассказал, что румынские кавалеристы стали пехотинцами – лошади пошли на солдатское довольствие. Гуляш из конины пользовался успехом. Вергау лопал и кричал: «Я бы румын перебил! Когда организовываешь свинью или гуся, они тут как туг, а нужно отбить „ивана“, их не найдешь…»
Краузе объявил: есть приказ фюрера – держаться наперекор всему. Огромная армия с танками под командой фон Манштейна спешит на выручку осажденного гарнизона.
Прошло еще две недели. Феглера убил русский снайпер. Наступили холода. Снова уменьшили хлебный рацион. Люди слабели, замерзали. Обер-лейтенант Краузе повторял: «Скоро придет помощь». А оставшись наедине с Келлером, он сказал: «Танки фон Маншгейна застряли. Мы должны были выйти навстречу, но получилась неувязка… Есть новоиспеченные авторитеты, которые умеют только кричать… Теперь остается одно: держаться. На карту поставлена немецкая честь. А сочельник у нас невеселый…»
По случаю рождества выдали фунт хлеба, консервы, немного рома. Келлеру было очень грустно; он настолько ослаб, что захмелел от первого глотка. Хотелось уюта, ласки. А русские били именно по их кварталу. Негодяи – не считаются с праздником!.. Келлер вспомнил елку, обсыпанную блестками, Рудди прижимает к груди деревянный карабин… Герта задолго готовилась к этому дню, выбирала гуся пожирнее, пекла пирог с миндалем и цукатами… Ему казалось, что он сыт, а он не может спокойно думать о еде… Неужели человек просто животное?.. Даже в такой вечер я не могу приподняться!.. Он заставил себя вспомнить Герту; почему-то она предстала перед ним такой, какой была, когда они познакомились – слабой и доверчивой. Она вздыхала, когда он ее обнимал. Он спрашивал: «Я тебя чем-нибудь обидел?» Она отвечала: «Нет. Это от счастья…» Милая Герта, больше он ее не увидит!.. И Келлер высморкался – слезы пошли через нос. Он не мог уснуть – так остро, так напряженно жалел себя.
Все раскисли, утешал себя Келлер. Это от плохого питания. Разве можно держать взрослого мужчину на рационе воробья? Вергау считался в роте самым стойким, выносил легко переходы, не трусил, не жаловался на холод. Его уважали, хотя некоторых он смущал своей грубостью. Кажется, не было города, где он кого-нибудь не убил бы, не только евреев или коммунистов, это понятно, а обыкновенных жителей… В Харькове он повесил на балконе женщину, кричал «это бандитка», потом признался: «Она спрятала под половицей золотые часики, я из-за нее вспотел». Теперь Вергау не узнать, он все время хнычет: «Почему я должен так страдать? Что я сделал плохого? У меня, кажется, все кишки переворачиваются»… Шмидт всем показывает истлевшую бумажку: «7 января 1678 года ко мне грешному явилась пресвятая Доротея и сказала, что того, кто сие перепишет, трижды повторит „Отче наш“ и подаст милостыню страннику, всемогущий Спаситель оградит от огня, холода, голода и сотрясения внутренностей»… Келлер назвал Шмидта «ослом», но на всякий случай переписал заклинание, прочитал трижды «Отче наш» и подумал: от милостыни я бы сам теперь не отказался… Шмидт вздыхает: «Зачем мы сюда пришли?..» Все говорят, что второго такого дурака не найти даже в Баварии (он в роте единственный баварец). И все-таки Келлер спрашивает себя, как Шмидт: зачем я здесь?..
Пошли слухи, что русские предъявили ультиматум, обещали всем, кто сдастся, пощаду. Келлер осмелился спросить обер-лейтенанта, правда ли это. Краузе ответил:
– Я тоже слышал… Не думайте, что меня посвящают в тайны богов.
– И вы считаете, что есть шансы?..
– Нет. Перед нами не французы, не англичане. Русским нельзя сдаться. Было слишком много… – Он задумался, подыскивая выражение. – Я хочу сказать, что война приняла слишком резкий характер.
Ночью Вилли шептал Келлеру:
– Я больше не могу. Будь я смелее, высунулся бы – пусть «иван» убьет. Генералу легко умереть, он свое пожил. Да он и не страдает, еды у него достаточно, блиндаж – никакой снаряд не пробьет… А я даже не пожил. Мне девятнадцать лет… Почему я должен умереть?.. Говорят, что русские предложили сдаться…
– Ничего из этого не выйдет. Обещают, а потом убьют…
– Почему?
– Азиаты. Это у них в крови… Потом, они очень озлоблены. Я сейчас вспомнил, как Вергау в Миллерове повесил троих…
– Я никого не вешал, – поспешно сказал Вилли. – Я только два раза снялся возле виселицы, но это просто шутка…
– Передо мной нечего оправдываться, я не «иван»…
Келлер подумал: как хорошо было в Дижоне! Впрочем, кто знает, что сделали бы с нами французы, попади мы к ним в лапы?.. Мими отлупили только за то, что она встречалась со мной. А профессор Дюма?.. Злой старикашка, такой может зарезать… Может быть, есть доля нашей вины. Как-никак, мы к ним пришли, это всегда неприятно… Порой наши бывали грубоваты. Я ничего плохого не делал, раз-другой поскандалил после выпивки, но это не в счет… Они нас не любят. Нас вообще не любят – завидуют и боятся… Однако я не поручусь, что Вергау вел себя хорошо во Франции, не знаю, он не был в нашем полку. А в России он взял чересчур высокую ноту… Я лично не убил ни одного гражданского. Приходилось быть резким, русским не скажешь «пожалуйста» или «простите», это не в нравах… Правда, та девушка не хотела итти, я ее приволок. Но разве это преступление? Когда мужчина долго лишен женского общества, он не считается с правилами светского тона. Я ей, кстати, ничего плохого не сделал, она плакала потому, что все русские с придурью, достаточно прочитать Достоевского… Другое дело Вергау или Феглер, эти перегибали… Но нельзя их винить… Обер-лейтенант скорее мягкий человек, не фанатик, но даже он повесил несколько бандитов, одну девушку… Русские нас сразу восстановили против себя – не хотят примириться с положением… А в общем Краузе прав – теперь нужно держаться, другого выхода нет.
Утром они узнали, что Вергау ночью перебежал к русским. Обер-лейтенант сказал: «Он мне всегда казался палачом, а не солдатом…» Вилли ругался: «Этот подлец перехитрил всех…»
Почему мы так раскисли, думал Келлер. Два месяца назад русские были в ужасном положении, они удержались. Только сумасшедший скажет, что русские храбрее. Трусы есть повсюду, дело не в этом… Русские были у себя, они защищали свой город. Фюрер нас называет «защитниками Сталинграда». А по-моему, это не звучит. Зачем мне защищать развалины русского города? Шмидт прав, голова кружится, когда подумаешь, куда мы зашли. Летом это меня радовало: чуть ли не Азия, вербблюды, экзотика. А теперь мне страшно. Умереть всюду страшно, а особенно когда ты далеко от дома…
Это было ровно десять лет назад, в январе тридцать третьего. Келлер шел с Мюллерсом из университета. Было очень холодно. Они говорили о лекции профессора Боргардта. Потом Мюллере вдруг остановился и тихо сказал: «Вы не думаете, что Гитлер сумасшедший? Я слышал его речь, типичный параноик…» Келлер ответил: «Не знаю… Но вы этого никому не говорите…» Да, тогда, я тоже сомневался. Правда, я никогда не говорил так резко, как Мюллере, но все-таки я сомневался. Потом я поверил, что фюрер – гений. Все поверили. Да и как было не верить: он вел нас от победы к победе. А может быть, прав Мюллере?.. Пригнать всю молодежь Германии в этот ад и бросить… Ужасно, что я начинаю рассуждать, как в большевистских листовках. Может быть, через час меня не будет, я изменяю перед смертью. Это отвратительно!.. Но за что я должен умереть? Не знаю… Ничего не знаю.
Пришел унтер-офицер Штельбрехт с хлебом. Он протянул ломоть Келлеру, сказал:
– Обер-лейтенанта Краузе убили. Он высунулся из траншеи…
Келлер не ответил; он выхватил кусок из руки Штельбрехта, и было столько звериного в его глазах, в скрюченных пальцах, что Штельбрехт выругался: «Бешеная крыса!..» А Келлер, проглотив хлеб, закрыл глаза и снова стал думать – пусть крыса, мне все равно, но за что я умираю?..
23
Сергей обрадовался, узнав, что ордена вручать будет генерал-майор Петряков. Несколько раз Сергей видел генерала на переправе, но время было горячее, и он не успел разглядеть человека, о котором много слышал; запомнилось только, что генерал небольшого роста и прихрамывает.
О смелости и спокойствии Петрякова рассказывали удивительные истории. Майор Шилейко однажды докладывал генералу. Разорвалась мина, Петрякова засыпало, он встал, отряхнулся и сказал майору: «Работать мешают…» Шилейко потом рассказывал: «У меня в глазах все вертится, а он говорит – засечь батарею…»
Генерал Петряков походил на пожилого агронома или сельского врача; добродушное, несколько расплывчатое лицо; плохо пригнанные очки неизменно сползают на мясистый кончик носа; тихий, ровный голос. Полковник Румянцев спросил его: «Илья Васильевич, как это вы никогда не сердитесь? Я вот ни разу не слышал, чтобы накричали…» Петряков улыбнулся: «Дома, бывало, выйду из себя… А здесь нельзя – и без того шумно, не перекричишь. Если тихо сказать, лучше действует…»
Петряков был сыном столяра-краснодеревца; в детстве он мечтал стать скульптором, а когда началась гражданская война, пошел бить Деникина и остался в армии. Он учился долго, упорно, к науке относился благоговейно. Его жене, учительнице, страсть мужа к военному делу оставалась непонятной. Еще в первый год совместной жизни она его спросила: «Неужели ты любишь войну?» Он поправил очки и с тем стесненным видом, который у него бывал, когда он думал о чем-нибудь важном, ответил: «Нет, Танюша, не люблю, с трудом представляю, что человек может это любить… Но чем наша армия сильнее, тем меньше риска войны. Люди у нас крепкие, а знаний не хватает, я это на себе чувствую…»
Для того чтобы попасть к генералу, Сергею пришлось дважды перейти Волгу. Он смутно думал о пережитом; там, подо льдом – ночи октября, затонувшие баржи, друзья, оборона… Неужели все это позади?.. Он как-то не успел осознать перемену. Еще недавно они гадали – продержатся ли до завтра, ползли немецкие танки, нельзя было высунуться. А теперь немцы зарылись, прячутся. Фронт ушел далеко на запад. Фрицы повсюду, их много, но их уже нет. И в словах «правый берег» больше нет того смысла, который сто дней определял жизнь Сергея. Все стало другим.
Генерал Петряков улыбнулся:
– Наградили капитана Влахова, а орден вручаю майору. Полагаю, не ошибка, а логика событий.
Сергей получил «Красное Знамя», лейтенант Василенко «Ленина». Генерал их поздравил. Они дошли до КП. Был морозный солнечный день. Снег сердобольно прикрыл истерзанную землю. Петряков сказал:
– Вы здесь с начала? Какой был город!.. Придется все строить заново. У вас какая специальность, товарищ майор?
– Мосты.
– Будет работа… Наверно, ни одного моста не осталось. Я на Немане начал войну. Сколько я повидал этих мостов!.. Строили, строили, а потом… Слушайте, вы понимаете, что стало с немцами? Я вот не понимаю. Вчера привели пленного, – майор, человек начитанный, а рассуждает, как дикарь. Какие у них были университеты, библиотеки!.. Пришли к нам, все уничтожили, а теперь залезли под землю и гложут лошадиные кости. Троглодиты!..
Василенко до войны был учителем; он сказал:
– Это, товарищ генерал, вопрос воспитания…
– Правильно. Мы, военные, только учимся воевать. Да и роль наша ограниченная: чтобы сделать хорошего солдата, нужен человек, а человека не мы делаем, это с раннего детства… В начале войны мы воевали плохо, не секрет… Если удержались, это потому, что солдат соображал… Я говорю о самом трудном: о сознании…
Петряков снова посмотрел на развалины домов, и Сергей увидел, что у генерала добрые грустные глаза.
Эти глаза Сергей вспоминал потом, возвращаясь к себе. Удивительно – военный, а говорил о том, что будет после войны. Вряд ли немецкий генерал может так рассуждать. Два мира… Впервые в жизни Сергею захотелось писать. Об этом в письме или в статье не расскажешь, эпопея, роман… Он рассмеялся – нашелся писатель! Да я не умею и маме как следует описать… В армейской газете, наверно, есть писатели, рассказывали, что приезжал Симонов, Гроссман писал в «Красной Звезде», я его видел на переправе. Может быть, напишут… Только трудно – нужно большое спокойствие. А будет ли это спокойствие?.. Страшно, что могут забыть, одно заслонит другое, я уж сам многого не помню… Как мы пришли с Зониным. В августе… Зонин говорил: «Попали мы с тобой в историю…» Да, это печальная история, кто ее пережил, у того глаза, как у Петрякова. Трескотни из этого не сделаешь… Прекрасная история! Если описать, будут зачитываться и через сто лет – как сын пастуха сидел на школьной скамье, открывал звезды, корни, числа, потом строил мост через Дон или работал на «Красном Октябре», потом защищал этот новый мир, хрупкий и вечный, защищал здесь – на пятачке земли – и умер, и лежит где-то под развалинами…
Петряков рассказал Сергею про ультиматум. Немцы не сдавались, приходилось их выбивать. Пришел Рашевский:
– Какая глупость – Левина убило… Балашкин фрицев прижал, вот они и бьют из минометов… Дурацкая случайность! Жалко – хороший врач был, он мне ногу спас…
Сергей помрачнел – ему нравился Левин. И потом действительно глупо – выжить все эти месяцы и погибнуть в самом конце… А может быть, это только кажется, что глупо? Сын Левина погиб давно, когда немцы еще лезли. Почему тогда не глупо?.. Левин читал стихи сына про Волгу, что река, как горе. Река стала. А Левин умер. Умрет кто-нибудь и в самую последнюю минуту… Левин как будто чувствовал, когда я был у него, говорил: «Дела идут замечательно. Я думаю, это поворотный пункт», помолчал и добавил: «Сын здесь погиб, брат при отступлении, жену немцы, наверно, убили, она осталась в Днепропетровске, не понимаю – как это я уцелел?..»
Последние дни были очень громкими: немцев выкуривали из развалин, подрывали подвалы, разворачивали траншеи. Не умолкали «катюши», минометы. Над заснеженными обломками домов стоял черный дым. Грохот был такой, что Шуляпов говорил: «Чорт чорта матом кроет…»
И вдруг наступила тишина; была она такой непривычной, что Сергей растерялся. Конечно, выпадали и прежде тихие часы, все же тогда раздавались ружейные выстрелы, где-то вдалеке стучал пулемет, ветер доносил раскаты орудий. А теперь тишина была плотной, густой. Сталинград сразу оказался глубоким тылом. Тишина оглушала, весила, не давала уснуть.
Сергей шел по улице. Ни одного целого дома… Здесь было «хозяйство» Балашкина. Два месяца дрались за эту улицу… Трупы, шлемы, фляжки, щебень, проволока…
Он встретил много немцев; некоторых вели под конвоем, другие бродили, не зная, где согреться. Они вылезали из-под земли, шли, пошатываясь – от голода, от острого холодного воздуха, который после духоты ударял в голову, от страха. Город казался заселенным серо-зелеными тенями.
Сергей глядел на них без ненависти и без жалости. Еще немцы стояли в глуби России, еще они правили Европой, но сейчас, среди внезапной тишины в Сталинграде, который, мертвый, победил, они уже казались не людьми, а призраками.
– Ты мог себе представить, что будет так тихо? – спросил Сергей майора Шилейко.
Майор любил поспорить; когда говорили, что такого обстрела или такой бомбежки еще не было, он обязательно отвечал: «Я почище видел…» На этот раз он не стал спорить, ответил:
– Просто неслыханно…
Он сидел в своей «пещере» и улыбался; даже патефон молчал. У телефона, как всегда, дежурила маленькая связистка Варя. Шилейко показал на нее пальцем и снова улыбнулся – Варя спала. Впервые она уснула спокойно: телефон перестал быть судьбой – загудит, и покажутся немецкие танки или полезут автоматчики… Варя была щуплой, бледной, с умными грустными глазами. Майор как-то рассказал Сергею, что она студентка, родители и младший брат умерли в Ленинграде от голода. Сергей посмотрел на спящую девушку и тоже улыбнулся:
– Пускай выспится…
Сергей написал Вале:
«Ты должна знать, как я тебя люблю! Не ревнуй ни к прошлому, ни к тому, что может померещиться тебе или мне. Я неверный в снах, а в жизни иначе. Мы все теперь живем ужасно просто и тяжело. Так бы любить – просто и тяжело! У нас сегодня большой день, и первое, что мне захотелось, – написать тебе о том, как будет, когда кончится война. Две недели назад я впервые над этим задумался, вернее на эти мысли меня навел генерал. Я стараюсь себе представить, как повсюду наступит тишина. Помнишь, я писал тебе про Воронова? Он говорил перед тем, как погиб, что придется снова строить мост через Дон, предвидел наступление. Я сейчас думаю о мостах, которые мы будем строить потом. Может быть, рано размечтался, война далеко не кончена. Думаю и о нашей встрече. Твоя любовь – это мне мост к новой, второй жизни. Прости, что пишу путано, тебе покажется странным, но я одурел от тишины. Будь здорова и обо мне не беспокойся – теперь все пойдет легче».
У костра сидели бойцы. Шуляпов, запинаясь, читал:
«Пущено третьего января. Добрый день или добрый вечер, дорогой Ванюша! Сообщаю тебе первым делом, что я жива и здорова и того желаю тебе, а Митя геройски погиб. Когда пришло извещение, отец ничего не сказал, я убивалась, а он молчал и вечером слег, говорит, не могу двинуться…»
Шуляпов закашлялся от дыма, отошел в сторону.
К огню протягивали застывшие ноги, руки. Стемнело. Какой-то стрелок рассказывал:
– Я видел, как генералы вылезли. Держат руки вверх. Смирные… Переводчик потом рассказывал, что один генерал сердитый, как топнет ногой, кричит – бритву у него забрали, боялись – зарежется, а он побриться желает. Зачем ему резаться? Он довольный…
Все добродушно засмеялись.
– Гад! – выругался Шуляпов. – Теперь он довольный. А сколько он людей загубил?
Потом все замолкли, наслаждались тишиной, объедались ею – сколько ни слушай, не наслушаешься…
К Сергею подошел Шуляпов, сказал:
– Так что, товарищ майор, победа…
Непривычное слово потрясло Сергея. Да, это не успех, не удача, именно – победа!
Он вспомнил статую в Лувре. Каждый раз, когда он бывал в музее, он шел к ней. Ему казалось, что Победа летит прямо на него… Голова отбита, нет лица, нет рук, только крылья… Это было очень давно: тогда был мир, Мадо, скамейка под каштаном… Или, может быть, ничего этого не было, сон, старый роман в желтой обложке?..
Почему люди думали, что Победа летает? Неправда. У нее ноги натерты до крови, она ползет по грязи, по снегу, забирается в щели. Она израненная, усталая, замерзшая… Наверно, она похожа на маленькую связистку у майора Шилейко. Кажется, Варя… Именно такая – ненарядная и все-таки Победа. Вот она пришла к саперам, села возле костра. Ей холодно. А костер догорел, немного розового жара, бедного человеческого тепла…








