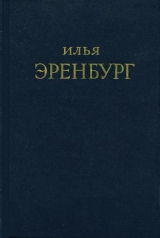
Текст книги "Буря"
Автор книги: Илья Эренбург
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 63 страниц)
10
В минуты нежности Рихтер называл жену «кошечкой», а сердясь или ревнуя, думал – мартовская кошка! В Гильде было нечто кошачье – круглые зеленые глаза, мягкость движений, та отчужденность, которая сводила с ума Рихтера: он чувствовал, что жена живет своей отдельной жизнью, чем она послушней, тем строптивей.
Весной Рихтер приезжал в отпуск. Он неуверенно прошел по своей берлинской квартире, брал в руки безделки и улыбался, как ребенок, потом вдруг бросил вазочку на пол, выругался. Гильда перепугалась. Он сказал: «А ты понимаешь, что такое Ржев?»… Она приготовила ему ванну, налила хвойный экстракт. Он начал бессвязно рассказывать про какой-то сосновый лес, где погибли Шеффер и Вальтер. Гильда не знала, о ком он говорит, не понимала ни военных терминов, ни солдатской ругани. Желая отвлечь Курта от страшных воспоминаний, она щебетала, рассказывала про платья, про мелкие домашние заботы, про сердечные дела подруг. Рихтер прерывал ее: «Мне это неинтересно, понимаешь?..» Он думал, что она не хочет понять его страданий. Бездушная кукла, пока он валялся в окопах, она развлекалась с десятком тыловиков! Он говорил ей «потаскуха», потом просил прощения, гладил ее курчавую голову, шептал «кошечка».
Больно сжав ее руку, он спросил: «Кто любовник?» Она ответила: «Ты». Курт ей казался теперь не мужем, а любовником, чужим и привлекательным. Она прощала ему грубость, чувствуя за ней дыхание войны. Когда Курт сказал, что подозревает Роберта, она рассмеялась: «Боже мой, он влюблен в меня девять лет, объяснился еще до тебя!.. И ты хочешь, чтобы я вдруг стала его любовницей? Это было бы противоестественно…» Она называла Роберта «адъютантом» и, когда он доставал кофе или шелковые чулки, говорила: «Можете меня поцеловать в щечку, как папа»…
Она оставалась верной мужу, хотя могла с гордостью сказать, что, несмотря на тотальную мобилизацию, вокруг нее всегда было несколько поклонников. Она с ними кокетничала – она кокетничала со всеми, даже с кузиной Иоганной. Недавно Гильде исполнилось тридцать лет, она с ужасом подумала: старею. Но люди, которые ей говорили, что она хорошеет, не лгали. В ней оставался задор любопытной девчонки, а глаза выражали зрелую неуспокоенную страсть. «Ты – белая негритянка, – говорил ей Курт, – тебе нужны пальмы и плетка…»
Гильда не хотела уезжать из Берлина, хотя боялась бомбежек: квартира, где она прожила с мужем шесть лет, казалась ей тихой пристанью. Оказавшись в маленьком городке, с глупой и злой Иоганной, которая считала губную помаду символом распутства, Гильда приуныла. Заплаканные женщины, сплетни, разговоры о продовольствии – госпожа Мюллер получила третью посылку из Дании, у Клары два «пакета фюрера», Эльза умеет приготовлять картофельный салат без масла… Забрали почти всех мужчин, из молодых остался только доктор Ланге, но у него искусственный глаз, когда он говорит комплименты, становится страшно. Молодые женщины разгуливают в брюках, говорят о том, как ухаживать за коровами и как наказывать полек. Боятся какого-то русского, который убежал из лагеря в лес и будто бы нападает на проезжих. Еще больше боятся воздушных налетов – рядом с городом химический завод.
Немного развлекал Гильду итальянец. Конечно, Луиджи приходил не к Иоганне, а к ней. Он не раз пытался перейти от страстных деклараций к поцелуям, но Гильда его останавливала. Ей нравилось, что он, как актер, декламирует: «О мой кумир! Моя звезда!» Она позволяла ему целовать ее руки, но не больше – «вы с ума сошли – у меня муж!..» Когда итальянец проходил наверх в мезонин, где жила Гильда, Иоганна поджимала свои бледные губы и думала: напрасно фюрер поверил этим проходимцам, лучше было бы сговориться с англичанами…
Иоганна ненавидела не только итальянца, но и немцев, застрявших в тылу, даже доктора Ланге («можно воевать с одним глазом»). Ей были отвратительны женщины, мужья которых уцелели – ее муж погиб на Волхове в начале сорок второго. До войны она постоянно ссорилась с мужем – он был юбочником и транжирой, а теперь она развесила повсюду его фотографии, и посетители должны были молча простаивать несколько минут перед фотографией покойного Карла. Она изводила Гильду комплиментами: «Кузиночка, вы сегодня слишком хорошо выглядите» или: «Вы такая нарядная, что забываешь про ужасы войны»…
Гильда написала мужу, что ее пугают газетные известия – думала, что так нужно написать. На самом деле она путала русские названия, ее не трогало, что красные захватили Орел или Харьков. Курт рассказывал, что русские города – это большие деревни, к тому же наполовину разрушенные. Она спросила мужа, что происходит в России, из вежливости. А получив его ответ, она долго плакала. Конечно, Курт и прежде упоминал о трудностях, но в каждом письме Гильда находила несколько бодрых слов. Когда он приезжал в отпуск, он говорил, что русские дерутся отчаянно, в лесах много бандитов, климат ужасный, есть какие-то особенные пушки, от которых «можно сойти с ума». Но когда Гильда спросила, чем все кончится, он ответил: «Достаточно поговорить с полковником Габлером, чтобы понять, насколько наша стратегия выше русской. В итоге мы победим, как бы дорого это нам ни обошлось». И вот теперь Курт пишет: «Дело не только в том, что мы отсюда не выберемся, я начинаю думать, что эти дикари доберутся до вас…» Если Курт так говорит, значит плохо – он оптимист. Увидев заплаканное лицо Гильды, Иоганна обрадовалась: «Вы получили плохие известия? Что с вашим мужем?» – «С мужем все благополучно, – ответила Гильда, – плохо с Германией…» Она попробовала утешить себя: может быть, Курт изнервничался? Когда в Берлине бывала бомбежка, я ходила, как помешанная, а на фронте бомбят все время, и еще какие-то особенные пушки, понятно, что Курт потерял голову… Но ей было тревожно: она вдруг почувствовала, что и она втянута в проклятую войну.
Несколько дней спустя она получила телеграмму от брата, он сообщил, что приедет на неделю с товарищем-отпускником. Гильда всегда радовалась встрече с Артуром, а теперь он был ей особенно нужен – после здешних плакальщиц, после ужасного письма…
Артур хорошо выглядел, приехал веселый, все время напевал:
Мой милый друг, не унывай —
За декабрем приходит май…
Он привез Гильде три кило сахару, большой кусок мыла. Его товарищ, лейтенант Гебинг, оказался красивым юношей с шрамом на виске и двумя крестами. Артур болтал без умолку, а лейтенант Гебинг молча улыбался и так глядел на Гильду, что она спросила:
– Вы, может быть, гипнотизер? Меня пробовали усыпить, но я не поддаюсь…
– Что вы! – воскликнул лейтенант. – Мне просто приятно после России сидеть в уютном немецком доме и видеть перед собой красивую женщину…
Он держал себя почтительно, а если Гильда с ним кокетничала, то в этом не было ничего удивительного – она не умела не кокетничать. Она приготовила хороший ужин – ветчина с горошком, мозельское вино, коньяк. Артур много пил, дурачился, показал, как русские танцуют – вприсядку. Лейтенант не сводил глаз с Гильды. Она спросила:
– Где вы теперь воюете?
– На юге, в Крыму.
– Там, наверно, очень жарко?
– Еще бы! – Артур захохотал.
– Курт в центре. Он пишет, что у них дела плохи…
– Лучше об этом не думать, – сказал Артур. – Коньяк у тебя чудесный.
Он завел патефон. Лейтенант подхватил Гильду. Они долго танцовали. У Гильды кружилась голова – от вина, от тревоги, от удовольствия.
Артур продолжал шутить:
– Ты знаешь, на что похож фронт? На кино. Спереди все мелькает, а лучшие места позади…
Гильда улыбнулась:
– Мы здесь в самых задних рядах, и все-таки спокойствия нет.
Лейтенант кивнул головой.
– Вы правы, госпожа Рихтер, теперь у всех одна судьба…
Она поглядела на него, на брата, потом на кусок бурого уродливого мыла, и в ее глазах показались слезы.
– Артур, я вспомнила, как ты приехал из Франции, привез духи Герлена, говорил, что скоро высадитесь в Англии…
– Мы еще высадимся, – ответил Артур.
– Разве можно столько воевать?
– Фридрих Великий воевал семь лет и выиграл. Осталось еще три года.
– Не нужно думать – это главное, – сказал лейтенант.
Она удивленно взглянула на него и тотчас отвернулась – у лейтенанта глаза были ласковые и сумасшедшие.
– Я не знаю, побеждали ли вы русских солдат, а русских девушек наверно…
Она уложила брата и лейтенанта Гебинга в столовой, потом поднялась к себе. Она улыбалась, а из глаз текли слезы. Значит, Курт писал правду… Пускай им отдадут Польшу или Богемию, но нельзя их пустить сюда… Почему мужчины не понимают таких простых вещей?.. Артур хочет воевать еще три года… Но тогда никого не останется – ни на фронте, ни здесь… Они все сошли с ума!.. А лейтенант милый…
Весь следующий день Артур отдыхал – валялся на кушетке с полицейским романом. Гильда и лейтенант Гебинг пошли в кафе «Мария-Луиза» – оттуда был красивый вид на долину. Лейтенант рассказывал про войну, и Гильда нашла, что он рассказывает интереснее, чем Курт. Он говорил: «Мне жалко всех, особенно детей… Я поймал русскую шпионку, это была красавица, она укусила мне палец, а потом попросила револьвер, чтобы застрелиться… Когда жгут город, это потрясающе красиво, я думаю, что если бы это видел Бетховен, Девятая симфония была бы еще сильнее. Мы все обречены, но жизнь вдвойне прекрасна…» Вечером они снова пили коньяк, смеялись, танцовали.
Гильда погасила свет, но не успела заснуть – услышала шаги на лестнице. Она подумала – Артур… Потом зажгла лампочку и увидела лейтенанта. Она вскрикнула:
– Вы сошли с ума!
Он положил ей руку на рот, шепнул:
– Не делайте глупостей, Артур спит…
Он погасил свет, и она больше не кричала. Когда полчаса спустя он ушел, она лежала на спине и не могла понять, что произошло. Она никогда себе этого не простит… Какое нахальство – притти без спроса к замужней женщине!.. И еще к сестре товарища… Они стали дикарями… Наверно, и Курт такой… Он не сказал ей ни одного ласкового слова… И все-таки ей хорошо, это самое страшное… Грех?.. Глупости, завтра прилетят и скинут бомбы или сюда придут русские… Нужно жить, пока живешь…
Каждую ночь лейтенант подымался к Гильде; она его ждала. Днем, оставаясь одни, они говорили о пустяках. А ночью они не разговаривали. Потом Артур и лейтенант уехали. На вокзале Гильда расплакалась, сказала брату:
– Не пускайте сюда русских!
Он улыбнулся:
– Хорошо, не пустим.
А лейтенант помахал ей фуражкой.
Иоганна сказала Гильде: «На вас лица нет. Вот что значит любить нашу храбрую армию…» Гильда поняла, что Иоганна слышала, как лейтенант подымался наверх. Пускай… Она ответила: «Мне тридцать лет, Иоганна, в гувернантках я не нуждаюсь»…
Она не могла забыть лейтенанта. Все стало еще грустнее. В газетах продолжали писать, что у русских большие резервы. Неделю не было писем от Курта. Гильда волновалась, плакала. Потом пришла открытка, Гильда рассеянно ее прочитала, ответила коротким ласковым письмом. Пришел Луиджи, очень печальный, сказал, что их отправляют в Магдебург. Он пришел проститься, поцеловал ее руку. Тогда она неожиданно его обняла и сказала: «Кузины нет дома»…
Улыбаясь, она глядела на себя в зеркало. Я еще хороша. Но нужно жить. Умирают теперь не от старости… Прежде Гильда писала мужу неаккуратно, пропускала по нескольку дней, теперь она писала каждый день, и ее письма были все нежнее и нежнее – она ждет Курта, верна ему до гроба…
В холодную лунную ночь зазвенели оконные стекла, потом завыла сирена. Гильда лежала в ночной рубашке на земляном полу убежища. Ее бил озноб от холода и страха. Здесь куда страшнее, чем в Берлине… Она давала обеты: господи, если я выживу, никогда не изменю Курту! Никогда, ни с кем!..
Утром она увидела разрушенные дома. Иоганна сказала, что свыше ста убитых. Гильда написала Курту:
«За меня не беспокойся, здесь все благополучно. Я тебя жду, жду, жду…»
Прошло еще несколько дней. У нее болела грудь – наверно, простудилась в убежище. Она позвала доктора Ланге, он ее выслушал, прописал микстуру, потом сказал: «Вы хорошеете наперекор всему». Она старалась на него не смотреть – у него левый глаз бессмысленный и холодный, как судьба… Закрыв глаза, она шептала: «Вы с ума сошли!.. Какой вы глупый, доктор!.. Мы все глупые…»
11
– Товарищ майор, новые кольца, а пропускают…
Сергей выругался – опять эти кольца! До Днепра дошли, а с кольцами не могут справиться… Здесь дорога каждая минута. Все спешат – еще один квадратик карты – и Днепр… Машины вязнут в белом песке; при свете фар он кажется снегом. Лоза предупреждает: гаси фары – скоро река!
Гулко от песка. Разговаривают вполголоса. Не курят. Саперы тащат бревна. Идут связисты – катушки с кабелем, зеленые коробки полевых телефонов. Полевые пушки. В лесочке приютились танки. Вот и генерал Петряков…
Старик рассказывает, что рыбаки на мелком месте потопили восемь лодочек – спрятали от немцев. Вытаскивают лодки. Приволокли ворота. Вяжут плоты. Набивают камышом или соломой плащ-палатки.
Сергей в лесу. Здесь настоящая лесопилка. Понтоны будут завтра: на дорогах большие пробки.
Ноги едва идут. В сапогах песок. На душе смутно и радостно. Нетерпение овладело всеми, как будто за рекой – конец войне, родной дом, девушка у калитки, глубокое счастье. А за рекой немцы. Они стреляют вслепую – наших прикрывает лесок. Один снаряд попал в кучу отдыхавших бойцов. Подошли к Днепру и его не увидели…
Вот и река! Люди умываются, черпают пригоршнями воду и пьют – ведь это Днепр. С ним прощались в сорок первом – одни у Киева, другие в Могилеве, третьи в Смоленске. Он снился; о нем боялись думать; о нем пели «Ой Днипро, Днипро, ты течешь вдали, и вода твоя, как слеза», пели, потому что хотелось не петь, а плакать или ругаться. Была река, как многие другие, но пришло горе, и Днепр пересек судьбу каждого, будь то волжанин или сибиряк. От Днепра ушли, проклиная себя, а вернулись к нему иными, да и не все вернулись; люди ступают тяжелее – память о потерянных, как свинец; пришли с Дона, с Волги; а того, кто побывал у Сталинграда, можно сразу узнать по глазам, по усмешке, по тихому и глухому «дошли».
Почему все города на том берегу? Немцам везет. Впрочем, теперь им ничего не поможет. Разве можно остановить такое?.. Здесь больше, чем несколько дивизий, – вся страна пришла к Днепру, ее тоска, обида, голод, узелки беженцев, растерзанная жизнь, сожженные города. Одна мысль: скорее! Хотим жить! Жена пишет, мать… До Днепра еще можно было не думать, подчиниться размеренному ритму атак, контратак, переходов, отгонять искушение. Здесь каждый чувствует: доигрываем, доламываем.
А мука мукой, смерть смертью. И на нежном светлом песке кровь. Санитары уносят двух автоматчиков; один стонет, другой улыбается; может быть, это не улыбка – судорога.
Дни стоят теплые, прозрачные. А ночью холодно. Вода ледяная. Сколько до того берега? Сергей говорит «четыреста восемьдесят». Поднялся ветер. Большая волна.
– Да разве это лодка? – тихо ворчит сержант Садофьев. – Ведро где?..
Он обмотал весла тряпкой: на том берегу немцы…
Немцы знали, что у русских еще нет понтонов – воздушная разведка успокоила генерала Зиберта. Он все же приказал вести для острастки огонь по реке.
– Стерва, воду глотает, – шептал Садофьев.
Две другие лодки отнесло далеко вниз. Немцы бьют по реке. Вода вскипает. В лодке пулемет и два бойца. Три часа гребут, кровь на руках. Кустарник. Где-то поблизости немцы.
А небо все в звездах – Украина верна себе: ей и в такую ночь нужны звезды…
Потом?.. Стучит пулемет. Подоспели другие лодочки. Пускают плоты из столбов, из бочек от горючего.
Потом подходят понтоны. Щедренко переплыл реку, протянул канат. В паром попала мина. Саперы затыкают пробоины гимнастерками. Рабинович лезет на дно – нужно спасти пулемет. Немцы наседают на пристань.
Садофьев теперь может отвести душу и выругаться. Майор сказал четыреста метров, а когда плывешь – все четыре километра… И о чем Старицын думал? Хорошо бы мы выглядели, если бы все лодки разбрелись! А фрицы сразу полезли.
Потом?.. Потом поздравляют Садофьева. Сергей диктует донесение. На узле связи Шура Баранова передает длинную телеграмму. Корреспондент «Красной звезды» мечется – какой он с виду, этот Садофьев? Дать бы одну живую черточку… В Москве составляют сводку. Завтра о сержанте Садофьеве узнает мир.
Сталин на минуту оторвался от карты. Он видит огромный фронт, линию Днепра, колонны на дорогах, расположение противника и среди всего этого – молодого сержанта с глазами печальными и лукавыми. Садофьев… Кажется, со мной был Садофьев в Царицыне. Может быть, отец этого?.. И Сталин переплывает Днепр с Садофьевым, как он сидел на кургане у Сталинграда с Осипом и Минаевым, как в метель шагал от Дона до Днепра. Молодец Садофьев, с ним перейдем и Вислу, и Одер!..
Полковник Габлер жует огрызок погасшей сигары. Он возмущен русскими. Переправиться через такую реку без понтонов! Дикари, в этом их преимущество… Перед полковником карта: он думает о контратаке, необходимо сбросить русских, выиграть хотя бы две недели. И вдруг среди номеров дивизий, среди названий сел, островов, отмелей показывается скуластый паренек в пилотке. Садофьев взбирается на цоколь и сбрасывает зеленого медного орла.
В Париже у приемника сидит Лежан; он очень мрачен – только недавно ему рассказали, как погиб Поль, от Жозет второй месяц нет известий, позавчера арестовали Андре и Гаро, нужно послать группу в Руан, и нет оружия. Позывные – «говорит Москва». И как будто Днепр где-то рядом – возле Сены, спешат товарищи, друзья, те, с кем он связал свою судьбу, среди них Садофьев. Он похож на Миле, только волосы светлее…
Генерал Петряков говорит Садофьеву: «Герой! О чем тут толковать – герой!..» Садофьев бубнит: «Я как выскочил из лодочки – за лопату…» Что здесь особенного, – думает Садофьев. – Конечно, лодочка дерьмовая, но доплыл. Главное, что во-время окопался…
Крылов улыбается: вот он, первый урожай! Интересно, где тот американец с вечной ручкой? Не верил… А вот каких мы вырастили! Наверно, он теперь думает, что у нас нет понтонов. А иногда нужно и на бревнышке. Этого им не понять, они два года только и делают, что готовятся. Пожалуй, мы скорее до Берлина дойдем… А я ведь знал Садофьева, тот уже немолодой, интендант третьего ранга, когда мы выбирались из Россоши, двух немцев застрелил. Тоже не дурак… Садофьевых много, ничего удивительного. А что героев много – это вот удивительно!..
И каждый Садофьев с радостным волнением отвечает: «Может быть, родственник, не знаю…»
В Костроме между ткацкой фабрикой и старым монастырем тихая болезненная женщина, уложив детей, думает о своем первенце: Саша прославился… Только бы живой вернулся!..
Маленький неглубокий окоп среди белого песка – с этого все началось. Удалось переправить полковые орудия. Немцы били с крутого холма. Но наши держались. Сергей вспомнил Сталинград; там говорили «держимся», здесь этого не скажешь, здесь говорят «держим».
Немцы бросили авиацию, гонялись за каждой лодочкой, быстро засекали переправы. На третий день затопили тяжелый паром. Нужно было спасти уцелевшие понтоны. Взяли противогазы, приделали к ним трубочки. Осипенко и Зайчик полезли под воду. Три часа они работали на дне, разобрали паром, вытащили целые понтоны. Осипенко, узнав, что генерал представил его к «Ленину», вздохнул: если бы жена знала, может не ушла бы…
А потом генерал Петряков сказал:
– Армия большая, значит нужен большой мост.
– Я все подготовил, – ответил Сергей. – До острова деревянный на сваях, а дальше наплавной…
Он откинул голову назад, рассеянно улыбнулся.
В Сталинграде Сергей воевал напряженно, угрюмо; там было не до фантазий, иногда даже мыслей не было – только упорство. А теперь в его глазах было то горение, которое Нина Георгиевна знала с детских лет Сережи, когда думала, что ее сын будет поэтом.
Забивали сваи, стоя в ледяной воде. Немцы били из орудий, бомбили. Работали ночью; но немецкие ракеты освещали Днепр. Санитары то и дело уносили раненых. Течение валило сваи. Один сапер опускался на дно и ставил сваю, другой бил по ней сверху. Люди не спали по трое суток. Сергей не отходил от моста. Сержант Широков провел в воде четырнадцать часов. Сергей спросил: «Как?..» Широков ответил: «Сделано».
Потом, когда мост был готов и по нему пошли сотни машин, когда Сергей снова разговаривал, смеялся, майор Шилейко спросил его:
– Сколько нужно дерева, чтобы он выдержал?..
– По учебнику полагается один кубометр на триста килограммов груза.
Сергей вспомнил, как замерзший сержант Широков ответил «сделано».
– С древесиной это просто подсчитать. Труднее с человеком…
– Ты, собственно, про кого? – спросил Шилейко.
– Про всех. Я говорю, что трудно подсчитать, сколько человек может выдержать…
На правом берегу шла большая битва; говорили, что такого не было с Орла. Генералу Петрякову удалось продвинуться на двенадцать километров; но немцы подтянули крупные силы. Генерал говорил: «Стратегические резервы пустили в ход, не иначе…»
Бойцы ругались: «Фрицы напоследок бесятся…» Положение было тяжелым – назад не переправишься. Командующий армией обещал подкинуть свежую дивизию. И вот тогда приключилась беда – немцы бросили на мост авиацию – два прямых попадания. Важен каждый час…
Увидев, что Рашевский растерялся, Сергей прыгнул в воду, начал показывать, что делать. В это время десяток немецких пикировщиков атаковал саперов. Рядом с Сергеем был Рашевский. Когда-то в Сталинграде Рашевский говорил, «если ночью убьют, это чистая случайность»… Он умер на руках у Сергея. Мост починили. Подкрепление пришло во-время.
Нет больше Рашевского. Нет тех, с кем он был в страшное лето сорок второго. Зонин погиб в Сталинграде… Говорил про театр, про Марусю, а потом лежал на столе, маленький, как ребенок. А Воронов мечтал, как будем наводить мост на Дону, когда пойдем назад. Вот и Днепр. Но нет Воронова. Кажется, не было у Сергея такого друга. Воронову он говорил все – горькое было лето… Рассказал и про Париж. Про Валю… С ним легко было разговаривать, он чуть улыбался, кивал огромной головой… Никого нет из старых… Как уцелел Сергей?.. Он недоверчиво улыбался осени, пышной и приподнятой.
Неделю спустя Сергей поехал на КП. Генерал Петряков жил в чистой белой хате. Хозяйка стояла, подперши рукой щеку, вздыхала о своем Грицко и восхищалась генеральскими погонами. Петряков был в хорошем настроении.
– Ничего у них не получилось. Барсуков только что передал, убираются из Киева – машины в четыре ряда…
Потом генерал стал журить Сергея:
– Что вы себя подставляете? Нельзя так… Теперь не сорок первый… Устали – от этого.
– Все устали.
– Я не про всех, я про вас… Это всегда так – устанет человек, и тормоза не действуют. Вдруг ничего ему не страшно…
Сергей покачал головой:
– Мне теперь страшно. В Сталинграде я не боялся, так как-то безразлично было. А сейчас, когда ближе к концу, очень не хочется умирать…
Перед ним был седой человек в очках, который добродушно попыхивал папиросой. А Сергей видел Валю, весну в Москве, фонари на мосту. И вдруг невпопад он сказал:
– Самое хрупкое на свете это мост…
Он думал в ту минуту не о мосте, который построил через Днепр, не о Крымском мосте, где стоял с Валей накануне отъезда, и не о старых мостах Сены, о другом – о жизни.








