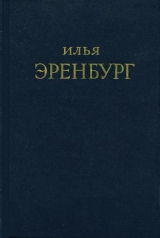
Текст книги "Буря"
Автор книги: Илья Эренбург
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 63 страниц)
12
В трактирах Дижона хорошо знали ефрейтора Келлера, который, изъясняясь по-французски, не путал звуков «б» и «п», как другие немцы, и даже умел отличить старое бургундское от скверного алжирского винца, вполне удовлетворявшего его сотоварищей. Келлер был известен также тем, что похитил сердце трактирной служанки Мими, которая открыто говорила, что ни на кого не променяет своего немца. Полк стоял в городе с прошлого лета, и Келлер чувствовал себя старожилом.
Если бы три года тому назад скромному гейдельбергскому доценту сказали, что он станет бравым солдатом, завсегдатаем кабаков, любовником распутной француженки, он не поверил бы. Прежде, когда он думал о войне, она представлялась ему жестоким и бессмысленным делом. Прочитав в студенческие годы роман Ремарка, он понял, что человек не может существовать среди рвущихся снарядов; он считал, что это поняли все, и когда при нем заговаривали о возможности близкой войны, он усмехался – глупости, дипломатические маневры…
Он не успел опомниться, как очутился в Бельгии. Он очень боялся предстоящих боев, стыдился своего малодушия и в разговорах с товарищами бравировал: «Какая же это война!..» А его поташнивало от далекого грохота корпусной артиллерии. Его полк не принял участия в первых сражениях, их двинули, когда фронт был прорван. Офицеры говорили, что предстоит приятная экскурсия по винным погребам Шампани. Однако возле Эперне они неожиданно натолкнулись на сопротивление – полсотни французов засели в рощице. Грузовик, на котором ехал Келлер, обстреляли, убили двух его товарищей, четырех ранили. Келлер от ужаса окаменел, вместо того чтобы лечь, он выпрямился и стал зачем-то протирать стекла очков. Его привела в себя команда офицера; он лег и стрелял, как другие. Час спустя они очистили рощу от неприятеля. Когда Келлер увидел десяток французов с поднятыми руками, им овладело веселье, он понял, что жив, и возвращенная жизнь была слаще прежней. В тот вечер, отступив от своих привычек, он напился в прохладном погребе, который пахнул вином, потом спал с какой-то девушкой. Подумав утром о Герте, он не испытал угрызений: на то война, днем рискуешь жизнью, ночью развлекаешься…
Война вскоре закончилась, а развлечения остались, осталась и вновь обретенная уверенность в себе. Когда Келлер зимою приехал в отпуск, Герта его не узнала: смешно сказать, но Иоганн в тридцать два года стал мужчиной! Он очень громко разговаривал, пил кирш, а когда она сказала, что нужно сделать первый визит декану, прикрикнул: «Не твое дело!» Она обиделась и обрадовалась: таким Иоганн ей нравился больше прежнего. Вечером он ее целовал и дразнил; она вспоминала изящных француженок из «Фоли-бержер» и растерянно вздыхала, как в годы девичества. Конечно, Иоганн изменяет ей, глупо его упрекать – война.
Когда она спросила мужа, страшно ли на войне, он ответил:
– Страшно. И захватывает… Вероятно, в человеке остается что-то детское, а это – игра, жестокая, но увлекательная.
Он понимал, что судил о многом только по книгам. Конечно, он не участвовал в настоящей битве, но все же он повоевал, его рота потеряла шесть человек. Он вправе говорить о войне, как фронтовик. Страшно, пожалуй, всем, но страх это как аппетитные капли перед обедом, он разжигает вкус к жизни. Когда Келлер сидел у себя дома в ночных туфлях и ждал гестаповцев, было страшнее… Есть в войне нечто отвечающее человеческой природе. Писатели этого не поняли, отделывались гуманными рассуждениями и слезами. А вот Гитлер понял. Не здесь ли причина его успеха? Он нас объединил, разбудил воинственные инстинкты, повел в драку, теперь мы связаны общей порукой. Разве я наци?.. Я вижу, как они исказили антропологию… Но сейчас я за Гитлера – нужно взять Лондон, не то всем нам придется расплачиваться за Париж…
Когда он вернулся в Дижон, Мими показалась ему еще более обворожительной. Она говорила:
– Ты знаешь, почему я тебя люблю? Ты – животное, да, да, не спорь, именно животное! Хотя ты – профессор, но я тебя уверяю, ты настоящее животное. Французы много говорят про любовь, а они никогда не теряют голову. Они все время смеются… А тебе стоит снять очки, как ты превращаешься в быка…
Он не понимал этой девушки, она вдруг начинала плакать, ругала себя, говорила ему, что очень счастлива, и в самые нежные минуты шептала: «Бык! Проклятый бык!..» Глядя в ее глаза, нежные и порочные, он думал: какая в ней грация и бесстыдство!..
Он не забывал семьи, посылал шоколад, колбасу, мыло; аккуратно через день писал Герте и в конце каждого письма ставил: «Тысяча поцелуев».
Ему нравилась Франция, ее холмы с виноградниками, готика церквей, узкие крутые улицы со ступенями, наглухо закрытые ставни домов, женщины в черном, звонкая речь, меткость выражений, живость глаз. Он чувствовал себя туристом, освобожденным от скучной обязанности на каждом шагу вытаскивать бумажник. Знание языка облегчало ему жизнь; он подчеркивал, что понимает и любит эту страну. Когда он замечал в глазах или в голосе недоброжелательство, он дружелюбно говорил: «Вы не должны на меня сердиться, я здесь не по своей воле. Война ужасная вещь!..» Бывало это не часто, и Келлер считал, что французы, хотя они и стеснены присутствием иностранных гарнизонов, не питают к немцам никакой неприязни.
Две недели он не видел Мими, скучал и злился. Наконец она пришла. Он заметил на ее теле синяки.
– Что это?
– Упала.
– Ты врешь и притом глупо…
– А ты не приставай. Тебя это не касается…
Он понял, что глупо устраивать сцену ревности; да и был он в благодушном настроении. Насытившись поцелуями, он хотел поговорить, подумать вслух. Конечно, Мими плохой собеседник… Но она рядом, а приятелей у него нет, товарищи спят, пьянствуют или, как он, пропадают у девушек.
– Я к тебе привязался, Мими, а ведь ты – настоящая француженка. Удивительно, как эта война сблизила всех! В моей роте славные ребята, они не имели никакого представления о Франции, а теперь говорят: «Хорошие люди и живут хорошо…» Конечно, бывают трения, мы ведь непрошенные гости… Но, по-моему, и французы нас поняли, даже полюбили. Ты встречаешься с разными людьми, интересно, что говорят в городе?
Мими громко засмеялась.
– Меня так излупили, что еле домой добралась.
– Кто?
– Не знаю кто… Французы.
– Ничего не понимаю… За что?
– А я понимаю… Я тебя люблю, но я знаю, что это – огромное свинство. Когда вы отсюда уберетесь, меня прирежут, можешь быть уверен…
Келлер подумал: все-таки в них много коварства. Улыбаются, а за спиной… Герта права – я чересчур наивен.
Он зашел в незнакомое кафе, у стойки выпил большой стакан коньяку. Ему было очень тоскливо, а, будучи человеком уравновешенным, он плохо переносил редкие приступы душевного смятения. Ему хотелось поговорить, объяснить, что он любит Францию, обличить скрытых врагов. На беду, в кафе никого не было, кроме старичка, бедно, но опрятно одетого, с ленточкой в петлице – отставной профессор лицея или общипанный войною рантье?.. Келлер попробовал заговорить с толстой, сонной хозяйкой:
– Хороший вечер, сударыня, настоящая весна.
– Неудивительно, сударь, ведь конец мая…
– Может быть, вы закрываете и я вас задерживаю?
– Нет, сударь, у вас еще час времени.
Она вышла в заднюю комнату. Старичок приветливо улыбался. Келлер подошел к нему, вежливо спросил:
– Разрешите подсесть?
Старичок не ответил; это вывело Келлера из себя; в его дальнейшем поведении сказались и разговор с Мими и коньяк. Он сел верхом на стул, широко расставил ноги.
– Вы что, разговаривать не хотите?
Старичок по-прежнему молча улыбался.
– Пора бросить эти повадки! Я вас заставлю разговаривать… И напрасно вы улыбаетесь. Верден – это древняя история, а я видел, как ваши генералы сдавались. Вы, что же, думаете сразить меня молчанием? Это хамство!..
– Сударь, вы напрасно сердитесь, господин Шампильо глухонемой, его все знают, у него живет ваш офицер…
Келлер выругался и в злобе хлопнул дверью. Чорт бы их побрал, все они прикидываются глухонемыми!.. Ночью он не спал, болела голова, лез в голову розовый старичок с отвратительной улыбкой, синяки на спине Мими… Гадость! Все гадость – и французы, и война, и я – хорош ученый, устраиваю скандалы…
Неделю спустя Келлер узнал, что его полк направляют в Германию. Он обрадовался встрече с Гертой, с детьми. А потом огорчился, значит, война для него закончена. Впереди – пресная жизнь, разговоры Герты о карточках, о талонах, интриги Клитча. Через год все забудут, что он – фронтовик, будут смеяться над его рассказами. Ничего не поделаешь, это жизнь…
Грустно было расставаться с Мими, для него она олицетворяла Францию, грешную и милую. Он думал, что она будет плакать, попросит взять ее с собой. Но Мими, узнав, что Келлер уезжает, спокойно сказала:
– Наверно, тебя пошлют в Египет или еще куда-нибудь. Я убеждена, что вас всех перебьют. Мне тебя жалко, это потому, что я – дура. А других мне не жалко и себя не жалко. Меня-то обязательно прирежут, и за дело…
13
Берти находил в работе некоторое успокоение. Кроме Мадо, у него была другая страсть – честолюбие. Прежде он называл себя сверстником двадцатого века; теперь, усмехаясь, он говорил: «победил мой век». В его представлении победили не чужеземцы, а новые идеи, нормы, навыки. Разговаривая с немцами, он видел, что они повторяют его мысли; соглашаясь с ними в душе, он умно и язвительно спорил – хотел подчеркнуть свою независимость. Пусть немцы видят, что меня не возьмешь комплиментами. Кто к ним пошел? Отбросы: десять глупых фанатиков и десять тысяч мошенников. Я им нужен, это бесспорно. А я не выживший из ума Петэн. У меня есть идеи, амбиция, воля. Никогда я не стану прислужником немцев. Но если они окажутся достаточно умными и гибкими, я могу стать их союзником. Это будет настоящим патриотизмом – не только отстоять свое место во Франции, но и отстоять также место Франции в новой Европе.
Заводы Берти работали на полном ходу – изготовляли грузовики для немецкой армии; и Берти чувствовал себя причастным к грандиозной эпопее – его машины проходят по всем дорогам Европы – от норвежских фиордов до Фермопил. Они и в Африке… Они будут в Англии. Берти был уверен в победе Германии и, когда Мадо однажды спросила его, что будет с Францией, он ответил: «Лучше быть простым солдатом в армии победителей, чем маршалом армии побежденных…» Как-то пришел проведать Мадо доктор Морило, он выслушал Берти, который говорил о победе новых принципов, а потом с грубоватой веселостью спросил:
– Вы не боитесь, что англичане скрошат ваши заводы?
Берти усмехнулся:
– Это исключено…
Морило был настолько изумлен его ответом, что потом сказал своей жене: «Вероятно, Берти связан с англичанами, слишком он уверен».
А Берти был уверен в близком разгроме Англии.
Он добился того, что немцы с ним держались почтительно. «Ни один немец без моего разрешения не войдет ко мне», – заявил он еще в начале оккупации, и действительно немцы относились к его заводам, как к небольшому государству.
Среди влиятельных немцев, с которыми ему приходилось встречаться, был Рудольф Ширке. Бывший владелец бюро «Европа» занимался различными делами – и прессой, и культурной жизнью Франции, и беседами с крупными фигурами парижского общества (Ширке называл такие беседы «несентиментальным воспитанием»). Берти ценил в Ширке знание Франции, разносторонность, а главное смелость – другие немцы сплошь да рядом отмалчивались, оттягивали решение, запрашивали Берлин, а Ширке сразу отвечал «да» или «нет».
Был один из первых знойных дней, когда Берти сказал Мадо:
– Сегодня у нас обедает господин Ширке. Я понимаю, что это вам неприятно. Это неприятно и мне. Но приходится многое терпеть… Я не связан делами с этим немцем и пригласил его только для того, чтобы указать на недопустимость ряда мер оккупационных властей…
Ширке был чрезвычайно любезен, отпустил несколько комплиментов хозяйке дома, восторженно отозвался об обстановке – «у вас северный вкус». Берти говорил о тупости и бесцеремонности немцев. Ширке внимательно слушал, иногда что-то записывал в книжечку, говорил мягко, даже виновато: «увы, у нас много солдафонов…»
Потом разговор перешел на общие темы. Всех в те дни занимал один вопрос: куда двинется германская армия после блистательного завершения операций на Балканах? Берти заметил, что Ширке возбужден, и приписал это старому «шато-неф-дю-пап» – он ведь следил за бокалом гостя. Ширке сказал:
– Я не выдам военной тайны, если скажу, что мы на пороге последней кампании. Судьба Британской империи решится на Востоке…
– Я с первого дня был уверен, что вы повернетесь, рано или поздно, против коммунизма. Но борьба будет трудной, очень трудной. От вас зависит, будем ли мы в этой борьбе с вами. Прошел год, а вы ничего не сделали, чтобы сблизить наши народы. Если вы хотите запугать или одурачить французов, вы ошибаетесь. Вопрос поставлен прямо – какое место должна занять Франция в новой Европе?
Может быть, действительно потому, что вино было отменным и Ширке не рассчитал своих сил, может быть потому, что за час до обеда он узнал о решении фюрера, но на одну минуту он потерял душевное равновесие, вытер лоб салфеткой и сказал:
– Место Франции в новой Европе? У вас есть хорошая пословица – коза щиплет траву там, где ее привязали.
Мадо встала и, не говоря ни слова, ушла. Ширке сразу понял, что он совершил бестактность. С подчеркнутой любезностью он возвратился к претензиям Берти, обещал принять меры, говорил о том, что в предстоящей войне Германия и Франция будут союзниками, несколько раз повторил: «нас свяжет солдатская дружба».
Все же у Берти остался после этого разговора отвратительный привкус. Вечер был душным, болела голова. Берти долго ходил по большим и пустым комнатам своего дома. Наконец он робко постучался в комнату Мадо. Она не ответила. Он приоткрыл дверь. Мадо сидела в кресле возле окна. Он ее окликнул, она не отозвалась. Он осторожно подошел к ней, сказал: «вы должны меня простить», хотел поцеловать ее руку. Она отняла руку и тихо, почти топотом сказала:
– Не нужно меня трогать… Я боюсь, что я вас убью…
14
Перед отъездом из Франции Келлеру удалось побывать в Париже. Он давно мечтал снова увидеть город, который перед войной показался ему сказочным. Тогда он чувствовал себя связанным и заботливостью Герты, и наставлениями доктора Кенига, и недружелюбием французов. Теперь он проходил по улицам Парижа одинокий, свободный, гордый – не было в нем ни страха, ни былой приниженности, и хотя город потускнел, полинял, он пленял Келлера.
В первый же день он решил навестить профессора Дюма. Правда, за год я сильно отстал от науки, но профессор понимает, что война не рабочий кабинет. Приятно встретить знакомого француза. Да и Дюма обрадуется, что немецкий ученый пришел засвидетельствовать ему свое уважение… Келлер не договаривал себе главного: он не любил вспоминать встречу с Дюма – он вел себя тогда, как мальчишка, он хотел теперь предстать перед французским ученым в более выгодном свете.
Когда он подымался по крутой лестнице, ему пришло в голову: вдруг Дюма не захочет со мной разговаривать? Ведь есть среди них непримиримые… Нет, не может быть – он и Дюма прежде всего люди науки, между ними не может быть рва.
Дверь открыла Мари; она не признала в немецком солдате гостя, который отнесся равнодушно к ее кулинарным талантам, прибежала к профессору с криком:
– Немцы!..
Дюма спокойно сказал:
– Пускай обыскивают. А может быть, они за мной?..
Он застегнул пиджак и, выйдя в переднюю, прорычал:
– Если за мной, не буду вас задерживать.
– Вы меня не узнаете, господин профессор? Иоганн Келлер. Перед войной вы оказали мне высокую честь…
– Ах, это вы!.. Индеец… Хорошо, заходите. Теперь ведь такой маскарад, что не разберешь… Садитесь, не стесняйтесь, здесь и так все перепачкано… Угостить, к сожалению, нечем, все ваши соотечественники вылакали. Погодите, есть – на донышке, зато нечто замечательное! Старый кальвадос. Над чем изволите работать?
– Я уж больше года как оторван от работы.
– Города берете? Паршивое занятие! Сначала вы берете, потом у вас будут отбирать, мало что останется от городов. Да и от вас… Помню, один ваш профессор жаловался на переизбыток населения. Как бы вас не сократили… Вы меня простите, что я на вас налетел. Живу в одиночестве… Я ведь понимаю, что вы к этой пакости непричастны.
– Я господин профессор, как прежде, избегаю политики.
– Я ее тоже избегал. А она, знаете, сама явилась… Пейте кальвадос, это теперь редкость. Жалко, что вы в этаком одеянии, ведь порядочный человек, ученый, подающий надежды, и в таком поганом виде, глядеть противно!.. Вам что – нельзя ходить по городу в цивильном?..
– Но, господин профессор, почему вы все так заостряете? Я думаю, что за это трудное время наши народы сблизились, научились понимать друг друга…
– Как вы сказали: «Сблизились»? – Дюма вскочил и захохотал. – Мари, идите сюда! Поглядите на этого господина – он говорит, что мы теперь «сблизились» с немцами!.. Значит, если бандит повалит человека и заткнет ему тряпкой рот, выходит, что он «сближается»?..
Келлер все время сдерживал себя, помнил, что перед ним знаменитый ученый; но сейчас он больше не владел собой:
– Я думал, что события чему-то научили французов, хотя бы скромности…
Дюма покраснел и крикнул:
– А ну-ка, убирайтесь! Приведите сюда ваших гестаповцев. А гостем нечего прикидываться! Мари, проводите. Да вы поживее!..
Келлер молча вышел. Мари плакала:
– Что вы наделали, господин Дюма!.. Теперь они придут за вами…
Он взял ее шершавую руку.
– Эх, Мари!.. Нужно уметь жить по-настоящему – весело, петь, танцовать, пить, если есть что… А умереть нужно тоже умеючи, по-человечески. Если зайца подстрелить, он плачет, как малый ребенок. А подруби дерево, оно молча падает… Смерти нечего бояться, это тоже благородное дело, если только ты – человек, а не тряпка… Откройте окно, чтобы его духа здесь не осталось…
Так были испорчены последние дни пребывания Келлера во Франции. В Аахене он нагнал свою часть. Их повезли в Польшу. Солдаты гадали, где начнется новая война.
– Говорят, что в России, – сказал фельдфебель. – Русские нас не любят…
Келлер уныло усмехнулся:
– Теперь война повсюду. Вы думаете, нас любят во Франции? Они только и ждут удобного случая, чтобы на нас накинуться… Мне жалко, что я не отвел в комендатуру одного негодяя, не хотелось марать рук… Мы, немцы, чересчур доверчивы, да и чересчур благородны.
15
Рая танцовала с Полонским. Перед этим она выпила стакан муската, ей хотелось быть веселой; когда она пошла танцовать, она улыбнулась; сейчас ей было страшно, но она продолжала улыбаться – лицо застыло. А тело подчинялось ритму танца. Была в этом ритме настойчивость судьбы. Саксофон выл, как брошенная собака; барабан считал, подсчитывал; и среди свиста, воя, грохота по-детски всхлипывала скрипка. Вдруг все оборвалось: пустота, яма, тишина, от которой голова кружится. Что мне делать? – подумала Рая. И сразу ожил саксофон, завыл: нужно нестись, качаться, кружиться!..
В «Континентале» было людно, несмотря на жаркую погоду. Ведь завтра воскресенье, не лучше ли было поехать в Святошин, в Дарницу, в Пущу-Водицу, где пахучая смола или свежескошенное сено?
– Завтра по календарю начинается лето…
На дворе давно лето. Жарко. Почему не катаются на лодках, почему пришли сюда?.. Ведь от музыки, от вина, от слов еще жарче…
– Петя, как ты думаешь, будет война?
Кто это спросил? Кажется, молоденький лейтенант. А может быть, тот, в сером клетчатом костюме? Или Ященко?
На базарах говорили, что немцы скоро нападут. Старая Хана утром пришла перепуганная:
– Раечка, говорят, будет война…
Каждый в глубине души думал: не может быть!.. Молоденький лейтенант вчера только женился, танцовал со своей Варенькой. Как мог он поверить в войну? Как мог поверить в войну тот – в сером клетчатом костюме? Он пришел, чтобы отпраздновать победу – перевыполнили, скоро завалим все магазины чашками с розанами, с васильками, с золотым ободком. Девушка, с которой он танцовал, должна была через три дня защищать диссертацию об азотном питании растений. Война?.. Нет, этого не может быть! А Петя, которого спросили, будет ли война?.. Он изобрел новый способ цветной штукатурки, говорят, что его выдвинут на премию. Сегодня он справляет день рождения. И вдруг война?.. Нет!
– Нет, – сказала утром Хана, – этого не может быть! Ведь люди только-только вздохнули…
Хане казалось, что война началась очень давно, вскоре после отъезда ее мужа. Наума убили. Убили брата Ханы – у Перемышля. Другой брат погиб четыре года спустя на Кавказе. Говорили, что будет мир, а стреляли на улицах… Какие-то петлюровцы, поляки, бог знает кто… Потом начались карточки, хвосты… Хана успела состариться. Вдруг белофинны… Теперь, слава богу, жизнь налаживается, строят дома, зайдешь в магазин – можно все купить… И вот говорят – война… Но ведь война только кончилась. Нет, этого не может быть!
– Этого не может быть, – бормотал учитель географии Стешенко, мечтая в душной комнате о даче, о садике с петуньями, о гамаке.
– Этого не может быть, – говорила Зина. В ее голове жили подвиги юнаков, но то – литература… А в соседней комнате спит сын дворничихи, годовалый Шурик, он должен расти, играть, учиться…
Не верили в войну, и все-таки было тревожно. Кто знает, что выкинут немцы?.. Но завтра – воскресенье, молодые могут вволю потанцовать.
Среди тревоги мира какой маленькой была драма Раи! Она сама это понимала; но сердце не хотело считаться с событиями. Полонский не просто «увлечение», каких у нее было много – пококетничала, потанцовала и забыла. Нет, Полонский – это счастье. Счастье или гибель…
Осип пробыл на севере больше года. Он радовался, как ребенок, когда увидел белые пески у Днепра, а потом крутую улицу и длинные ресницы Раи; ему хотелось бить в ладоши, кружиться по комнате. Но он только сказал: «Раечка, я очень рад, что приехал»… И в тот же вечер убежал: «Нужно поговорить с Ященко». Ночью Рая шептала: «Я так тебя ждала! Ты знаешь – я верная»… Он не удивился. Рая возмутилась: я для него, как ящик, – уехал, запер, теперь вернулся – все на месте… А молодость проходит, последние ее дни…
Ей было еще труднее с мужем, чем до его отъезда. Он говорил только о своей работе или о том, что греки взяли какую-то Корчу. Не спрашивал, о чем она думает, чем живет. Она ему сказала: «Музыку я теперь совсем забросила». Он ответил: «Жалко» и развернул газету. Иногда он начинал жарко, почти богомольно целовать ее маленькие руки, приговаривая: «Рая! Раечка!..» И уходил. Службой она тяготилась. Начальник глядел на нее стеклянными глазами и говорил: «Разве вы не видите, что я занят?» Аленька все время была с бабушкой; так уж вышло – раньше Рая мало занималась дочкой, хотелось пойти в театр, потанцовать, а теперь Аля любила бабушку больше, чем мать. Рая никому не нужна, она может хоть сейчас умереть, никто не огорчится…
Неправда, Осип ее любит. Но странная это любовь! Может быть, так любят на другой планете… В мае его снова послали на Печору. Он обрадовался: «Интересно, как у них там двигается… Ты, Рая, не огорчайся, теперь это твердо на один месяц». Может быть, он скоро вернется, как обещал, может быть, застрянет на год, он ведь сам не знает… Разве это человек? И все-таки он ее любит, незадолго до отъезда признался: «Знаешь, Рая, я как-то там вышел… Зима, темно. И вдруг подумал, что тебя нет – забыла, ушла… Мне показалось, что я ослеп, никогда не увижу ни Киева, ни жизни. Прямо, как в романах, глупо звучит, но не могу себе представить жизнь без тебя…»
– А я?.. Кажется, я тоже люблю, думаю, страдаю из-за него. Может быть, это только привычка?.. Не знаю. А с Полонским совсем другое – когда он смотрит, мне хорошо и так страшно, что, кажется, сейчас умру… Пойду с ним снова танцовать, только нужно все время улыбаться, тогда он не видит, что со мной…
Полонский был выше Раи и, танцуя, глядел на нее сверху; он не улыбался; лицо у него всегда было печальным, слегка обиженным – от формы рта, может быть от глаз. А он не был ни грустным, ни обиженным, радовался, что весь вечер с Раей. Влюбился он не на шутку, пропала путевка в Сочи: не мог расстаться. Встречи были нечастыми и всегда на людях. Он видел, что Рая к нему тянется и боится… Он не гадал, что будет дальше, жил от встречи до встречи. Разговаривали они как-то случайно, часто о пустяках, но пустяки казались им значительными, они переспрашивали друг друга, радовались, обижались; это была сеть недомолвок, смутных намеков; они переходили от стихов к названиям улиц, от улиц к дождю, от дождя к Шопену.
Они вышли из «Континенталя». Рая знала – нужно итти домой, говорить о чем-нибудь безразличном; а она пошла медленно в другую сторону, шла, как будто не замечала, что рядом Полонский.
– Почему вы не едете в Сочи?
– Не знаю.
– Вы думаете, что будет война?
– Нет.
– Вы были в Сочи?
– Нет, в Сухуми был.
– Хорошо?
– Мне больше всего понравилась дорога – из Одессы.
– Солнце и голубое море, правда?
– Нет, был сильный шторм. Многих укачало… Я простоял всю ночь на палубе. Страшно, но очень хорошо. Есть стихи:
Ревет ураган,
Поет океан…
Мчится мгновенный век…
А по-моему, это страшно, когда шторм… Я никогда не видела. Когда же вы поедете? В августе?
– Не знаю… Вдруг война будет…
– Вы только что сказали – не будет…
– Разве? Не знаю… Я сейчас подумал – увидимся ли мы еще?..
Они шли по пустой, темной улице. Кругом были сады. Над ними звезды. Он взял ее под руку, почувствовал, что она прижалась к нему. Ни о чем не думая, он поцеловал ее, она ответила; потом отобрала руку:
– Нет.
– Почему?
– Не знаю…
Он взял ее руку, она отдернула.
– Почему вы не хотите?..
Она молчала. Ускорила шаг; теперь они шли вниз к Крещатику. Он увидел, что у нее в глазах слезы. Они не разговаривали; только когда они подошли к дому, где жила Рая, она сказала:
– Вы не должны сердиться… Я не могу иначе, я это чувствую, а объяснить не умею ни вам, ни себе. Нет, не потому, что не хочу… Когда-то говорили «не так живи, как хочется»… Вот и бога нет, а все-таки, как хочется – нельзя…
Она была настолько взволнована происшедшим, что не подумала привести себя в порядок, так и пришла домой заплаканная. А Хана на беду не спала, увидев Раю, вскрикнула:
– Что случилось?..
– Ничего…
– Тут приходила Антонина Петровна, говорила, что немцы обязательно нападут, я уж не знаю, кто ей сказал… А ты, Раечка, что слышала?
– Я? Ничего…
Рая разделась, хотела лечь, вдруг услышала, что Хана плачет.
– Что ты?..
– Леву, наверно, убили… Чем мы прогневили бога?..
– А ты веришь в бога?
– Не знаю… Когда все хорошо, я об этом не думаю. А когда что-нибудь случается… Ты, Раечка, не сердись, у тебя книги, ты в театр ходишь… А у меня только это – вспомню, как когда-то молилась, и полегчает. Мне за Леву страшно…
– Если будет война, Осип пойдет…
– Ося крепкий. А Лева, как покойный Наум… Ося не растеряется. Я тебе скажу по правде – я Осю боюсь. Смешно – я его нянчила, а боюсь.
– Почему боишься?..
– Он молчит.
– Он, как ребенок, не умеет ничего сказать о себе. Я, кажется, сейчас его понимаю… С ним и счастья не нужно. Трудно только, ох, как трудно! Я не о нем говорю. Жить трудно. А ведь я и не жила еще, баловалась. И все-таки трудно…
Хана прижала ее к себе, как Алю:
– Знаю, все знаю… Только бы войны не было! А это уладится… Ну, вот и уладилось, вот и спишь…
Рая, измученная, уснула рядом с Ханой; во сне она чуть улыбалась; не так, как когда танцовала с Полонским; теперь ее улыбка была легкой, спокойной. Заснула и Хана. Дыхание, как часы, отмеряло время. А июньская ночь была короткой.








