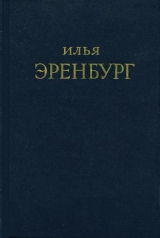
Текст книги "Буря"
Автор книги: Илья Эренбург
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 63 страниц)
14
Увидев немецкого лейтенанта, Хосе схватился за автомат. Все рассмеялись:
– Да ты не видишь, что это Мики?
Еще эффектнее выглядел Чех – серое габардиновое пальто, фетровая шляпа, огромный портфель из свиной кожи. Четыре партизана надели форму немецких солдат. Чех прекрасно говорит по-немецки; с ним пойдут Мики и переодетые партизаны. Деде с пулеметчиками останется у ворот: если охрана успеет вызвать немцев из города, они откроют огонь. Воронов, Шарло и Хосе попробуют снять часового с вышки.
Когда все были в сборе, Деде сказал:
– До тюрьмы сто двадцать километров. Мы должны к трем часам ночи все закончить. Если опоздаем, завтра их расстреляют…
Это была отчаянная езда – в темную дождливую ночь по петлистым дорогам. Водители торопились – завтра тех расстреляют!.. Объезжая посты, ехали по проселкам. Все жадно вглядывались в темь, иссеченную тонкими черточками дождя.
Чех постучал в ворота.
– Откройте!
– Кто здесь?
– Гестапо. Мы приехали за осужденными…
Охрана была французская. Два гестаповца следили за порядком, сейчас они мирно спали на клеенчатом диване в кабинете начальника. Часовой не открывал двери: приказ никого не впускать. Чех кричал:
– Идиоты, я вас всех отправлю в Германию!..
Часовой еще раз посмотрел в оконце: гестапо… Этот с портфелем уже приходил. Чорт бы их побрал: один дает приказ, другой отменяет, а мы должны расплачиваться! Такой разозлится и в два счета отправит на работы… Чех колотил в ворота, ругался. И часовой, вздохнув, открыл боковую дверцу.
Во двор выбежали, разбуженные шумом, гестаповцы. Один из них крикнул:
– Огонь!
Застрочил пулемет, оба немца упали почти одновременно: Воронов успел оглушить часового на вышке. Теперь двор был под огнем его пулемета. Тюремщика, который вздумал сопротивляться, постигла судьба гестаповцев.
– Открывай камеры, – приказал Мики.
Смертники решили, что это немцы. Ведут на расстрел…
Никто не поверил Мики, который кричал: «Да мы из мак и …»
– Товарищи, умрем достойно!..
Они запели «Марсельезу». Тогда Мики обозвал их «коллекцией идиотов», «колбасой», «гусями» и многими другими, еще более образными эпитетами; чем крепче он выражался, тем веселее становились смертники: так ругаться может только свой… Вдруг один из смертников кинулся к Мики:
– Рене!..
Мики его обнял, потом сказал:
– Во-первых, я не Рене, а Мики, во-вторых, речи и цветочные подношения откладываются на вечер. Сейчас поживее! Грузовики внизу, места, кстати, ненумерованные.
Одну из одиночек не могли открыть. Тюремщик клялся:
– Ключ сломан.
– Ключ – ерунда, – сказал Мики. – Вот я тебе голову сломаю, это будет похуже…
Тюремщик покряхтел и открыл дверь. На полу лежал Морис, он не мог двинуться; его вынесли на руках.
В дежурке Мадо увидела Жако.
– Ты что здесь делал?
Он ответил, не глядя на Мадо:
– Меня должны были утром выпустить. Немцы сказали, чтобы я ждал здесь.
Мадо разыскала Деде; она с ним встречалась, когда он был в отряде «Габриэль Пери».
– Деде, здесь есть предатель, он выдал Мориса.
Деде ответил:
– Возьмем и предателя.
Они освободили двадцать семь заключенных: почти всех должны были расстрелять на следующее утро. Шарло нашел своего брата. Мики не мог успокоиться: «Нет, ты подумай – вдруг вижу – Пьер, а мы с ним в одном цехе работали…»
Грузовики понеслись наверх в гору. Рассвело. Кругом был лес, голый и мокрый. Деде остановил машину, Он сказал Жако:
– Противно тратить пулю на предателя, но мы не сволочь, мы партизаны. Держи папиросу. Можешь выкурить. Все.
Он застрелил Жако. Они поехали дальше. Вот и мак и !..
Нет машины, на которой ехали Хосе, Шарло и Медведь. За посадкой смотрел Мики. Деде кричит:
– Как же ты их оставил?
– Медведь сказал: «Поезжай, мы догоним…» А сам понимаешь, если говорит Медведь…
– Кто это Медведь? – спрашивает Мадо.
– Разве ты его не видела? Высокий… Это русский офицер, не белый – настоящий, оттуда. Он убежал с рудников…
Все рассказывают про Медведя. Только Деде сидит насупившись: что с Медведем?
Пока Мики обходил камеры, один из тюремщиков рассказывал Шарло о местных нравах: «Хуже всех эсэсовец… Он здесь живет, полкилометра от тюрьмы, ему домик отвели. Приезжает к вечеру, начинает допрашивать. Его немцы называют „первым мастером“. Подвешивает за ноги…» Воронов предложил: «Что если заехать к этому мастеру?..» Шарло и Хосе согласились.
Все прошло гладко: эсэсовец не успел даже схватиться за револьвер. Воронов достал из шкафа папки, взял с собой. Когда они отъехали, было еще темно. Они столкнулись с жандармами. Водитель разогнал машину, маленький «ситроен» петлял, как заяц. Выскочили…
Девушки постарались, приготовили замечательный обед: как раз накануне Ив, которого звали «главным интендантом», приволок четырех баранов и бочку вина. Пили, пели, обнимали друг друга. Пьер, старый приятель Мики, в сотый раз говорил:
– Вот так история!.. Ведь мы были уверены, что нас утром расстреляют… А вместо этого сижу с ребятами и пью вино…
Морис лежал в шалаше. Он спросил: «Где Жако?» – «С ним кончено», – ответил Деде. Морис сказал: «Это хорошо. А то меня мучило, что он уйдет…»
Мадо, наконец-то, увидела Медведя. Великан, а глаза у него детские… Она доверчиво сказала:
– У меня был русский друг. Давно. В другой жизни…
Старалась припомнить все русские слова, какие знала. И вдруг грустно улыбнулась:
– К чёрту пошлет…
Воронов засмеялся:
– Ты зачем это выучила?
– Так у вас гадают.
– Плохо тебе гадали… – Он дружески ее обнял. – К сердцу прижмет – вот это по-русски… Завтра у нас большой праздник – годовщина Революции…
Деде встал:
– Выпьем за русских. Только, Медведь, ты не так сказал: это и наш праздник…
Воронов думал о большой битве: скоро возьмут Киев. Его трудно взять – широкая река, крутой берег. Наверно, пошли в обход… Обязательно возьмут… Он вспоминал другое лето – степь, запах полыни, Дон… Он идет рядом с Сергеем. Оба молчат – слишком горько… Там все изменилось. Где Сергей? Может быть, на Днепре?..
Мадо еще не могла опомниться. Болела спина, ноги – ее избили плеткой после того, как она укусила немца. Она успела приготовиться к смерти. Вчера она думала об одном – в отряде «Сэмпе», наверно, ждут…
Смерть казалась ей избавлением от пыток и только, дальше она не заглядывала, ни о чем не вспоминала. И вдруг в камеру вошел Деде…
Пахнет гнилыми листьями, дымит костер. Мики поет:
Мы жить с тобой бы рады,
Но наш удел таков.
Что умереть нам надо
До первых петухов…
Девушка ласково смотрит на него.
Этого русского зовут Медведь. Он оттуда… Нет, Сергей не прижмет меня к сердцу, да и не нужно, все это позади… В глазах слезы, ничего – слезы от дыма. Как смешно горят еловые шишки!.. Значит, я буду жить?.. И жизнь снова ее охватывала, милая, беспокойная, непонятная, как огонь костра.
15
Лежан сидел в просторном кабинете адвоката Гарей и поджидал человека, которого называют Шатле. Смешно – представители BOA влюбились в метро, у них что делегат, то название станции. Но почему этот Шатле опаздывает? Ночевка у меня на другом конце города, в метро не поедешь – облавы…
Стены кабинета были увешаны фотографиями хозяина дома в черной мантии – он подымал вверх руки, грозил кулаком, плакал крупными отчетливыми слезами и самодовольно улыбался. В сорок первом Гарей говорил, что «Петэн это Жанна д'Арк», а теперь ветер дует с другой стороны, и он завел знакомства с AS, когда выгонят немцев, окажется, что выгнал их не кто иной, как Гарей. Лежан зевнул. Есть возраст, когда человеческая комедия начинает приедаться… А Шатле все нет…
Наконец он пришел. Это был худощавый высокий человек с военной выправкой и с умными проницательными глазами. Лежан сразу понял, что перед ним не пешка.
Шатле заговорил о бомбежках французских городов: немецкое радио пытается восстановить население против союзников.
– Наша задача объяснить французам, что эти несчастья приближают час освобождения.
– Бесспорно, – ответил Лежан. – Но здесь встает вопрос об оружии. Я не берусь судить летчиков. Я говорю об этом с нашей, французской точки зрения. Понятно, что нужно уничтожить железнодорожный мост. Они бомбили семь раз. Городок почти целиком разрушен, а мост целый… За последние полгода мы взорвали двадцать восемь мостов. Мы могли бы сделать гораздо больше, все упирается в одно – не хватает оружия…
– Переброска дело сложное, но теперь, я надеюсь, будет лучше…
– Хорошо, оставим вопрос о переброске. Почему нам не дают того оружия, которое уже здесь? Зачем устраивать коллекции?
– Для дня высадки.
– Которая произойдет?..
– Тогда, когда произойдет. Не мы это решаем…
– В июне сорок второго мне передали, что незачем нападать на немцев, через несколько недель произойдет высадка. Этим летом, после убийства генерала Шаумбурга, ваш коллега говорил: «Зачем распылять силы? В августе они высадятся…» Теперь ноябрь… Говорят, что зимой десанту мешают туманы, весной и осенью – на Ламанше бури, а летом чересчур ясно. Я надеюсь на одно – когда русские подойдут к немецкой границе, эти господа перестанут изучать барометр…
Шатле улыбнулся.
– Русские хорошо воюют, это бесспорно. Я военный, господин Люк, и я могу оценить стратегию Красной Армии. Но мы должны считаться не с русским темпераментом, а с планами Америки и Англии. Говорят, что в Лондоне большие разногласия, генерал Арнольд, например, считает, что можно ограничиться бомбежками немецких городов. Имеются сторонники южного варианта. Много сил поглощает Италия…
– Значит сидеть у моря и ждать погоды?
– Никто не предлагает ждать…
– А как вы понимаете «аттантизм»?
– Это термин, придуманный вашими друзьями.
– Может быть, термин наш, сущность ваша… Я хочу сказать, что BOA обрекает внутренние силы на бездействие.
– BOA сбрасывает оружие в пределах возможности.
– И это оружие зарывают в землю…
– Его прячут от немцев. Я не понимаю, что вас возмущает, господин Люк?..
Лежан встал, прошел по длинному кабинету и, глядя в упор на Шатле, сказал:
– Может быть, так будут разговаривать после победы – в парламенте или на мирной конференции, но сейчас это дико… Каждый из нас может сегодня вечером оказаться в гестапо… Зачем нам лицемерить?
Шатле ответил спокойно; его волнение сказалось только в том, с какой яростью он погасил окурок сигареты.
– Хорошо, я буду говорить с вами не как представитель BOA, а как обыкновенный француз. Я – католик, вы – коммунист. Мы сидим в кабинете Гарей. Нас могут сейчас арестовать. Нас будут пытать те же гестаповцы и расстреляют на том же пустыре. Вы абсолютно правы: нас объединяют немцы.
– Боюсь, что нас объединяет только это… Да и то не совсем… Многие из ваших ничему не научились. Они боятся нам дать оружие.
– И это правда. Год назад было иначе, тогда все восхищались героизмом коммунистов. Я тогда думал, что произошло чудо, и нация нашла единство. Но чудес не бывает… Положение улучшилось. На Востоке немцев бьют. Несмотря на ваш скептицизм, рано или поздно союзники высадятся. Италия кончается. В Германии настроение отвратительное. И вот показались первые трещины. Вас это удивляет? Меня ничуть… Возьмите мировые дела – там то же самое. Пока шли бои на Волге, не могло быть мысли о соперничестве, все аплодировали большевикам, а сейчас англосаксы начинают подумывать о дележе, хотя медведь далеко не убит. Что вы хотите, еще Теренций сказал: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо»…
Лежан вдруг почувствовал, до чего он устал. Зачем он разговаривает с этим человеком? Ведь в каждом слове Шатле чувствуется ненависть… И Лежан резко сказал:
– Хватит философии! Мы получим оружие?
– Как вы хотите, чтобы я вам ответил – как представитель BOA или как обыкновенный француз?
Лежан не выдержал, улыбнулся.
– Прежде всего, как делегат BOA.
– По мере возможности. Вероятно, после организации новых пунктов для переброски. В декабре или в январе…
– А теперь, как француз?
– Нет.
Когда Лежан уходил, в переднюю выбежал адвокат Гарей. Он схватил двумя руками руку Лежана и с дрожью в голосе повторял. «Герои! Наши герои!..» Лежан усмехнулся: еще одна фотография на стенку…
Грустный, он шел через город. Конечно, он знал заранее, что ничего они не получат, на свидание пошел только потому, что настаивали товарищи, но от разговора с Шатле осталась горечь – сам того не желая, Лежан заглянул в будущее. Наивные думают – кончится война, не будет фашистов и наступит рай… А впереди борьба, жесткая, суровая, может быть тяжелее этой… Разве вчерашние кагуляры примирятся с нами?.. Теперь мы им нужны: наши люди умеют умирать, в сорок третьем это еще ценится… А как они будут с нами разговаривать в сорок восьмом? Мавр сделал свое дело… Но мавр не уйдет. Как это горько! Хочется, хотя бы помечтать о счастье…
Он ночевал у незнакомых на окраине города. Хозяйка, впустив его, ушла к соседке. Лежан посмотрел на часы – восемь. Мари должна притти в девять. Можно отдохнуть… Он сидел на продавленной кровати. В пустой комнате было холодно, он не снял пальто. Его захватила печаль, глубокая и плотная. К мыслям о будущем примешалось личное горе. Четыре года назад он был счастлив. Это было весной, он хорошо помнит, он пришел с работы. Мими шалила, вылила из его ручки чернила на ковер. Поль готовился к экзаменам, говорил: «Самое страшное тригонометрия»… Жозет играла ноктюрн Шопена… Ничего не осталось… Где сейчас Жозет?
Может быть, сидит в такой же холодной чужой комнате, ждет, когда за нею придут гестаповцы? Или в мак и ?.. Или погибла?.. Давно не было писем, плохая связь… Нет Поля. Нет Мими. Война может кончиться, а они не вернутся… Я и Жозет – два дерева с обрубленными ветками. Такие не зазеленеют.
Постучали. Это пришла Мари, принесла сына, маленького Жано.
– С ним спокойней – полицейские не придираются. Да и оставить не на кого. Люк, ты его еще не видел, похож на Пепе, правда?
Лежан улыбнулся – ему показалось смешным, что этот малыш может походить на Пепе. Разглядев его, он подумал – правда, что-то от Миле, глаза, движения, как тянется к матери и машет ручками, улыбка…
– Беспокойный, – сказала Мари, – настоящий сын Пепе.
– Сколько ему? Два?
– Что ты! Год и два месяца.
Лежан вспомнил Миле, и снова печаль его затянула, как водоворот. Миле всему радовался, чубастый, восторженный, была у него Мари, он только начинал жить. И убили. Как Поля…
Мари сказала:
– Анри предлагает взять в Венсенн двадцать автоматов. Им нужно шесть человек. Опытных…
– Когда?
– Девятого.
– Хорошо, завтра подберу. Казармы?
– Нет. «Солдатский дом».
– Я тоже пойду…
У Мари ребенок, а она работает, носит листовки, оружие… Могут расстрелять. Или пошлют в Равенсбрук, еще хуже… А если даже выживет… Он вспомнил жесткие глаза Шатле… Снова война… Счастья, обыкновенного счастья не будет…
– Люк, а ведь Жано будет легче, чем нам, правда?
Он поспешно ответил:
– Правда.
И задумался. Правда ли?.. Все книги, которым он верил, говорили одно – мучительно, но неизменно человек продвигается вперед, иногда путь его извилист, иногда напоминает спираль, малодушным кажется, что нет ни смысла, ни цели в этом вечном вращении; а человек все-таки движется. Конечно, гестаповец хуже дикаря – зло тоже совершенствуется. Отчаявшийся скажет: праведники были и раньше. Были. Но раньше они действовали по наитию. Теперь есть сознание. Вот в чем залог счастья! Сознание победит. Неважно, если у Анри Лежана не будет того, что люди называют личной жизнью. Жизнь шире… Часто слышишь «чужое счастье». Но разве счастье сына Миле для меня чужое? Или счастье русских?.. Значит правда. Нужно только преодолеть горе. Я устал… А будет хорошо, если не через десять лет, через сто…
Он взял на руки Жано и стал петь песенку, которую любила Мими, когда была маленькой:
Наш козел искусник,
Он развел капустник…
Лежан не думал больше о будущем. Он не ощущал ни одиночества, ни тревоги, ни той войны, которая длиннее, чем война, ни холода чужой комнаты, ни тоски стареющего человека. К нему пришла жизнь – маленькая, шумливая, непоседливая; и суровый Люк, о котором Шатле рассказывал «увидел настоящего фанатика», Люк, который перед этим участвовал в нападении на эшелон и должен был через три дня швырнуть гранату в часового, сейчас ласково улыбался Жано. А Жано бил в ладоши.
16
Лео помнит февральский солнечный день. На улице продавали мимозу. Он купил веточку Леонтине. Он не мог избавиться от легкомыслия. Каждый день он говорил жене, что не сегодня завтра придет спасение. Еще вчера Леонтина его умоляла: «Ты должен спрятаться, забирают всех евреев…» Он отвечал: «После Сталинграда они не посмеют…» Он шел домой с мимозой, веселый, полный звучания предвесенней улицы. Леонтина караулила его на углу: «За тобой приходили… Счастье, что тебя не было!»
Он отослал жену к Соже: они сказали, что могут приютить Леонтину, приютили бы и господина Альпера, но это слишком рискованно, у них дети… А Лео пошел к Лансье. Ни разу после катастрофы он не был в «Корбей», не хотел компрометировать Мориса. Но теперь у него нет выхода, а Лансье говорил, что, когда понадобится, он сделает все для старого друга. Увидев Лео, Лансье так перепугался, что ничего не мог вымолвить. Какой ужас! Могли заметить, что к нему ходит еврей… «Здравствуй, Морис, – сказал Лео, не замечая, что происходит с Лансье, – как живешь? Говорят, ты женился?» Лансье не мог сдержать себя, крикнул: «Что тебе нужно?» Лео посмотрел на него и засмеялся: «Что мне нужно? Духовная пища. Твое мнение о дневниках Андре Жида. Рецепт пулярки по-перигурдински. Прощай, Морис! Не сердись, что я тебя потревожил, я стал ужасно рассеянным – ошибся дверью». Лансье побежал за ним, шептал в передней: «Если тебе нужны деньги, я могу немного дать…» Лео молча вышел. Лансье скрыл от жены это посещение – Марта чересчур впечатлительная, она расстроится… Когда она спросила, кто приходил, Лансье ответил: «Ошиблись, не тот номер дома…»
Три недели Лео прожил в мастерской Самба. Было жарко; полуголый Лео лежал на диване – Самба запретил ему выходить на улицу. Лео что-то насвистывал; а Самба писал натюрморт и рассуждал: «В общем люди сволочь. Я верил в искусство, но его делают люди и для людей. Значит, и это пакость. Нивель пишет стихи, знатокам нравится, а он сидит у немцев в префектуре, проверяет подозрительных. Я не жил в те времена, когда придумали Персефону. Боюсь, и тогда было гестапо, кого-то чествовали, кого-то четвертовали. Неинтересно…» Потом консьержке сказали, что у Самба прячется парашютист, и Лео пришлось убраться.
Он искал подпольщиков и напал на журналиста Бюиссона, который сказал, что может переправить Лео через Испанию в Лондон. Нужны только деньги… Леонтине удалось кое-что унести из квартиры. Бюиссон каждый день требовал еще тысчонку – «документы стоят дорого»… Когда все было продано, Бюиссон выгнал Лео.
Два месяца Лео прожил у крестьянина возле Мелена, работал на ферме. Потом крестьянин сказал: «Хватит!.. Я уже доказал, что я хороший француз, а вчера жандарм меня спросил, правда ли, что я прячу пшеницу…»
Доктор Морило устроил Лео у одного из своих пациентов, Левассера. Лео ночевал в комнате для прислуги – на седьмом этаже. Это его спасло: за Левассером пришла полиция, оказалось, он связан с какой-то подпольной организацией (Морило об этом не знал). Консьержка не сказала про комнату для прислуги. Узнав о том, как Лео спасся, Морило сказал: «Я еще не видал такого везучего человека…»
Лео сохранил жизнерадостность. Он утешал Самба, говоря, что искусство не пакость, да и люди не звери; в один из самых мрачных дней, когда он бродил без пристанища, как затравленный, он, улыбаясь, сказал доктору Морило: «Не хочется умереть до того, как напротив Академии изящных искусств не повесят нашего друга Нивеля»; он умел развеселить даже скупого скучного фермера. Встречаясь изредка с Леонтиной, он говорил ей о любви, нежно, вдохновенно, без горечи, без надрыва, и, слушая его, она на минуту забывала страшную действительность.
Он часто думал о своей прежней жизни; она ему казалась ничтожной и вместе с тем прекрасной; он говорил себе: благословляю и ее ничтожество! Он не отрекался от прошлого, но хотел достойно закончить эту пеструю вздорную и все же восхитительную жизнь. Он жадно искал людей, которые воюют с немцами. Этому общительному человеку хотелось и умереть не одному. Но среди его знакомых не было ни одного, связанного с организацией сопротивления. Он в горечи думал: я водился не с теми людьми… Вспоминая поездку в Киев, он завидовал брату: Ося жил не для виллы в Бидаре и не для ужинов в «Корбей», теперь он, наверно, воюет… В общем, русские оказались правы. Есть здесь справедливость… Я слишком легко жил… Глубокая печаль лежала, как ил, на дне его души, и он не всегда о ней догадывался.
Пришла осень. Его прятала старушка в темном, душном чулане. Он не выдержал – вышел под вечер, хотя знал, что это неблагоразумно: в городе большие облавы. Восторженно вдыхал он свежий воздух. Были сумерки, и мир казался серо-лиловым. Он думал о Леонтине, о горе – он так и не увидел своего сына. Его звали Робером… Кто-то положил руку на плечо Лео. Поглощенный своими мыслями, он подумал, что это приятель. «Вы еврей?» – спросил полицейский. Лео вышел из себя: «Я француз, сударь, а вы немецкая корова…» Лео жестоко избили, потом отвезли в Дранси, который был пересыльным пунктом для евреев, отправляемых в Польшу.
И в Дранси Лео сохранял бодрость. Кругом плакали; было много женщин с детьми. Лео их успокаивал:
– В Польше лучше, чем здесь. Русские туда придут раньше, чем сюда придут союзники…
Он решил, что удерет, как только его привезут в Польшу. Он знает русский язык, сможет объясниться с поляками, доберется до фронта. Он скажет русским: «Во Франции я воевал и неплохо, не моя вина, что война там была плохая…» Его возьмут в Красную Армию. Кто знает, может быть, он еще увидит Осю, маму?..
Две тысячи человек ожидали отправки в Польшу. Некоторые убивались, говорили, что в лагерях дают непосильную работу, долго никто не выдерживает. Кто-то сказал, будто отсылают в Люблин или Аушвитц, а там убивают; но это показалось неправдоподобным даже пессимистам – зачем же тратить топливо и занимать вагоны?.. Многие были настроены бодро, как Лео; говорили: «Если бы нас собирались убить, все выглядело бы иначе…» Кормили в Дранси сносно; врачи тщательно осматривали всех; детям в пять часов давали хлеб с повидлом; устраивали даже театральные представления.
Старый бородатый еврей, уроженец Кракова, говорил:
– Вы понимаете, почему они с нами нянчатся? Они хотят нас убить под музыку. Я их знаю – это сумасшедшие палачи…
Лео улыбался:
– Они просто поджали хвост. Вы спрашиваете, почему они дают детям варенье? Очень просто – потому что Красная Армия перешла через Днепр. Я не знаю, кто раньше окажется в Польше – мы или русские?
Посадка была поспешной, и Лео по ошибке втолкнули в вагон для семейных. Из вагонов не выпускали. Было тесно. В углу стояла параша. Дети плакали. Один старик умер в дороге. Люди утешались одним: скоро приедем.
– Мне сказали, что нас везут на фабрику пуговиц, – говорила молодая красивая женщина, у которой была трехлетняя дочка. Что же, буду делать пуговицы, только бы оставили со мной Люлю…
А Лео мечтал о побеге. Если нельзя будет добраться до фронта, он разыщет в лесу партизан. Его возьмут – он хорошо стреляет. В Польше большие леса… Он вспоминал, как возвращался из Киева через Польшу. Тогда все гадали: будет ли война… А теперь мучаются, когда эта война кончится. Зачем людям столько горя? Непонятно. Могли бы петь, улыбаться, делать швейные машины, ходить в кино… Отец погиб на войне, бежал, пел – и пуля в грудь… Может быть, Осю тоже убили?.. Какое безобразие – живут, строят дома, рожают детей и каждые двадцать пять лет начинают разрушать дома, убивать людей! Кажется, это греки придумали – Сизиф катит камень на гору, и камень потом скатывается… Неужели нельзя иначе устроить жизнь? Ося уверял, что можно… Не знаю, может быть русские правы. Лучше было жить хуже, но сохранить порядочность. Для меня Франция – родная страна, я приехал мальчишкой, привык, полюбил. Если мне скажут – выбирай рай или Францию, выберу Францию. Но я убежден, что у русских нет Петэна, не может этого у них быть. Для того, чтобы был Петэн, нужно много таких людей, как Морис. Разве Морис плохой? Нет. Я его не осуждаю. Он никакой. Он играет в жизнь, а не живет. Кажется, и я играл… А может быть, нет… С Леонтиной было настоящее… Воевал я честно. Хотел и потом драться, только не нашел подходящих людей… Найду там…
Была ночь. Поезд стоял на какой-то станции. Лео припал к щели – старался вдохнуть немного холодного чистого воздуха. У вагона стояли немецкие солдаты, разговаривали. Лео понимал немецкий язык, прислушался – может быть, они скажут, куда их везут. Но немцы говорили о своих делах.
– Понтера вчера отправили на призывной пункт. У него грыжа, теперь это не считается. Ты был у Марихен?
– Да, она получила два письма от мужа и посылку.
– Где ее муж?
– В Италии.
– Это еще хорошо. Я хотел бы, чтобы меня послали в Италию, там по крайней мере тепло. А в России должно быть отвратительно. Ты читал, что мы оставили Киев?..
Лео больше не слушал. Он восторженно улыбался, шептал каждому: «Русские взяли Киев…» Измученные люди слушали равнодушно; что им Киев, их везут на каторгу…
– Я там родился, – сказал Лео молодой женщине, которая говорила, что будет работать на фабрике пуговиц. – Это удивительный город, он не построен, как все города, он выдуман, честное слово! Идешь и задыхаешься, не только от того, что там крутые улицы, от красоты… Но я не то хотел сказать… Самое главное, что русские колотят этих арийцев. У вас чудная девочка, я смотрю на нее и думаю, что она увидит хорошую жизнь. Не плачьте, я теперь твердо знаю, что нас освободят русские. У меня был сын. Я его не увидел, я был в армии, а он умер от бомбежки, когда жена ушла из Парижа… Горя было много, это правда, но теперь самое страшное позади…
– Почему вы думаете, что самое страшное позади? – спросила молодая женщина, вытирая крохотным намокшим платочком глаза.
Лео пожал плечами.
– Понятно, почему. Я вам говорю, что русские взяли Киев. Через месяц-два они придут в Польшу.
Еще день, и ночь, и снова день. Они приехали в Аушвитц вечером. Немцы закричали:
– Выходи!
Солдаты. Офицер с плеткой. Какие-то люди в полосатых костюмах, похожие на каторжников в американских фильмах. Грязь, жирная густая грязь. Холодно. Старушка не успела надеть ботинки, ее вытащили босой из вагона. Она просит:
– Господин офицер, разрешите мне обуться, на дворе очень холодно…
– Вы скоро согреетесь, мадам, – отвечает офицер.
Молодая женщина прижимает к себе девочку и поспешно приводит себя в порядок, вынула из сумочки зеркальце, пудреницу, губную помаду. Все чувствуют облегчение: приехали! Только зачем у офицера плетка? И люди одеты, как каторжники…
– Стройся!
Один из каторжников оказался рядом с Лео. Он сказал по-польски:
– Дайте сигареты.
Лео дал ему сигарету и спросил:
– Где мы?
– Это Аушвитц, то есть Освенцим… Дайте все сигареты, вам они не нужны, вас все равно сейчас убьют…
Лео не понял: каторжник слишком быстро говорил по-польски.
Офицер оглядывал каждого и говорил «налево» или «направо». Налево он отсылал молодых и крепких. Остальные выстраивались направо – больные, старые, дети. Лео подумал: очевидно, сразу распределяют, на какую работу – тяжелее или легче. Когда дошла очередь до него, офицер заколебался. Лео за последнее время очень постарел. До войны он походил на круглолицего, цветущего ребенка; теперь повисла кожа, погасли глаза.
– Сколько тебе лет? – спросил офицер.
– Сорок три.
Офицер усмехнулся:
– Меня не обманешь. Направо.
Лео оказался среди стариков и немощных; подумал: придется подметать бараки… Все равно убегу…
Как хорошо на свежем воздухе! Холодно, но в этом своя прелесть: осенью особенно хочется жить, что-то делать, бороться… Ветер разогнал облака, и показалась большая оранжевая луна, похожая на тыкву. Вот в такую холодную ветреную ночь убегу…
Старики плакали, стонали, молились. Их тоска невольно заражала Лео, и, чтобы поддержать себя, он запел свою любимую песенку:
Когда весна вернется,
Фортуна улыбнется…
– Куда нас ведут? – спросил он немца.
– В баню. Такие грязные свиньи должны прежде всего хорошенько помыться.
И солдат засмеялся.
Им приказали раздеться; потом, голых, выгнали из барака. Люди теперь громко кричали, все чуяли недоброе. Лео больше не пел. Тоска охватила его, как будто кто-то сжал сердце. Он вдруг понял: сейчас убьют. Он бросился на немца, ударил его кулаком по голове. Другой немец подбежал и втолкнул Лео в помещение, которое называли «баней». За ним захлопнулась дверь, обитая железом.
Гудел мотор. Наверху, как грозовые тучи, шли темные волны газа. Люди метались, истошно кричали. Лео знал, что умирает. Клочья жизни проносились перед его глазами. Он был с Леонтиной, говорил: «Мой друг, мы в раю…» Цвели лиловые глицинии на глухой серой стене. Во всем было огромное невыразимое спокойствие, спадал зной летнего дня, едва слышно звенел шмель. Леонтина положила голову на его плечо, ее волнистые волосы чуть шевелились. Она говорила: «Лео, позови Роба… Ты с ума сошел, как ты его не видишь? Ему три года. Он кидает оранжевый мяч»… И мяч над ними. Нет, это луна… А мама шепчет: «Лева, ты очень вырос, я тебя не узнала…»
Клубы газа опускались. Люди корчились, падали на пол. Лео чувствовал невыносимую боль, как будто в него засунули крюк и раздирают тело… Он упал лицом вниз и долго шевелил руками, словно плыл. Немец поглядел в круглое стеклянное оконце, повернул рукоятку; тела мертвых и полумертвых людей посыпались вниз.
В канцелярии сидел писарь Гейзлинг; его бледное лицо казалось маской из гипса. Он вытер перо тряпочкой и раскрыл большую книгу, похожую на все конторские книги мира. Гейзлинг тщательно написал:
Прибыло из Дранси 11/XI__1018
ликвидировано_____972
оставлено_________46
Он недовольно подумал: почему «оставлено» двухзначная цифра? Нарушает порядок. Выше все трехзначные. Он снова проверил:
Прибыло из Вестербурга 21/Х__1388
ликвидировано______1041
оставлено___________347
Прибыло из Вены 22/Х__772
ликвидировано_____447
оставлено_________325
Прибыло из Терезина 23/Х__3862
ликвидировано_____3700
оставлено__________162
Прибыло из Позена 28/Х__406
ликвидировано____212
оставлено________194
Прибыло из Лемберга 30/Х__819
ликвидировано______687
оставлено__________132
Страница была заполнена. Гейзлинг взял линейку, аккуратно провел черту и стал подсчитывать. Внизу страницы он поставил:
_______________Итого
Прибыло________8265
ликвидировано__7059
оставлено______1206
Потом Гейзлинг вынул из ящика «Берлинер иллюстрирте» и долго разглядывал фотографии киноактрис. В Берлине хорошо – девушки, вообще что-то происходит, а я должен сидеть в этом вонючем Аушвитце!..








