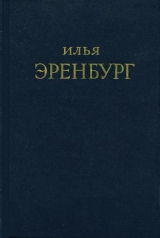
Текст книги "Буря"
Автор книги: Илья Эренбург
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 63 страниц)
16
– Нужно хоть часок поспать, – сказал фельдфебель Грюн, которого звали «Тараканом», потому что он забавно топорщил свои жидкие длинные усы.
Он вскоре встал, ругаясь и позевывая:
– Не спится…
В ту ночь никому не спалось. Десять дней они стояли в этой деревне, изнывая от жары, от комаров, от неизвестности; и вот томлению пришел конец.
Молоденький солдат, с лицом по-детски припухлым, с очень светлыми изумленными глазами, сквернословил и плевался, вернее, делал вид, что плюется – во рту у него все пересохло. Это был Клеппер, сын домовладелицы в Гамбурге. Он трусил, но хотел быть храбрым: пусть Лотта знает, что он мужчина, а не школьник!.. Страх торчал где-то в нижней части живота. Клеппер размышлял вслух:
– Пауль говорил, что когда в Нидерштейне они покончили со всеми, там оставался один коммунист, он был левшой, и Пауль говорил, что его можно было раздавить одним пальцем, но они не могли его словить, и они попали к чорту в штаны, потому что он бритвой зарезал Штрамера. Когда они окружили дом, где он спрятался, он убил двух штурмовиков, этот проклятый левша, он заставил их пропотеть всю ночь. Если в России много коммунистов, мы попадем в чортовы штаны…
– Ну, ну, мальчик, полегче, – сказал Таракан. – Твой левша был немцем, а здесь русские. Я видел одного русского, он не знал даже, как высморкаться. Они могли воевать, когда воевали с косами или вилами, а перед нашими игрушками они не успеют икнуть.
Таракан побывал в Польше, во Франции, он снисходительно разговаривал с необстрелянными сопляками.
– Это тебе, мальчик, не выборы, коммунист или нет, он не успеет опомниться. Я об одном жалею – почему мы не танкисты? Мы всегда опаздываем. У меня младший брат танкист, эти паршивцы снимают все пенки. Когда мы приезжаем, старые бутылки выпиты, а молоденькие девушки перепорчены.
Клеппер сделал над собой усилие и громко расхохотался. Он подумал, что хорошо бы сняться с какой-нибудь девчонкой и послать фотографию Лотте. Пусть знает, что он – настоящий мужчина… Но страх не проходил, теперь он ворочался под ложечкой. Клеппер небрежно спросил Таракана:
– А вы попадали в поганую историю?
– Я не вылезал из поганых историй. Когда мы подошли к Сомюру, наши танки были уже в Ля Рошелли. Откуда ни возьмись – они… Ты думаешь, это были французы? Чорта с два, это были черные, и они на нас лезли, как будто мы африканские козы. Пришлось поработать до вечера… Это, конечно, пакость – сенегальцы, но это умирает, как все прочее. Русские могут, если им вздумается, вымазать рожу ваксой, все равно перед нашими игрушками они не успеют побледнеть…
Ефрейтор с «железным крестом» поддержал Таракана:
– Когда у них были цари и немецкие генералы, они еще могли защищаться. Теперь они могут только агитировать. Это – колосс на глиняных ногах.
– Говорят, что там паршивые дороги.
– Ну, если мы проехали через Польшу, мы проедем и через тартарары.
Клеппер не мог успокоиться. Он снова сплюнул и сказал:
– Но фюрер объявил, что они собирались напасть на нас. Значит, у них большая армия…
– А ты, мальчик, думал, что это – Люксембург? Конечно, у них большая армия. Значит, нам придется построить большие лагеря для военнопленных.
Сорокалетний унтер Бауер, в прошлом учитель рисования, морщился: какая пакость!.. Зачем мы суемся в Россию? Неужели и русские должны стать наци?.. Хватит того, что они заставили нас маршировать по указке этих сморкачей. Во что я превратился? Таскаю у полячек кур… Ровно десять лет тому назад, нет, не в июне, в августе, я должен был поехать в Москву, я записался в «Интуристе» на Унтер ден Линден… Мы пошли туда с Фрицем. А потом Краузе пригласил меня в Герингсдорф, и я не поехал… Почему я здесь? Что мне сделали русские? Ровно ничего. А наци сделали из меня подлеца. Я, наверно, заразил ту девчонку, в Кельцах… Ее звали Янина… Противно! А эти идиоты радуются…
Клеппер решил написать Лотте; писал он витиевато, стараясь не выдать своих чувств: девушки любят презрительных сердцеедов. «Ужасная ночь последнего ожидания…» Он тщательно зачеркнул слово «ужасная» и поставил «роковая».
«В Польше много красивых девушек, товарищи на них заглядывались. А мои мысли далеки. Туда, на Восток, где восходит солнце и где, может быть, зайдет моя жизнь!.. Через час – бой. Ты помнишь нашу прогулку в Обервальде? Я выполню все, что я сказал. Я тебе улыбаюсь с переднего края…»
Кончив письмо, он вынул записную книжку, которую Лотта подарила ему, и записал:
«21 июня. Ночь. Приказ. Никто не спит – готовимся. Ужас».
Он попробовал утешить себя шоколадом, но, откусив кусок, выплюнул – тошнота подступала к горлу.
Рихтер не разговаривал, не слушал, он думал о Гильде. Сейчас она спит. А если нет… Вдруг у нее Роберт?.. На вокзале он стоял рядом с нею… Он остался в Берлине. Может быть, он у Гильды? Он приехал в девять, она заставила его прождать полчаса в гостиной. Он смотрел книгу «Готика Германии» и нервно зевал. А она переодевалась, надела кимоно, голубое с цаплями, потерла пробочкой от духов шею, грудь, вышла, поглядела на Роберта круглыми печальными глазами: «Мой друг, вы здесь?..» Как будто она не знала, кто ее ждет! Потом вскрикнула: «О, Роберт!.. Что вы делаете?..» Сейчас она говорит: «Вдруг Курт узнает? Я не хочу его огорчать…» И Роберт жалеет: «Бедный Курт…» Нет, этого не может быть! Почему я терзаю себя дурацкими историями? Да еще в такую ночь… Нужно об этом забыть. И Рихтер заставил себя прислушаться к беседе.
– Они справились с Наполеоном, – говорил ефрейтор, – это сущая правда. Но тогда ездили на перекладных, а теперь все решают моторы, теперь расстояние не может никого испугать…
Рихтер в тоске подумал: они не знают, что такое Россия… Это не страна, это мир. Едешь, едешь – и не видно края… Человек все время ощущает свое ничтожество. Там можно и без войны потеряться – умрешь, никто не узнает… Конечно, у русских нет нашей организации. Это странные люди, на них нельзя положиться. Ты говоришь и не знаешь, что он через минуту выкинет… Они могут нас встретить с цветами, я не удивлюсь. А могут драться, как сумасшедшие. Я был там, но разве я их знаю? И полковник Вильке не знает, поэтому он говорил «полумирное проникновение». Можно понять француза, англичанина, голландца, а здесь – азиаты. Даже фюрер, наверно, не подозревает, что это за орешек…
– Конечно, их много, – говорил Таракан, – но китайцев еще больше. Война не арифметика… Я видел, как французский генерал сдался в плен, у него было на груди восемнадцать ленточек, – кажется, не сопляк, но он ревел, как теленок, потому что он видел, что перед немцами он – сопляк. Русских может быть больше, чем муравьев, это не имеет никакого значения. Я тебе говорю, мальчик, против наших игрушек нельзя пойти с вилами. Говорят, что у казаков хорошие кони, хотел бы я поглядеть на этих лошадок, когда покажутся наши танки.
Дурак, – подумал Рихтер, – он считает, что у русских нет танков. А для чего Кузнецк?.. Мы, кажется, недооцениваем противника. Что значит «полумирное проникновение»? А сказать нельзя – решат, что я сею панику. Да и незачем запугивать, раз война – нужно победить, тогда все кончится. Господи, хоть бы скорее это кончилось!.. Гильда сказала: «Я буду ждать год, два года»… Но разве поймешь, что у женщины в сердце?.. Мы должны победить – у нас организация и динамизм. Такой Таракан не остановится, он лезет вперед, потому что не думает; его можно убить, переубедить его нельзя, в этом наша сила. Бесспорно, мы победим. Только далеко не все вернутся из России… Конечно, фюрер все учел. Польша, Франция, Норвегия, Фермопилы – этот человек умеет воевать… Плохо будет, если мы с ними не справимся до зимы. Русская зима – настоящее свинство. Я не был там зимой, но меня брала дрожь, когда они начинали рассказывать про свои морозы…
– Рихтер, хочешь рома? Это ямайский – из Бордо.
Рихтер выпил залпом полкружки.
– Он хорошо пахнет, но от него болит голова. Другое дело русская водка, она воняет, но это – замечательная микстура, ты можешь выпить две таких кружки, и наутро ты проснешься свеженький, как младенец.
– Я пил как-то водку в русском ресторане на Мотцштрассе.
Рихтер усмехнулся:
– Все хорошо на своем месте, я пил водку в Сибири.
Он сразу вырос – все глядели на него с уважением, даже ветераны, участники похода на Францию. Кто не знает Франции?.. А Рихтер своими глазами видел эту таинственную Россию…
Клеппер спросил:
– Ты думаешь, они будут защищаться?
– Этого я не знаю. Чем дольше их наблюдаешь, тем труднее их понять. Это люди без душевной организации. Когда они пьют водку, они морщатся, кряхтят, ругаются, можно подумать, что их заставляют глотать хинин. А я видел, как русские девушки клали кирпичи, дикое зрелище, у них были пальцы в крови, содраны ногти, и эти девчонки улыбались, как на свадьбе. Можешь ломать голову, в русских ты все равно ничего не поймешь. Но у них нет нашей организации, и мы их расколотим, это ясно каждому. Зачем гадать – будут они защищаться или нет, это их дело, в обоих случаях мы будем в Москве, и я тебе даю слово, что я с большим удовольствием скушаю целый фунт икры.
– Это мажут на хлеб? – спросил Таракан.
– В Берлине это мажут на хлеб, а в Москве это едят ложкой.
– Ты что-то путаешь, я знаю, что это мажут на хлеб, как масло.
– Скоро увидите – я буду есть икру ложкой.
– А какие там женщины? Хуже полек?
– Разные. Ассортимент неплохой.
Таракан зашевелил усами:
– Я обниму первую москвичку в день моего рождения!
– Когда вы родились? – поспешно спросил Клеппер.
– Восьмого августа.
Клеппер подсчитал – сорок семь дней… Порядочное безобразие!
Ефрейтор сказал:
– Ты убежден, что эта музыка кончится до восьмого августа?
– Абсолютно убежден. Что икру едят ложкой, в это я не верю. А восьмого августа мы будем в Москве, если хочешь, держу пари – на первую московскую красотку. Считай сам – по тридцать километров, это немного, дней десять на перегруппировку, подтянуть тылы… Я-то изучил расписание…
– Я им покажу, что значит готовить удар в спину! – Клеппер выругался, а в его наивных глазах был ужас. – Они узнают, что такое чортовы штаны! Когда я буду в Москве, посмотрим, что станет с их девушками…
В стороне сидел Кличе, долговязый юноша в очках, студент философского факультета. Его сторонились; он стеснял и своим молчанием, и непонятными репликами. Пока другие пили, забавлялись с девушками, рассказывали непотребные анекдоты, он что-то записывал в большую тетрадь или сидел с книгой. Никогда этот человек не улыбался. Он презирал Таракана, товарищей по роте; только с Рихтером он иногда заговаривал о военных перспективах, о Ницше, об египетской архитектуре. Его прозвали «Марабу», он действительно походил на птицу – горбоносый, с непомерно длинными руками, с голосом резким, как клекот. Отложив тетрадь, он сказал:
– Мы идем в Москву не за девушками. Вы поняли слова фюрера? У каждого из нас теперь одна невеста… – Он запнулся, потом выкрикнул: – Смерть!
Клеппер тоскливо зевнул. Таракан проворчал:
– Я предпочитаю, чтобы она целовалась с русскими, твоя невеста…
Короткая ночь умирала. Небо, которое и до того не спало, а только подремывало, начало розоветь, оживать. Вот там, за этой речкой – война, подумал Рихтер. Сколько о войне написано книг, а все-таки непонятно. Так и про любовь – пишут, пишут, а потом приходит какая-нибудь Гильда, дочь почтенного коммерсанта – знает английский язык, играет на рояле, самая что ни на есть порядочная девушка, и все оказывается ужасной игрой, будто ты едешь в горящем танке. За речкой такие же тусклые поля, так же квохчут курицы, женщины тащат ведра, белобрысые дети толпятся возле орудий… Через сорок минут все начнется… Рихтер хотел почувствовать, что это – исторические часы. Я – участник великого события, про меня будут читать правнуки. Но мысли разбегались, он видел то неубранную спальню Гильды, то огромное зеленое пространство; кружилась голова.
– Этот ром настоящая отрава.
Клеппер ответил:
– А я выхлестал целую кружку и хоть бы что… Правильное солдатское пойло. В Москве я попробую твою хваленую водку. Но эти русские узнают, что такое чортовы штаны!..
– Тише, мальчик, это тебе не кегли, это война! – Таракан вспомнил, как возле Бовэ убили такого же сопляка.
Другие весело кричали, кто о девушках, кто о Москве, кто просто горланил – светает, конец тоске, в поход. Марабу снова ушел в сторону и раскрыл тетрадь. В посветлевшем небе зеленая ракета показалась бледной, даже печальной. Рихтер вспомнил глаза Гильды и зажмурился. Перекликались деревенские петухи. Таракан зычно крикнул:
– Раз-два!
17
Вася с зимы работал в Минске. Кто же мог поверить Наташе, когда она вдруг заявила, что ее посылают на лето в Минск? «Так вышло, чистая случайность…» Чем больше она объясняла, тем становилось яснее, что она придумывает. Какие-то самолеты, которые должны опрыскивать плодовые сады от вредителей… Хорошо, но почему в Минске?.. Дмитрий Алексеевич сначала заинтересовался опрыскиванием, а потом загрохотал:
– Наташка, что ты меня за нос водишь? Я-то, дурак, слушаю… Я тебе давно сказал – он мне нравится. И тебе он нравится, нечего хвостом вертеть. Двадцать один год девке, кажется, совершеннолетняя…
Наташа рассмеялась. Вася тоже не поверит, решит – не вытерпела. Немного обидно. А, может, и не вытерпела бы… Зачем разыгрывать бесчувственную? Пусть думает; что хочет. Зато увидит ее и скажет… Из него слова не вытянешь, а нужно объясниться – да или нет. Самое смешное, что это правда, ее действительно посылают в Минск. Неслыханная удача, как в сказке… Ей предложили три места на выбор, но ведь Минска могло не быть.
Дмитрий Алексеевич говорил:
– Сияет, будто в Неаполь едет. У тебя мордочка без ставен – все видно. Ты хоть бы иногда сдерживалась, ну, скажем, когда отца разыгрываешь.
Июнь был зеленым и горячим. Вася сам понимал, что пора объясниться, ведь неспроста приехала Наташа… Здесь легче – нет ни матери, ни Дмитрия Алексеевича, никто не станет расспрашивать. Напишем и все… Но как сказать Наташе? Вася с завистью подумал: «Сергей сумел бы, он оратор…»
Два дня Вася раздумывал и решил, что нужно обойтись без громких слов. Если начать про любовь, Наташа может рассмеяться – что за опера! О любви нельзя говорить, это только в книгах. Вот Дмитрию Алексеевичу понравилось «слышу трепет крыл». А если сказать, получится глупо… Наверно, Маяковский говорил с девушкой иначе, может быть, совсем не говорил про чувства. Лучше всего сказать: «Давай жить вместе…» Нет, это грубо. Спросить: «Хочешь со мной навсегда?» Помпезно – почему «навсегда»? Снова опера…
Так он ничего и не придумал. Вышло все без слов. Лукавые глаза Наташи посмеивались, и Вася сказал: «Ты – чертенок»… Она застеснялась, ушла в угол, он ее вытащил и вдруг обнял. Они смеялись, как сумасшедшие, целовались, взяв друг друга за руки, кружились по комнате. Потом он ее подхватил: «Легкая ты! Как перышко»… Она сказала: «Посмотрим. А вдруг у меня окажется тяжелый характер?..» И прыснула: ей стало смешно, что у нее может оказаться «тяжелый характер». Они замолкли, перепуганные полнотою счастья. Так вот это что, подумала Наташа, совсем не так, как говорили… Можно сойти с ума… Вася вспомнил появление сконфуженной Наташи и снова засмеялся: «Помнишь, ты говорила – „честное слово, опрыскивание с воздуха“»… Она не дала ему договорить, поцеловала.
Они должны были провести выходной вместе, и день, который уж занимался, представлялся им продолжением этой удивительной ночи. Они друг друга стыдились; то она, то он говорили «зачем смотришь?», «отвернись», а через минуту, забыв все, целовались. Наташа вскипятила чай, изображала из себя хозяйку: «Я тебе варенья куплю. Ты думаешь, я не видела, как ты у нас по три раза накладывал…»
Он хотел показать ей «свои» дома. День был солнечным и ветреным. Галстук Васи смешно развевался; Наташа с трудом удерживала юбку.
– Ветер…
– Зато не жарко. Потом в лес поедем – хорошо?
Он говорил ей о новых домах:
– Мне эти украшения не нравятся, ничего не поделаешь – материал плохой, приходится прикрывать… Через два-три года будет хороший материал, тогда и формы будут строже…
Наташа нахмурилась, потом улыбнулась:
– Я, Вася, в этом ничего не понимаю. Но ты увидишь – через два-три года я буду все понимать. Как раз к сроку – у тебя будет солидный материал и солидная жена.
Они шли молча – переживали свое счастье. Вдруг кто-то схватил Васю за руку. Он обернулся – его сослуживец Липецкий.
– Сейчас будет выступать! Немцы уже сообщили…
Из раскрытого окна раздался голос Молотова. Потом слова сменила музыка. А Наташа и Вася все еще стояли, не могли опомниться.
Мир гудел, как огромный встревоженный улей. Дмитрий Алексеевич, красный от гнева, повторял: «Варвары! Что за варвары!» Уже шли бои в Польше, в Литве. Рихтер прикрыл орудие ветками березы, и ветки горько пахли. В Гейдельберге толстая Герта задыхалась от волнения: ее Иоганн не сегодня завтра возьмет Москву. В Берлине люди пели, кричали, ждали победных сводок. Далеко на севере Осип произносил речь: «Коварные фашисты вероломным образом…» Уткнувшись в подушку, плакала Валя. А в Париже Миле говорил Мари: «Теперь фашистам крышка. Русские придут сюда, понимаешь?..» Нивель писал: «Жребий брошен – мы или они…» Среди литовских лесов трещали мотоциклы. Горели белорусские села. Раненая девочка звала «мама!» В Москве на радиоузле кто-то кричал: «Что будет с передачами? Пускайте песни!..» И песни растекались по потрясенным городам, песни глубокого мира – о садах, о соловье, о счастье. Надрывались пушки, грохот рос, крепчал.
И маленькая Наташа, у которой все было написано на лице, только-только узнавшая, зачем живут люди, стояла, не могла двинуться: судьба свалилась и на нее, судьба людей, России, мира.
Кругом шумели:
– Негодяи!
– Я так и знал…
– Ты всегда говоришь, что знал раньше…
– Без всякого предупреждения… Гады!
– А что же немецкие коммунисты?..
– Теперь они выступят…
– Замечательно он сказал – «победа будет за нами».
– Это им не Франция!..
– Я боюсь, что они налетят…
– Ты думаешь, война будет долго?..
– При современной технике…
– Наверно, наши уже перешли границу…
– Возьмут тебя, Мишенька…
– Мама, на тебя все смотрят…
– Я боюсь, что они налетят на Минск…
– Вы не волнуйтесь, их не пустят…
– Как они не понимают, что у нас неистощимые ресурсы?..
– Мы живем в самом ужасном месте – возле электростанции…
– Иду в военкомат!..
– Ох, горе!..
Вася пошел к себе на стройку. Наташа в Университетский городок.
Расставаясь, она сказала:
– Как это странно… Именно сегодня…
– Наташа, что бы ни было, мы теперь связаны… Навсегда.
Он больше не боялся произнести это слово.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
Наташу поставили дежурить на крышу. Ночью город был черным, как лес, и Наташа ежилась – темнота ее пугала. На следующий день то и дело давали тревогу – летали вражеские разведчики. Наташе это казалось забавной игрой, она думала, что фашистов не подпускают. А у диктора был такой веселый голос, когда он объявлял: «Угроза воздушного нападения миновала…» И сразу все вылезали из подвалов, из щелей.
Под вечер Наташа выбралась на часок – побежала навестить Васю. Он был угрюм, озабочен.
– В военкомате говорят «ждите». А как можно ждать? Я видел беженцев из Западной Белоруссии… Они напали исподтишка, но через несколько дней все переменится, мы подтягиваем силы. Ужасно глупо, что я в корпусной артиллерии, теперь самое важное противотанковая…
Она торопилась – дежурство. Ушла и вернулась:
– Я тебе забыла сказать… Бегу, меня ждут… Я постараюсь прийти завтра… Слушай, Вася, если не увидимся, ты помни – у тебя теперь жена.
Она поцеловала его, не обращая внимания на людей.
Когда она вернулась на крышу, ее встретили радостной вестью: сбили четыре стервятника. Ночью ей не было страшно, а грохот зениток радовал – вот какая у нас сила! Наташа чувствовала себя солдатом: и я воюю.
Во вторник утром она увидела очень много самолетов, они сверкали в ясном небе; было красиво, празднично. Наташа сказала незнакомому студенту:
– Вот они, наши!..
Вдруг все затряслось, раздался сильный взрыв, другой, третий… Студент пригнул ее к земле. Она не поняла и выпрямилась. Снова… Она схватилась руками за лицо, как будто хотела заслонить глаза. Когда она поглядела, все было в черном дыму – загорелся большой корпус. Ей стало страшно: испугал огонь. Потом поднялась злоба: негодяи, убивают безоружных жителей!.. И я ничего не могу сделать. Стою и смотрю, вот что самое ужасное…
Теперь горели дома возле заводов. Там Вася!.. Наташа больше не чувствовала страха, ничего не чувствовала, кроме ярости: стучало в висках, трудно было вздохнуть. Хоть бы сбили!.. И когда один из бомбардировщиков загорелся, Наташа в исступлении крикнула: «Сбили! Сбили!» Другие самолеты продолжали бомбить город.
– Зажигалка!
Наташа ничего не соображала, а делала все, что нужно.
Студент поздравлял ее, тряс руку. Она снова услышала грохот – как будто поезд несется прямо на нее; пригнулась, но взрыва не было. Наконец самолеты улетели.
Наташа бежала к заводам; под ногами кричали осколки стекла. Женщины тащили детей, узлы. Нельзя было пройти – воронки, камни. Некоторые дома горели. Васи она не нашла: он ушел в горком. Липецкий ее успокоил: «Я его видел после отбоя. У нас порядочно жертв…»
Вернувшись в Университетский городок, Наташа увидела возле физического корпуса неразорвавшуюся бомбу. Та самая… Стало страшно от мысли: могла бы я сейчас лежать мертвая, и ни солнца, ни Васи, ничего! Страшно, что ни-че-го!.. К зданию Медицинского института подъехала машина; начали вытаскивать трупы: женщина лет сорока, мужчина в белой рубашке с вышивкой, девочка – ноги оторваны, а лицо, как будто не мертвая, спит, похожа на поломанную куклу; старый еврей, беременная женщина… Никогда до этого Наташа не видела мертвых, и ей хотелось отвернуться, но она заставила себя смотреть. Так, может быть, и меня потащат – завтра или через неделю… Бояться нечего, им теперь не страшно, не больно. Вот родным… Хоть бы Васю не убили, это главное… Какая красивая девочка!.. Трупы покрыли брезентом. Потом привезли раненую старушку, она кричала от боли, ее руки были скрючены. Когда ее вынесли из машины, на песке осталась узенькая полоска крови. А кругом еще все напоминало мир: сквер, фонтан, зеленые скамейки с надписями «Варя», «7/V 1941», «Выдержала!», «Не верь Маше…»
Вечером сказали, что разрушена электростанция. Загорелся Комаровский лес, воздух стал горячим, удушливым. Всю ночь Наташа глядела на огонь и думала о Васе. Утром он пришел, и первое, что сказал:
– Мои дома!.. Ничего не осталось, мусор… Все равно, построим другие… Ужасно, что в военкомате отвечают «ждите»! Я за тебя боюсь, ты должна уехать…
– А ты?
– Я командир запаса, меня могут через час направить в часть. А ты должна уехать. У них сейчас перевес. Через несколько недель будет наоборот, но сейчас положение тяжелое…
– Как же я уеду без тебя?..
– Теперь, Наташа, все расстаются. И ты должна меня слушать, я в этом лучше разбираюсь. Тебя довезут до Борисова, а оттуда поездом в Москву… Они сейчас уезжают, нужно торопиться.
Все это было так неожиданно, что Наташа не успела осознать разлуку. Она стояла на грузовике среди других женщин; ее обступили, а она хотела еще раз взглянуть на Васю; увидела, что он пробует улыбнуться. Может быть, больше не увижу!.. Все в ней замерло. Они проезжали мимо горевших домов; женщины прижимали к себе детей, плакали и от ужаса, и от дыма; говорили об одном – удастся ли выбраться?
По шоссе двигались машины, телеги; плелись старухи с узлами; одна женщина несла на себе швейную машину; какой-то пожилой человек тащил большой тюк с книгами, все время садился на горячую пыль, говорил: «Это мои работы за тридцать лет…» Женщина потеряла ребенка, она кидалась к каждому: «Не видали девочку в розовом платьице?..» Грузовик, на котором ехала Наташа, с трудом продвигался вперед; порой пыль закрывала все, так что не было видно людей, только раздавались вопли, детский плач, гудки.
Вдруг водитель резко затормозил.
– Беги!..
Женщины с ребятишками забрались в канаву. Наташа побежала за другими; потом посмотрела – что случилось? Рядом с ней стоял человек, прижимая к груди портфель; он глядел на небо, заслонясь рукой от солнца. Наташа увидела три самолета. Низко как!.. Почему-то ей вспомнились мечты: профессор Карцев хотел ее взять на свои опыты – они опрыскивали яблони с самолета… Она представила себе яблоню в цвету. Что-то очень громко затрещало. Она легла, не задумываясь, вероятно потому, что лег человек с портфелем. Стреляли. Она лежала плашмя, ей хотелось стать плоской, врасти в землю.
Когда все затихло, она встала, отряхнулась; весело сказала человеку с портфелем:
– Отбой! Можно двигаться…
Он не ответил. Наверно, ему дурно… Нужно расстегнуть рубашку… Она дотронулась до его груди и тотчас отдернула руку – кровь была густой, липкой. Он все еще прижимал к себе портфель. Наташа, как это делал отец, прижалась ухом к его груди; сердце не билось. Она вся измазалась в крови, закричала; никто не подошел. Она жадно вглядывалась в лицо мертвого – чем-то напоминал он отца, только моложе… С грузовика кричали, что ждать не будут. Наташа хотела взять портфель, но рука была крепко сжата.
Вскоре грузовик остановился. Впереди стреляли. Толпа неслась навстречу; кричали, будто немцы скинули воздушный десант.
– Парашютисты возле Борисова!..
Военных не было. Люди метались, уходили в лес. Некоторые говорили, что лучше вернуться домой – немцы повсюду… Рябой человек лет сорока кричал:
– Что они, волки?.. Мы не коммунисты… Вот если ты еврей, это дело другое…
Он выговаривал «яврей».
Наташа вышла из себя:
– Да как вы смеете? Вы что – фашист?
– Человек я. А ты кто, чтобы меня допрашивать?
– Я?.. Студентка. Комсомолка.
Он ухмыльнулся:
– Ну и учись, если студентка. А меня учить нечего, я ученый.
Наташа покраснела от возмущения:
– Я – жена командира, а вы – изменник!
Когда она сказала, что она – жена командира, несколько женщин взяли ее сторону. Одна из них крикнула:
– У меня два сына – командиры. А ты, гад, немцу радуешься?
Рябой скрылся в толпе.
Стреляли, нельзя было понять, в кого. Водитель выругался.
– В бой пошлют – пойду, а зачем зря погибать?..
Наташа видела – он бледный, ни кровинки, а губы дрожат. Он бросил машину, ушел.
Наташа оказалась одна; людей было много, но она никого не знала. Она прошла несколько часов не останавливаясь. Дорогу два раза обстреливали, и она шла лесом. На минуту ей показалось, что ничего не произошло, просто она гуляет – вот земляника, сладкая-сладкая… Никто ее не будет собирать. Ведь война… Человек с портфелем остался у дороги… Наверно, врач или учитель… Что с Васей?.. Сейчас в Минске все горит… Хоть бы его скорее направили в часть, там все вместе, легче… А в городе ужасно – люди разбежались, только он стоит и пробует улыбаться…
Она проспала до вечера, потом снова пошла. Лес кончился. Она попросила у крестьянки напиться. Та принесла молока, жалела, приговаривала:
– Куда идешь? У немца машины, он обгонит…
Наташе было невыразимо страшно, она не боялась смерти, страшно было от чужого страха, от чужих слез, от этой жалости. Мечутся бестолку, а немцы спокойно убивают… И дети плачут, и телеги плачут, и все завертелось, как волчок, нет ни смысла, ни выхода…
На следующий день она едва шла, измученная, душевно растерянная. Вдруг она увидела военных: это были артиллеристы. Она спросила:
– Немцев впереди нет?
Красноармеец засмеялся:
– Ты, может, думаешь, что в Москве немцы?
Другой, оглядев Наташу, дружески сказал:
– Чего смеешься? Видишь, гражданочка перепугалась. Она этому делу необученная… Вы, гражданочка, не волнуйтесь, нервы еще потребуются. Немцы, конечно, сунулись, а погодите неделю-другую, мы их шибанем…
Ей хотелось расцеловать этих людей. Они говорили, как Вася. Почему она пала духом? Стыдно!.. Женщины с детьми – понятно, что паника… Есть и трусы… А эти крепкие, смеются… Армия такая – значит, правда: неделя, ну месяц – и кончится… Тогда наши пойдут по Германии…
К концу дня ее взяли на грузовик. Они доехали до Смоленска. Здесь Наташе пришлось снова пережить бомбежку. Она проверяла себя. Не боюсь, правда, что не боюсь! Уже знаю – какие наши, какие вражеские… Бояться нельзя, нужно воевать, как Вася, как те артиллеристы, как весь народ…
Дмитрий Алексеевич ахнул, увидав Наташу: может быть, от усталости или от всего ею пережитого, но только стала она другой – взрослой.
– Да ты здорова? Смотри, теперь не время хворать. Я лечить не буду, хватит с меня раненых!.. Ладно, иди мыться, потом поешь и спать, завтра расскажешь…
Однако он не выдержал, стал расспрашивать, как она добралась. Она рассказала про все; и среди страшных видений горящего Минска прошли незамеченными (так ей по крайней мере показалось) сказанные вскользь слова: «Мы с Васей поженились».
– Как раз вовремя приехала, – сказал Дмитрий Алексеевич, – маму отправляю к тете Оле в Аткарск. Ты с мамой поедешь, здесь оставаться глупо – Москву бомбить будут, это ясно. А никому вы здесь не нужны, только волнение…
Наташа покачала головой:
– Я в Аткарск не поеду. Ты не кричи, все равно не поеду. Я поеду на фронт, да, да, это не фантазия, я все обдумала, это мое твердое решение…
– Скажи, пожалуйста, а отец и мать зачем? Куда ты на фронт поедешь? Это тебе не «опрыскивание»! Вася воюет, значит и она туда же!.. Это, милая, война, понимаешь?
– Понимаю. И Вася тут ни при чем… Я не могу остаться в тылу, я себя замучаю… Я видела, как они детей убивали. Человека убили, рядом со мной… Портфель я не взяла, дура, нужно бы семье написать… Я их ненавижу! И ты не спорь, папа, это очень серьезно. Я себя проверяла, не убегу, выдержу…
Мать стала плакать. А Дмитрий Алексеевич вдруг обнял Наташу:
– Молодец!.. Нет, эти дикари нас не возьмут, не на таких напали! Вот какой у нас народ, девчонка, стрекоза, и та – воевать!.. Эх, Наташа, маму жалко – ведь я в армию двигаюсь, скучно ей будет одной. Скучно тебе будет, Варенька, чувствую, но ты потерпи, иначе невозможно… Это Наташа правду говорит – иначе себя изгрызешь…








