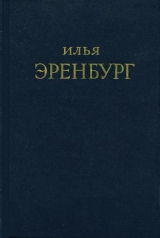
Текст книги "Буря"
Автор книги: Илья Эренбург
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 63 страниц)
2
Вася говорил лейтенанту Аванесяну:
– Какой же это командир батареи? Он не знает самых элементарных вещей – «ДК», «ДБ». Неудивительно, что нас бьют!..
На самом деле все происходившее казалось Васе удивительным, непостижимым. Тщетно он искал объяснения. Несколько дней тому назад он обвинял во всем Благова: гад, посмел сказать, что с немцами мы все равно не справимся! Росли, учились, благоденствовали, а теперь поворачиваются спиной к народу, готовы лизать немецкий сапог!.. Потом пришел техник из БАО, рассказал, что возле Гродно самолеты будто были заправлены вместо горючего водой. Вася был потрясен: значит, есть изменники! Притаились, а теперь жалят… Может быть, от этого?.. Вчера Аванесян сказал, что две батареи послали вперед, а боеприпасов не дали. Этакое разгильдяйство! Есть, видимо, люди, которые воюют спустя рукава, а здесь важна каждая мелочь… Сейчас Вася возмущался невежеством старшего лейтенанта Долгопятова:
– Ясно, что такой не умеет воевать. – Помолчав, он добавил: – А разве я умею?..
Сводка снова плохая: «превосходящие силы…» Неужели их нельзя остановить? Ведь мы сильнее… Конечно, есть трусы, предатели, дураки. Но сколько их?.. Это исключения. А народ держится замечательно. И есть костяк – партия, есть Сталин. Разве можно сравнить фашиста с нашим бойцом? Почему мы отступаем? Ужасно, что никто не может объяснить!.. Вася три дня назад заговорил с капитаном Ненашиным, тот отрезал: «Паникуете?..» Аванесян смотрит добрыми печальными глазами и молчит – тоже не понимает.
В первые дни Вася думал, что плохо только на его участке. Теперь ясно – отступают повсюду. Значит, повсюду то же самое, как говорит Аванесян, «сплошная каша». Люди сражаются хорошо. Вчера ранили в живот Волкова, раненный, он кричал: «Кто подавать будет?..» Они держались под страшным огнем, потом узнали, что пехота давно отошла. По три раза в день слышишь это проклятое слово «окружение», стоит одному сказать – и все начинают нервничать, прислушиваются, откуда стреляют. А стреляют отовсюду – танки прорываются, мотоциклисты… Нельзя добиться, куда итти, что делать. Сказали, что их придают дивизии, которая прорвалась из Бреста, а дивизии не оказалось. Теперь неизвестно, кто ими командует… Приходится пробиваться самим. Подходишь к селу и думаешь: вдруг там немецкая засада?.. Сколько они прошли так? Да, наверно, двести километров, не меньше. Он был зачислен двадцать пятого, сегодня третье или четвертое, всего неделя…
– Ты понимаешь, что это за безобразие? – спросил Аванесян. Он вслух сказал то, что мучило Васю. И неожиданно для себя Вася ответил:
– Ничего нет удивительного, они два года воюют. Научимся… А пока скверно!.. Воюем по-детски, каракулями. Может быть, кадровые лучше разбираются, но и для них это дело новое… Знаешь, почему нам трудно? Мы необстрелянные. Возьми меня, мне жизнь казалась прямой, ровной дорогой. Отец и мать, те боролись: отца сослали, мать в тюрьме сидела. А я пришел на все готовое. Даже решать не приходилось. Бац!.. Я в Минске был, с девушкой шел и вдруг – война! Кажется, так птенцов учат – из гнезда выбрасывают – полетит или разобьется. Мы-то не разобьемся, не такие… Только теперь нужно думать по-другому, как – я сам не знаю, а по-другому…
– Хоть бы добиться, какое задание! – Аванесян тоскливо зевнул. – Сплошная каша!
Их теперь было свыше сотни; с ними шли остатки саперного батальона – вырвались из окружения.
Казалось это Васе или вправду – природа в те дни была особенно красивой, приподнятой, задушевной. Глядя то на луга, расцвеченные колокольчиками, гвоздиками, львиным зевом, то на полные таинственной свежести темные леса, Вася думал: и это отдаем, самое простое, милое – ромашки, чернику, аукание, дерево, которое видело деда, нежный душистый мох – землю, вот именно землю!.. Он почувствовал, что земля – не понятие, не почва, не просто то, что под ногами, – за такую умирают, за теплую, черную или зеленую, за этот кустик, весь в белых хлопьях…
Спали в лесу. Кругом шла стрельба. Люди были измучены, казалось, хоть над ухом стреляй – не подымутся… Рассвело: все стало розовым. Четверть часа было тихо; даже дятел застучал. И вдруг где-то близко – пулемет… До большака было три километра. Несколько бойцов вызвались: «Сходим посмотрим…» Час спустя один вернулся: на большаке немцы.
– Где Горев и Ковальчук? – спросил Вася.
– Горева убили.
– А Ковальчук?
– Он, когда туда шли, говорил: «Нечего смотреть…» Говорил, что у него здесь семья неподалеку. Как увидали немцев, я лег. А он, гад, к ним пополз…
Лукачев сказал:
– Понятно…
У Лукачева лицо было искривленное от страха, как будто он выпил уксусу; говорил он с надрывом:
– Все равно не выберемся… Они Минск взяли, а мы здесь, как дураки, топчемся. Сдаваться нужно, вот что! Если кто из начальства умирать хочет…
Один боец робко спросил:
– А они Ковальчука не прикончат?..
Вася подошел к Долгопятову:
– Товарищ старший лейтенант, прикажите расстрелять.
Долгопятов молчал. Вася увидел, что глаза у него мутные, невидящие. А Лукачев продолжал выкрикивать:
– Нас они не тронут – мы по призыву!..
Тогда Вася подошел к нему, выстрелил в упор. Лукачев упал на живот, кричал, но слов нельзя было разобрать. Вася еще раз выстрелил – в голову. Боец, который ходил к большаку, выругался:
– Гад! Ах, гад!..
Вася молчал; кровь стучала в голове; то и дело он вытирал рукой мокрое лицо. Успокоившись, он сказал Аванесяну:
– Первый, кого убил – наш…
– Сплошная каша, – ответил Аванесян.
К вечеру они вышли из леса. Лаяли собаки: рядом была деревня. Они остановились – там могут быть немцы. Но людей замучил голод, даже сухарей больше не было. Охотники пошли посмотреть; немцев в деревне не оказалось. Люди накинулись на хлеб, на молоко, на сало.
Вася и Аванесян сидели в хате. Крепкая грудастая девка пекла оладьи и улыбалась. Пищал ребенок. Тикали ходики. Мед был сладким и пахучим. Мир, глубокий мир. Можно ли поверить, что неподалеку идет бой, люди падают, хрипят, умирают?..
На печи лежал человек лет тридцати. Вася не сразу его заметил. Он, свесившись, глядел на военных. Когда Вася спросил, как пройти лесом к Могилевскому шоссе, он ответил:
– Я не здешний… Все равно не уйдете, – пешие, а у него машин сколько, мотоциклы…
Вася рассердился:
– Ты что – молодой, а не в армии? Дезертир?
– Зачем дезертир? У меня одного пальца нет…
Старая хозяйка объяснила, как пройти, потом заплакала:
– Сынок у меня в армии. Ходит, как вы… Вы медку покушайте…
Человек на печи не унимался:
– У немца сила. А наши что?.. Утекают…
Тихий Аванесян рассвирепел:
– Ты посмотри, дурень, какая у нас страна! Что они, до Кавказа, дойдут? Они напали исподтишка, как последний подлец, вот и получилась сплошная каша… Погоди, скоро мы порядок наведем! Одного пальца, говоришь, нет? Ничего, девять есть, можешь воевать. Вот головы у тебя нет, это хуже…
У грудастой девки глаза были, как бусы, яркие и неподвижные; нельзя было понять, что у нее на сердце. Хозяйка всхлипывала, утирая рукавом глаза. Дед затянулся махоркой, закашлялся и сказал:
– Ох, как тяжело, сынок, и не скажешь!
От этих слов Васе стало сразу легче. Народ хороший, не поддается… Только бы выбраться! Он подложил руку под голову и уснул.
До полудня они шли лесом; потом началась открытая местность. Солнце палило. Теперь не было слышно трескотни пулеметов, да и канонада стала далекой. Все успокоились. Васю мучила жажда. Он вспоминал киоск в Минске – ледяная газированная вода… Как он тогда не выпил всего, что было?.. Один глоточек! Но не было и глотка.
Когда солнце зашло, вдруг очень близко затрещал пулемет; они нарвались на противника. Сначала они не понимали, откуда стреляют; потом осмотрелись – из оврага. Там засели немцы. Овраг был перед речкой. Вася считал, что за речкой – наши. Укрыться в поле было негде. Долгопятов как будто очнулся от долгого сна; он тонко, даже визгливо крикнул «ура» и побежал вперед; тотчас он свалился – пуля попала в грудь. Они бежали, ложились за бугорками и снова бежали. Вася ничего не помнил, был сильно возбужден, ругался; бежал он с наганом; боец подал ему винтовку, взятую у раненого, и Вася побежал с винтовкой наперевес. Он убил двух немцев. Они прорвались через речку. Аванесян был ранен в руку, но радовался, как дитя:
– Ты только подумай – артиллеристы, саперы, а победили в рукопашном!.. Вот тебе и наука!.. Ты-то волновался, что Долгопятов не знает «ДБ»!.. Сплошная каша! Жалко Долгопятова, умер он замечательно! А тюкнули мы немцев здорово!..
Они прошли еще несколько часов, и снова началась стрельба. Стреляли на этот раз свои – думали, что идут немцы. К счастью, никого не убили, только легко ранили одного сапера. Зато потом долго ругались, добродушно, но свирепо. Это был полк, недавно прибывший из Могилева; бойцы еще ни разу не участвовали в бою, нервничали. Среди них было много кавказцев. Один допытывался у Аванесяна:
– Немец какой? Злой? А танков у него много?
Лейтенант накормил Васю и Аванесяна. Пришла медсестра, толстая и сонная, с ласковыми глазами. Она перевязала руку Аванесяну.
– Это моя первая перевязка на фронте… Кость не затронута, пустяки…
Они хорошо выспались. А только рассвело – немцы начали бомбить лесок. Медсестра боялась, говорила без остановки: «Ох! Ох!», – казалось, что она пыхтит. Два бойца ее успокаивали:
– Не бойся! Тебя не заметят…
И с удовольствием они гладили ее широкую теплую спину.
Вася был счастлив; он даже не заметил, как бомбили лес. Выбрались, вот это удача!.. Ему казалось, что все страшное позади. Еще вчера он не мог думать о Наташе, она была бесконечно далеко. А сейчас он спросил лейтенанта:
– Письма получаете?..
Сегодня напишу, что вышли из окружения. Нет, лучше об этом не писать – разволнуется… Зачем им в Москве знать?.. Пусть думают, что все хорошо. Скоро будет хорошо, обязательно будет. Я всего десять дней как воюю, а кой-чему научился. Раньше все гадал – страшно или нет? Думал – вдруг струшу? А теперь знаю – до того, как начинается, очень страшно, есть не хочется, мутит. А когда бежал на них, не было страшно, тогда ничего не чувствуешь, остается одно – нужно добежать – и шум в голове… Хорошо, что мы попали в этот полк, у них все благополучно, материальная часть, кажется командиры толковые… Очевидно, здесь решили создать рубеж. Пора! Лейтенант давеча говорил, будто немцы дошли до Березины. Наверно, отдельные танки, их можно отрезать… Наташа обрадуется письму… А вдруг она не доехала?.. Нет, этого не может быть. Они выехали двадцать пятого, тогда на шоссе все было спокойно. Конечно, могли бомбить, но от этого больше шума, чем беды… Сейчас она в Москве, думает, что со мною… Наташенька!
Так никогда он ее не называл, а сейчас сказал вслух. Аванесян переспросил:
– Ты что?
Вася не ответил, только заулыбался.
Потом они прошли в палатку к майору Балашову. Вася доложил, как они шли из Ракова – старший лейтенант Долгопятов и шесть бойцов погибли в бою, трое тяжело ранены, саперов вывел лейтенант Рубен. Майор угостил папиросами, и Вася блаженно затянулся – «Беломор»! А Балашов сказал:
– Полк наш попал в окружение. Ждем приказа. Будете выходить с нами.
3
Дни напоминают ожерелье – бусинка за бусинкой, и когда рассыпаются бусы, значит, в дом человека вошла беда. В то горячее зеленое лето рассыпалось ожерелье народа: вчерашний день стал далеким и непонятным. Давно ли Сергей спорил с Бельчевым, защищая свой проект; Нина Георгиевна восхищалась учеником, который декламирует Гюго; Лукутин сидел над описаниями нового строительного материала, как будто это строфы вдохновенной поэмы? Давно ли люди говорили о домах отдыха, о путевках, радовались, что получили квартиру, приценивались к удобному креслу, ревновали, волновались, что у сына двойка по арифметике, спорили о постановке «Госпожи Бовари»? Давно ли жизнь, несмотря на тысячи огорчений, обид, трудностей, казалась крепко налаженной, прочной, радостной? И кто-то разрезал шелковинку – дни, годы, жизнь распались.
Возле призывных участков молча стояли женщины; было мало слез – слишком большие чувства теснили сердце. Пиджаки, парусиновые дачные костюмы повисли на гвоздях, как осужденные. Театры опустели; ожили вокзалы.
– Я с Киевского…
– В тринадцать ноль-ноль на Белорусский…
Ночью возле домов стояли старики, женщины, подростки – дежурили; всем это было внове, люди чувствовали гордость и тревогу. Привезли золотой песок; когда какой-нибудь малыш бежал к песочку, думая, что это для него, – у матери сердце обливалось кровью.
В жизнь вошел некто с хриплым голосом, он глядел на людей круглым лицом, у него не было ни глаз, ни ушей, только рот, изрыгавший страшные слова: «У Острова… На Днепре…» Встречаясь, люди угрюмо говорили:
– Сегодня новое направление…
Война с каждым днем приближалась к Москве. Опустели дачные места; в садах цвели левкои, лакфиоль, табак; а рядом с клумбами зенитчики рыли укрытия. Начали эвакуировать детские дома, школы.
С востока шли эшелоны; бойцы угрюмо, настороженно молчали; редко раздавались шутка, смех. Навстречу медленно двигались эвакуированные; жена командира из Каунаса была в чужом, слишком узком платье – она выбежала из дому, когда бомбили город, и не успела одеться; старая еврейка возле Белостока потеряла внучку, зачем-то она держала куклу девочки; женщины на полустанках разводили огонь, стряпали; грудные дети кричали.
В Москву привезли первую партию раненых. Сестры слушали удивительные рассказы о том, как пограничники взрывали танки, повторяли слова бойцов: «Мы их доконаем…» Репродуктор изрыгал то грозные сводки, то веселые песни, но песни не веселили. А возле памятника Пушкину ребята играли «в войну» – эти не понимали, что значит «Смоленское направление».
Глядя на них, Лукутин чувствовал ярость: он вспоминал Рихтера. Такой способен на все…
В первые дни войны Лукутин отправил жену и дочку на Волгу. Катя сначала заупрямилась:
– Пользуешься случаем, чтобы меня сплавить?.. А ты представляешь себе жизнь в Саратове?..
Он не отвечал: боялся рассердить Катю. Он не чувствовал к этой женщине с бледнозолотыми крашеными волосами, с ногтями, будто обмакнутыми в кровь, ни любви, ни ненависти; чужая, по прихоти судьбы она оказалась рядом с ним. Он ее терпел; был слишком робок для того, чтобы изменить жизнь, да и не мог расстаться с Поленькой. Дочке Лукутина было четыре года, но ему казалось, что она способна его понять и утешить; полушутя, полусерьезно он говорил Поленьке: «Ты мой друг!» Он хотел, чтобы жена уехала из Москвы только потому, что боялся за Поленьку, боялся суеверно – фашисты убивают именно таких!.. Добродушные глаза Рихтера в представлении Лукутина сочетались с кровью Мадрида и Варшавы, с чем-то страшным, извращенным, жестоким. Катя недолго упрямилась; после дежурства на крыше она сказала:
– Я совершенно не гожусь для такой жизни…
В первые дни войны Лукутин, как и все вокруг, жил сводками, рассказами очевидцев, слухами; легко он переходил от надежд к отчаянию. Кто-то ему рассказал, будто наши вторглись в Восточную Пруссию, и он поверил. Несколько часов спустя он встретил товарища по службе, и тот сказал: «Сестра моя еле выбралась из Витебска…» Лукутин ничего не мог понять и томился.
Было чудесное летнее утро. После отъезда жены Лукутин редко бывал дома, ночевал на службе. Он вышел, чтобы подышать утренней свежестью. Улица была еще пустая; прошло двое рабочих, проехал грузовик с военными, кряхтела бабка – тащила большой узел. Вдруг Лукутин услышал знакомый голос: говорил Сталин. Лукутина потрясли задушевность этого голоса, тревога и в то же время уверенность, ощущение душевной силы, которая бывает у человека, сознающего свою правоту, в минуты самых страшных испытаний. Лукутину казалось, что Сталин обращается именно к нему, его называет «другом». Сколько раз в прошлом Лукутин терзался, спрашивал – не чужой ли я?.. И вот в то июльское утро он понял, как крепко связан с каждым домом, с каждым словом, с каждым встречным; он почувствовал землю под ногами, когда эта земля заколебалась.
Июль был знойным. Сводки могли извести – все новые и новые направления! Многие из сослуживцев Лукутина уже воевали. Московские переулки не походили на себя – исчезла детвора, город умолк, как лес без птиц.
В очень жаркий день по одному из помрачневших переулков Замоскворечья шагали ополченцы. Они пели:
Даешь пулеметы,
Даешь батареи
Чтобы было веселей…
Пели они нестройно; нестройно и шагали – сразу было видно, что это люди, привыкшие держать не винтовку, а перо или циркуль; были среди них пожилые, были очень толстые, и низкие, и высокие, и хилые, были астматики, больные сердцем с отечными лицами, филологи и счетоводы, ботаники и художники, театральные бутафоры, кассиры, переплетчики, библиотекари, столяры, монтеры, люди всевозможных профессий. Они старательно изучали азы военной науки; всего труднее им было стройно маршировать. Среди них был Лукутин. Он теперь успокоился; даже сводки его как-то меньше огорчали; он больше не смотрел со стороны, не гадал, что будет; он стал частью огромной военной машины.
Усталость мешала ночью уснуть; тогда он думал напряженно, поспешно, как будто хотел до первого боя додумать все не понятое им за долгие годы жизни. Он говорил себе: молодым все ясно – они защищают свои идеи, свой мир. А я?.. Сколько раз я в душе спорил с товарищами… Почему теперь исчезли все различия? Когда я слушал Сталина, я знал, что он говорит за всех. Сегодня мы проходили мимо старой церквушки. Я неверующий, она мила мне березками, детскими воспоминаниями. Напротив – школа, там был призывной участок – если мы выстоим, в этой школе будет учиться Поленька… Старик Журавлев вчера сказал, что мы защищаем Россию. Нет, мне дорога не просто Россия, а вот эта, живая, сегодняшняя. Она впитала в себя прошлое. А прошлое ничего не может впитать… Я мог критиковать, сомневаться, теперь я вижу, что мне без этого не жить…
Он засыпал, а утром начиналась учеба; и он радовался – впервые в жизни он мог не колебаться, не спорить с собой; теперь он солдат: пошлют, прикажут – он выполнит. Война представлялась ему четкой и ясной: генерал что-то отмечает на карте; командир батальона передает приказ командиру роты, а он, Лукутин, ползет, стреляет, сидит в окопе.
Потом он усмехался, вспоминая об этих мыслях: война оказалась иной…
Они ночевали в Вязьме, в маленьком косом домике, переполненном соломенной мебелью, тюками, тряпьем. У хозяйки был флюс; она печально глядела на военных, вздыхала. Лукутин посмотрел на иконы и, задумавшись, спросил:
– Верите в бога?
Она покачала головой:
– Теперь многие поверили… Если немцы придут, так спокойней… А я хотела бы во что-нибудь верить – жить легче…
– В народ наш не верите?
Она вздохнула:
– У немцев, говорят, все на машинах… У них солдаты шоколад получают…
Лукутин был с товарищем – до войны Федосеев работал на «Шарикоподшипнике», он писал письмо жене, но, услышав разговор, оторвался, сказал хозяйке:
– Женская у вас природа… Погоди, приедем на машине – залюбуешься.
Хозяйка снова вздохнула: болел зуб и было страшно – бомбить будут, потом придут немцы…
Когда под утро Лукутин и Федосеев уходили, она всплакнула:
– Не пускайте вы немцев! Все-таки свои…
Эти слова преследовали Лукутина; он вспоминал глаза женщины, грустные и бессмысленные, такие бывают у замученной лошади… Федосеев, наверно, думает о жене… У других – жены, родители, друзья… А у него только Поленька, ей и написать нельзя. Она не понимает, куда девался папа… Ее нужно заслонить, как эту женщину с флюсом… И за всех думать. И за всех умереть…
Вдруг он струсит? Он считал себя малодушным. Разве он осмелился когда-нибудь выступить против других, раскрыть рот на собрании? Даже перед Катей он робел. Что же с ним будет в те минуты, когда и храбрые теряются?..
Ночью немцы бомбили деревню, там стояла батарея. Было светло, как днем, от ракет. Кто-то выругался:
– Гад, сколько навешал!
Лукутин лежал на животе и тупо себя спрашивал: почему я так боюсь? Даже удивительно!.. Неужели я исключение, жалкий трус?.. Все внутри обрывается… А уйти, не уйду – нельзя…
Два дня спустя он попал в пекло; все произошло как-то сразу. Может быть, генерал знал о положении; но командир роты и не подозревал, что немецкие танки прорвались. Правда, им не раз говорили, что танков бояться не нужно, есть гранаты, «бутылки», важно только не снервничать, выждать, когда танк подойдет… Когда об этом говорил батальонный комиссар, все выглядело простым и нестрашным. Люди, однако, растерялись. Лейтенант Жигач кричал:
– Бутылки где? Щеголев говорит, что утром послал…
Лукутин оказался в узенькой канаве, поросшей крапивой, рядом – Федосеев, Левин. Бутылки были из-под пива, и Федосеев пробовал шутить:
– Раков не хватает…
Левин в ответ выругался. Лукутин молчал. Он ни о чем не думал, только жадно вглядывался вдаль. Сколько они просидели? Лукутин машинально смотрел на циферблат часиков, но ничего не удерживалось в сознании. Он не увидел, а услышал приближение головного танка. Гул и лязг росли. Лукутин пригнулся еще ниже; крапива жгла лицо. Дорога на этом месте круто поворачивала. Танк замедлил ход. Лукутин увидел, как из башенного люка показался немец. Кажется, офицер… Лукутин выпрямился и швырнул бутылку. В глазах у него все помутилось, он больше ничего не видел.
Стреляли. Лукутин снова прижался к земле. Страшно не было. Страх он почувствовал только вечером, когда лейтенант Жигач сказал:
– Представлю всех троих к награждению.
Тогда Лукутин очнулся, вспомнил худое темное лицо немца. Это смерть лязгала зубами… Так можно стать фаталистом. Играть в чет и нечет с судьбой… Смешно и чертовски страшно. А прикажут завтра – и снова пойду, буду ждать в крапиве… Для человека здесь нет выигрыша… Нет, есть – войну мы выиграем… Потом будет больше пушек, хорошие пушки, а пока что бутылками… Глупо, что из-под пива…
Федосеев изумился: Лукутин, над старомодной вежливостью которого все посмеивались, стоял посредине дороги и так ругался, что даже двое ездовых раскрыли рот.
– Что с вами, Павел Сергеевич?
Лукутин сконфуженно улыбнулся.
– Ничего… Воюем.








