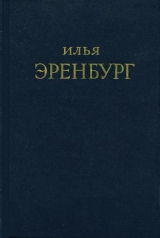
Текст книги "Буря"
Автор книги: Илья Эренбург
сообщить о нарушении
Текущая страница: 60 (всего у книги 63 страниц)
Вальтер не пришел; она напрасно прождала его всю ночь. Утром она пошла в полицайамт. Ей сказали, что Вальтер охраняет Силезский вокзал; но туда нельзя пройти – стреляют. Она все же добралась, пришлось несколько раз ползти по тротуару. Она сказала Вальтеру: «Я тебе принесла бутерброды, шоколад – не успела отослать Курту – и одеколон. Зачем ты здесь? Это безумие…» Она привстала на цыпочки и, взмахнув золотыми кудряшками, поцеловала его. Он выругался: «Самка! Ты понимаешь, что происходит?..» Потом он опомнился: «Это нервы… Скорей уходи отсюда…» А когда она ушла, он еще раз выругался. Вот за таких шлюх мы должны умирать!.. Два раза русские танки уже показывались на Франкфуртералле. По ним стреляли из зениток. Вальтер думал: пусть убьют или отпустят, только чтобы скорее кончилось. Я больше не могу ждать…
В экипаже головного танка, который продвигался от Лихтенберга к Силезскому вокзалу, был младший лейтенант Миша Золотаренко, который, сам того не зная, рассказал Вале страшную правду о судьбе ее отца. Золотаренко тогда долго себя укорял: и как меня угораздило?.. Хотя в былое время Зина, да и другие девушки из «Пиквикского клуба» считали его грубым, у него было нежное, отзывчивое сердце. Он казался грубым потому, что был застенчив; ему хотелось спрятать свои широкие руки, похожие на ласты, и поэтому, он ими размахивал; стыдясь сказать что-либо о себе, он громко и поспешно рассказывал о последнем футбольном матче или о новой марке автомобилей. Зина его когда-то отвергла, а он ее не забыл. Когда он узнал о ее гибели, он испытал такое чувство, как будто из его жизни ушло самое светлое и необходимое; а он до войны два года ее не видел. Сейчас в карманчике его гимнастерки была фотография Зины и вырезка из газеты, которую он показывал Вале. Он подумал: вот и Зина пришла в Берлин… Без любопытства он глядел на темные однообразные дома. Все здесь ему было противно, все, кроме одного – дошли!.. Это уже пятая машина… Два раза Золотаренко был ранен – на Кубани и под Харьковом… В машине было очень жарко. Золотаренко поглядел на Кругликова – как из-под душа – течет… Он почувствовал сильный толчок, хотел крикнуть и не крикнул. Потом из люка вынесли тело Миши Золотаренко. Товарищи хмуро молчали, никто ничего не сказал, все думали об одном: за пять минут до конца…
А танки продвигались вперед. Перед ними была баррикада: желтый вагон трамвая с цифрой 69, опрокинутые машины. За баррикадой лежал Вальтер. Когда танки были совсем близко, он вдруг оставил свой фаустпатрон и пополз к тротуару. Он думал: какая широкая улица, не доползу… Он дополз, залез в подворотню и быстро взобрался на верхний этаж. Сильно билось сердце: от лестницы и от страха. Неужели я жив?.. Он сорвал нарукавную повязку «фольксштурма». Довольно глупостей! Пусть фюрер играет в такие игры. Я обыкновенный человек, я хочу жить.
Возле Силезского вокзала в блоке рабочих домов засели эсэсовцы. Вася приказал открыть огонь. Какой-то старик дополз до русских; путая польские и немецкие слова, сказал: «Ради бога!.. Там женщины, дети…» Вася приказал прекратить огонь: «Даем десять минут гражданскому населению – пусть выходят…» Из домов начали выбегать люди, тащили детей, узлы, чемоданы. «Вот черти», – сердито сказал младший лейтенант Горбатенков – ему стало жалко детишек. А эсэсовцы продолжали поливать пулеметным огнем площадь и две улицы; теперь они стреляли в людей, выбегавших из домов. Потом Вася скомандовал:
– Огонь!
Генерал Лучицкий сказал Минаеву: «Вчера вечером передавали приказ об окружении Берлина. Остался только центр»… Он задумался и сказал: «Провели операцию хорошо. А план… О чем говорить – та же рука, что в Сталинграде…»
Крылов был на вокзале Румельсбург. Толпа кинулась к составам. Самые предприимчивые рубили топорами стенки вагонов, тащили консервы, сахар, табак, мешки с горохом; другие их отдирали. Дети сыпали сахарный песок в фартучки, набирали в картузики мед. Дмитрий Алексеевич сказал медсестре Шевелевой: «Посмотрите на этих рубак! Разошлись, забыли, что они у себя в Берлине. А еще говорили, что честные, только у нас стали мазуриками. Нет, вы посмотрите – ребенка раздавили…» Крылов бросился к толпе: «Стой! Стрелять буду! Подлецы, своих детей не жалеете…» Он поднял девочку лет семи или восьми: «Отнесите к нам… Руку переломили…»
Генерал Гельтвитц сидел в подвале пятиэтажного дома. Адъютант доложил: «Русские на Кайзер-Вильгельмштрассе». Генерал не ответил. Он – командир дивизии, он воевал, пока можно было воевать. А это не война, это сумасшествие. Я не знаю, что они думают в штабе? Может быть, командует не Кейтель, а какой-нибудь неуч вроде Геббельса или самого фюрера? Этот сумасшедший погубил лучшую армию мира… Генерал Гельвитц вспомнил своего предшественника полковника Габлера. Он знал его с первой молодости: они вместе учились военному делу. Полковника Габлера наци расстреляли. Тогда генерал Гельвитц говорил: «Мне его жалко – это хороший командир, но он понес заслуженную кару – мы не имеем права вмешиваться в политику». Сейчас генерал, вспомнив эти слова, усмехнулся: наци только и делали, что вмешивались в военные операции. Заговорщики были правы. Жалко, что Шауфенберг промахнулся… Летом сорок четвертого мы могли бы еще выторговать мир вничью. А теперь нас поставили на колени. С такими людьми, как генерал-полковник Бек или фон Шулленбург, союзники, наверно, сговорились бы… Адъютант сказал: «Господин генерал, майор Рамм запрашивает, когда он получит боеприпасы, у него на исходе, он держит квадраты сорок один, сорок два». Генерал Гельвитц подумал: этот майор Рамм очень скоро получит одну пулю – в грудь или в задницу – не знаю, какой у него темперамент… Он раздраженно ответил адъютанту: «Дайте мне лучше стакан воды и лекарство – оно в кармане шинели».
Рихтер подумал: сегодня, кажется, двадцать девятое, значит уже неделя… Отсюда до моего дома не больше двух километров. А я был под Москвой… Нечего сказать, триумфальное возвращение! Лейтенант Шеммер требует, чтобы мы защищали «сердце Берлина». А кто в этом сердце? Может быть, фюрер? Но почему я должен его защищать? Он исковеркал мою жизнь. Он уничтожил Берлин. Даже если у нас будет новое правительство, за двадцать лет город не отстроится. Идиоты написали на развалинах «Берлин остается немецким». А Берлина вообще нет – ни немецкого, ни русского, ни перуанского… Рихтер подошел к лейтенанту Шеммеру и спросил: «Значит, мы должны умереть под этими развалинами». Шеммер пожал плечами: «Я запросил майора Рамма, но он не может связаться с генералом Гельвитцем». Рихтер не удовлетворился: «Значит мы…» Лейтенант его перебил: «Пока приказ не отменен, он остается в силе». Они сидели в большом доме «Дрезденского банка». Русские стреляли по зданию из четырех орудий. Одного угла дома уже не было. Фельдфебель Энгель говорил: «Защищаем жизненное пространство. Я удивляюсь, что ты не кричишь „Sieg-heil“…» А пять минут спустя Энгель ничего не говорил, он лежал с раскрытым ртом, окруженный банковскими книгами. Рихтер понял: нужно уходить. Он спустился по пожарной лестнице вниз. Если русские на нашей улице, я погиб… Он пролежал до ночи в подворотне пустого дома. Когда смолкали на минуту пушки, ему казалось, что он слышит русскую речь. Наконец он выполз и побежал, прижимаясь к стенам домов. Никто его не останавливал.
Когда Гильда увидела мужа, она не могла даже вскрикнуть, у нее не было сил его обнять. Она плакала, и ни тогда, ни потом она не могла понять, от горя или от радости. Наконец она сказала: «Ты… жив?..» Он крикнул: «Брось говорить глупости! Достань скорее костюм, я должен переодеться…» Она не поняла: «Но почему?..» Он рассердился: «Если тебе нравится подыхать, пожалуйста, я тебе могу дать адрес – в Тиргартене ты получишь игрушечное ружье и благословение фюрера. А с меня хватит. Что ты стоишь? Дай мне скорее костюм!..» Гильда выкинула все из сундука: дамские рубашки, свои бальные туфли, платья, наконец она нашла старый костюм Курта с короткими широкими штанами. Она сказала: «Этот неудобно надеть…» Но он уже натягивал на себя штаны: «Сейчас все удобно…» Она прильнула к нему, поглядела на него своими круглыми кошачьими глазами: «Курт, это ты?.. Какое счастье!.. Но происходит что-то ужасное… Неужели русские сейчас придут сюда?» Он кивнул головой и отвернулся. Тогда она схватила белую шелковую рубашонку, которая валялась на полу, и, распахнув окно, вывесила ее вместо флага. Она увидела, что на всех домах белые тряпки. Курт осмотрел комнату, заваленную хламом из шкафа, из сундука, и хмыкнул: «Можно подумать, что они уже побывали в нашей квартире…»
В Тиргартене сидела кучка «фольксштурмистов», среди них был и Пауль Вик, которому нравилась зеленоглазая Гильда. Он думал сейчас о ней и о фюрере. С детских лет он слышал одно: за фюрера нужно умереть. Сейчас многие немцы предают фюрера, ругаются, сдаются русским. Пауль не таков, ему пятнадцать лет, но он настоящий немецкий солдат. Когда он отстоит Берлин, он придет к Гильде, и она не сможет перед ним устоять. Она Изольда, – подумал он, – а я Тристан… Вместо фаустпатрона, о котором он мечтал, у него была обыкновенная винтовка. Стемнело, Пауль вдруг увидел, что их осталось всего трое – остальные разбежались. Студент из «гитлерюгенд» все время кричал: «А ну-ка, ребята, поддайте им жару!» Пожилой человек говорил: «Мне наплевать на таких сопляков, как ты. Но я терпеть не могу поляков и русских. Я лучше сдохну, чем сдамся этим азиатам». Пауль стрелял в темноту. Пожилой человек сказал ему: «Побереги патроны». Но Пауль не мог не стрелять. А студентик кричал: «Правильно, поддай им жару!» Иногда шлепалась мина, ломала деревья. Пожилой человек свалился, он долго, однообразно стонал. Пауль видел в тумане глаза Гильды. Фюрер подымал руку к черно-красному небу. Когда рассвело, Пауль увидел на аллее русских. Он выстрелил, а потом схватился за живот и упал.
Полк Минаева сражался в самом центре города: брали Потсдамерплатц. Немцы засели в метро. Их выбивали ручными гранатами, захваченными фаустпатронами. «Сегодня Первое мая, – сказал Терешкович Минаеву – с праздником…» На окраинах Берлина праздник был заметен: флаги, портреты Сталина, веселые песни. А здесь еще шла война, страшная в своем исступлении. Когда наступило несколько минут затишья, Терешкович размечтался: как празднует Таня? Наверно, там весело, знают, что последние часы войны, удачно выпало – именно весна, май… КП был на пятом этаже. Терешкович увидел, что солдаты застряли перед разбитой артиллерией баррикадой, подумал – устали люди, нужно их подбодрить. Солдаты рванулись вперед. А Терешкович пошатнулся и упал на бок. Его унесли в соседний дом. Прибежал Минаев. Терешкович громко хрипел, никого не узнавал. Минаев молча постоял и ушел – прочесывали окрестные улицы. Только вечером он смог подумать о Терешковиче. Минаев потерял на войне много друзей. Смерть давно перестала его удивлять. Но никогда он не испытывал такой щемящей тоски, как в этот праздничный майский вечер. Вот и не приеду к нему в Ярославль… Наверно жена уже пиджак для него отутюжила – ждет не сегодня завтра… И это, может быть, в последний день… Смерть Терешковича казалась ему непонятной, а от этого нестерпимой. Подошел сержант Королев, сказал: «Какой человек был!.. Во всю мелочь входил…» Помолчав, он добавил: «Я тоже ярославский…»
У Крылова было много работы. Он перевязывал и наших, и немцев, и горожан, случайно попавших под огонь. Он задумался: почему они не могут так драться за Берлин, как дрались наши за Сталинград? Ведь это их город, столица… Скажут: мы теперь сильнее. Сильнее, правда. Но в августе сорок второго немцы были сильнее нас. Полковник сказал: «У нас теперь в сорок раз больше артиллерии, чем у них». Наверно так, и все-таки это еще не объяснение. У них в сорок раз меньше сердца вот что. Не знают, за что воевали, поэтому и не хотят теперь умирать. Сколько они кричали: «Народ, Deitschtum». А народа не сколотили. Были миллионы обывателей, и правил ими миллион жеребчиков. Пока шло хорошо, держалось, а сейчас расползлось по ниткам. Кланяются нам, доносят друг на друга, готовы благодарить за то, что их расколотили. Глупо.
Крылова подозвал раненый старшина Гусев. Он говорил с трудом, Крылов его несколько раз прерывал: «Нельзя вам разговаривать». Но старшина умолял выслушать его: «Умру, чувствую, что умру… В октябре сорок первого я служил в сто тридцать втором отдельном саперном батальоне. Потом его расформировали. Там со мной был Никита Васютин. Вдвоем пошли. Он большой подвиг совершил – на себе подорвал танк… Я ранен был, потом докладывал, говорят – части той нет, а дело прошлое… Он говорил – у него старики в Вологодской области… Умру, и никто об его подвиге не узнает. Я думал – кончится война, напишу Сталину. Пускай стариков порадуют… Он, как показались танки, сказал „дай завернуть“, скрутил и пополз…» Старшина не мог больше говорить. На лице проступил пот; он забылся. Вечером он умер. А Крылов разволновался. Напишу Сталину… Какие у нас люди!.. Умирает, а о товарище думает – стариков порадовать… И почему он умер?.. Крылов вышел в сад. Пахло лекарствами, трупами (под развалинами соседнего дома погибли эсэсовцы), белой акацией, гарью.
– Войной пахнет, – проворчал Крылов, – а война ведь кончается…
Гильда в ужасе глядела на русских: они проходили внизу по улице. Потом пришли двое, спросили, нет ли оружия. Она подумала: сейчас убьют… Но русские ушли. Все время она вспоминала рассказы Курта. Ей казалось, что войдет азиат с раскосыми глазами и приведет в спальню корову… На третий день она осмелела и вышла с госпожой Мюллер на улицу; они стояли у самого подъезда, чтобы можно было убежать. Один русский офицер остановился, спросил: «Тиргартен где?» Гильда показала направо. Он улыбнулся. Она тоже улыбнулась. Ее зеленые глаза сразу просветлели. Курт лежал мрачный, повернувшись к стенке лицом. А она прибирала квартиру и думала: никакой коровы не приведут, глупости, они даже привлекательные, в такого можно влюбиться – у него глаза серые, как небо в бурю, с огоньком, чувствуется темперамент…
Пушки Васи били по угрюмому корпусу. На фасаде огромные валькирии бесстыдно распластали свои каменные тела. Потом немцы начали выходить с поднятыми руками. Вася и младший лейтенант Горбатенков осматривали здание рейхстага. Залы были завалены камнями, мебелью, брошенным оружием. Бойцы расписывались на продырявленных стенах. Горбатенков вынул из кармана гимнастерки портрет Сталина: «Товарищ капитан, это я в сорок втором из „Огонька“ вырезал. Так он со мной и прошагал – от Россоши до Калача и обратно до Берлина. Плохо было, со мною шел, хорошо было, шел. Все время я его хранил. А сейчас, повешу на стену – дошел…» Он прикрепил маленький портрет к стене.
Минаев провожал на КП армии немецкого генерала. «Осторожно, – сказал Минаев, – здесь яма». Генерал ответил: «Я ничего не слышу, оглох от вашей артиллерии». В штабе Минаеву сказали: «Пошли за машинисткой – сейчас генерал Вейдлинг продиктует приказ о капитуляции». Немецкий полковник, который сопровождал Вейдлинга, выпустил из глаза монокль и тотчас его подхватил.
Потом Минаев хорошенько помылся, выпил стакан французского вина и написал матери.
«Твой Митька сейчас сидит в кабинете какого-то солидного немца. Владелец этого дома собирал игрушечных солдатиков – ничего не скажешь, они обожали войну. Теперь только слегка разочаровались. Кругом меня тысячи оловянных солдатиков всех эпох и всех стран. Имеется и наш, он скромно стоит позади различных уланов. Но между прочим он дошел до Берлина, и сегодня я видел, как немцы явились с повинной. Ты мне когда-то говорила, что над чужим горем нельзя смеяться, это правда, если речь идет о людях. А вот что ты скажешь о немецком полковнике, который, когда подписывали капитуляцию, то и дело поправлял свой пробор и вставлял в глаз монокль? Страшно подумать, что из-за таких оловянных солдатищ погибли миллионы хороших людей. Третьего дня мы похоронили капитана Терешковича. Смотрю на Берлин и все время вспоминаю курганчик под Сталинградом, о котором я тебе писал. Теперь, дорогая мамуля, очень скоро кончится. Жалею, что не выполнил твоего приказа и не поймал Гитлера живьем, немцы уверяют, будто он отравился. Оля тебя целует, немки таращат на нее глаза, наверно, думают что это и есть та страшная большевичка, которая, по словам Геббельса, закусывает водку немецкими младенчиками. А все-таки дураки они, мамуля, я уж не говорю о другом, но круглые дураки…»
В тот вечер над Москвой прошумели долгожданные слова: «Полностью овладели столицей Германии городом Берлин – центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии». По небу текли струи ракет, а у окна стояла Мария Михайловна Минаева и плакала. Потом она пошла к Кацману, сказала: «Давид Григорьевич, и мы с вами дошли… И Гриша дошел… Ведь вот какое дело – победили…»
27
Где-то еще шли бои; а в Берлине было тихо; и эта тишина угнетала Рихтера. Ему казалось, что сейчас кто-то придет и отправит его в Сибирь.
Запыхавшись, Гильда сказала:
– Реквизируют!.. Русский офицер!..
Рихтер подумал: значит крышка, сейчас меня заберут… Он спросил Гильду:
– Какой он?
– Я его не видела. Приходил ординарец – высокий, довольно красивый…
– У тебя одно на уме…
Гильда приготовила для русского лучшую комнату, которая до войны служила Рихтеру кабинетом. Пришла госпожа Мюллер, рассказала:
– Ко мне въехал русский, обер-лейтенант, очень приличный… Теперь я гарантирована от различных визитов…
Рихтер подумал: может быть, и меня спасет русский офицер? Если он только не захочет меня погубить…
Он сказал Гильде:
– Не говори ему ни в коем случае, что я был на Восточном фронте. Я был во Франции, а потом в Берлине – меня демобилизовали по болезни.
Увидев Васю, Гильда подумала: удивительно милый и нестрашный. Никогда не поверю, что такой держит у себя в комнате корову или сажает девушек на кол. Зачем Курт это рассказывает? Достаточно нас обманывал Геббельс… Она начала ухаживать за Васей, постелила ему лучшую простыню, положила свою подушку из гагачьего пуха; спросила, что приготовить на завтрак, но Вася не понял.
– Поговори с ним по-русски, – просила Гильда Рихтера.
– Ты сошла с ума! Тогда он поймет, где я воевал? Ты, вероятно, хочешь от меня отвязаться…
– Курт, не говори глупости. Нам будет куда спокойней, если мы расположим к себе этого офицера… Но что я могу сделать, когда он меня не понимает? Ты был в России очень давно, еще до нашей женитьбы, тогда немцы дружили с русскими, ты мог тогда научиться русскому языку. Это только расположит его в твою пользу…
Курт начал перебирать старые бумаги, чихал, злился и, наконец, разыскал фотографию: он был снят с группой русских архитекторов в Кузнецке. Когда он постучался в комнату Васи, он ничего не соображал, как будто идет в атаку. Он сказал, показывая на Гильду:
– Моя жена спрашивает, к которому часу вам приготовить завтрак?
– Спасибо. Не нужно. У нас своя столовая.
Гильда ушла, а Рихтер стоял, как осужденный. Пусть уже скорее спросит!.. Но Вася молчал.
– Вас удивляет, откуда я знаю русский язык?
Вася улыбнулся:
– Ничуть.
– Вы, может быть, думаете, что я воевал на Восточном фронте? Я был во Франции – гарнизонная служба. А русский язык я изучил давно. Я ездил в Кузнецк – тринадцать лет назад, снялся там с вашими архитекторами.
Он сунул Васе фотографию, тот для приличия взял и тотчас вернул.
– То-то я вижу чертежи, книги… Значит, вы архитектор?
– Да.
– Я тоже…
Оба долго молчали. Вася не знал, о чем говорить с этим немцем. А Рихтеру казалось, что он не сказал русскому самого важного. Он спросил, не мешают ли господину капитану его книги.
– У меня была и марксистская литература, но при наци пришлось сжечь. Остались только специальные издания и классики. Когда я ездил в Кузнецк, я был очень близок к коммунизму…
– Интересно, – ответил Вася.
Рихтер понял, что русский ему не поверил, откланялся и ушел.
А Гильда то и дело заходила в комнату Васи – принесла пепельницу, проверила затемнение. Она глядела на русского нежно и лукаво, надеялась, что он ее поймет и без слов. Но Вася был вежлив и безразличен. Что ж это такое? Он меня просто не замечает… Неужели я так подурнела? Она долго вертелась перед зеркалом, подмазалась, надела зеленое платьице, которое ей особенно шло, и постучалась к Васе. Он сидел, как будто ее нет в комнате. Она убежала к себе и расплакалась. Курт прав – это ужасные люди!.. Даже не поглядел на меня… Она проходила грустная весь следующий день. Только поздно вечером Рихтер увидел ее веселой, возбужденной. Она сказала мужу:
– Ты знаешь, ординарец очень симпатичный. Он немного говорит по-немецки…
Рихтер сразу понял, что скрывается за ее словами. Он обругал ее нехотя – для приличия. В ужасе он подумал: я даже рад, что она подружилась с русским солдатом… Что со мной стало? Ревновать и то не могу…
Несколько дней спустя Вася вернулся домой в приподнятом состоянии. Рихтер с ним столкнулся в передней, и Вася ему улыбнулся. Рихтер расцвел. Капитан сегодня веселый, нужно с ним поговорить… Он посмотрел в щелку – Вася писал. Рихтер сказал Гильде: «Тише, он работает…»
Увидав, что русский стоит у раскрытого окна, Рихтер постучался.
– Вы забыли про затемнение, господин капитан.
Вася оторвался от вечерней прохлады – день был уже по-летнему знойным.
– Кончено затемнение. Не понимаете? Война кончена. Ваши сегодня подписали безоговорочную капитуляцию.
Ничего не изменилось в лице Рихтера, он так же улыбался – почтительно и уныло. Помолчав, он сказал:
– Я вас поздравляю, господин капитан.
Васе стало не по себе: побили их, а он меня поздравляет…
– Садитесь, – сказал Вася. – Курить хотите? Ну, вот и кончено… Теперь сможете работать. Строить… Достаточно здесь развалин…
– Ваши города тоже очень пострадали. Я видел Смоленск, Минск… (Рихтер побледнел – выдал себя!) Я видел это в кино…
Вася усмехнулся:
– Неважно где, важно, что видели, знаете, как ваши поступали.
– Это ужасная вещь – война. Я не из «гитлерюгенд», я был воспитан в другом духе, я помню роман Ремарка, постановки Пискатора, речи Тельмана. Мы мечтали о мире. Я хорошо знал полковника Габлера – я построил для него дом. Он был замешан в заговоре, наци его расстреляли. Я только недавно узнал, что заговорщики уже год назад требовали мира… Да что вам говорить, господин капитан, когда немецкие солдаты были на Кавказе, я не радовался, я знал, что это плохо кончится. Война это хаос, никто ничего не понимает.
– Напрасно вы так думаете. Я три года был в партизанском отряде, ваши называли нас «бандитами». Сорок второй. Ваши на Кавказе. Мы в лесу, за нами гонится ваш полицейский полк… Вы думаете, что я сомневался? Ничего подобного. Я и тогда твердо знал, что приду в Берлин. Конечно, меня могли убить, но пришел бы другой, и сел бы в это кресло…
Рихтер еще раз почтительно улыбнулся, пожелал Васе спокойной ночи и ушел к себе. Никогда не сказал бы, что этот капитан был бандитом, вежливый, хорошо воспитан. Конечно, сегодня он наговорил много бестактностей, но трудно что-либо возразить – наци действительно обанкротились… Почему я не сказал ему, что сражался в России? Ведь теперь мир… Есть что-то унизительное в моем поведении, я такой же архитектор, как он, а держусь приниженно, не сел, хотя он сказал «садитесь»… Во что я превратился?.. Он говорит, что я буду строить. Что строить? И для кого? Люди со вкусом разорились или удрали. Придется перебиваться – латать дома, латать жизнь. Неинтересно…
Прибежала Гильда:
– Курт, подписали!.. Госпожа Мюллер мне только что рассказала…
Она с восторгом сорвала штору из черной бумаги. Рихтер ответил:
– Я знаю, мне рассказал русский…
– Почему же ты мне не сказал?..
– Неинтересно.
– Курт, ты сошел с ума! Как неинтересно? Кончилась война, это самое главное. Почти шесть лет мы мучились…
– Положим, ты не мучилась, а развлекалась. Мучения для нас только начинаются…
– Мне все равно, если не будет чулок или сахара. Я хочу спокойствия. Ты меня уверял когда-то, что мы – буря. Это – пропаганда. Как у Геббельса… Я не хочу быть бурей, я хочу быть обыкновенной женщиной.
Она ушла на кухню, которая сделалась ее любимым местом. А Рихтер сидел, закрыв лицо рукой. Гильда права – насчет бури было глупо… Мы только исполняли роль бури, а когда буря налетела, мы не выдержали. Что же дальше? Вместо города развалины. Да и я развалина. Будут расчищать – свезут прочь… Неинтересно…
Когда Рихтер ушел, Вася вернулся к окну. Какой этот немец паршивый! Слизь… Наверно, порезвился у нас и скис… Лучше о нем не думать – слишком хороший вечер… Вася пошел в столовую. Он вспоминал Налибокскую пущу, язык деревьев, любовь Аванесяна, Сережу, который погиб за тридевять земель на чужой и родной земле. Столько было в Васе чувств – и грусти, и восторга, и гордости, – что никогда не смог бы он их выразить словами; только блестели среди ночи, темной и теплой, его синие глаза, которые часто снились Наташе.
В столовой ждала его вторая негаданная радость: полковник Никитин ему сказал:
– Завтра полетите со мной в Москву.
Вася улыбнулся и оторвался от окружающих – он уже летел к Наташе.








