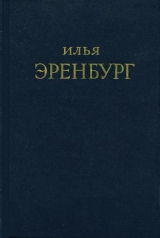
Текст книги "Буря"
Автор книги: Илья Эренбург
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 63 страниц)
19
Вот уже месяц, как Мадо кочует; она приезжает в город, разыскивает улицу, дом, человека, говорит нелепые слова «у вашей тети грипп» или «я продаю канарейку», передает инструкции, узнает, выпустили ли листовки, как обстоит дело с динамитом, и уезжает. Она – связная. Ее вид не вызывает подозрений. Она может мгновенно превратиться в деревенскую дурочку, в девицу легкого поведения или в барышню, занятую нарядами; она быстро меняет и одежду, и манеры, и словарь; умеет быть светской, жеманной, простодушной, плакать, говоря, что ее отец умирает, болтать о модных прическах, найтись в любой обстановке, затеряться в толпе. Товарищи говорят: «Нужно послать Франс – она проберется…»
Мелькают города, Лион с его туманами, с темными закоулками, проходными дворами, тайниками улиц и тайниками сердец, неизменно пестрый, крикливый Марсель, где старые портовые проститутки оказываются героинями и где философы-гуманисты торгуют, чем придется, – кофе, поддельными шедеврами, головами патриотов, длинный, закопченный Сент-Этьен, старая кокетка Ницца. В окно вагона бьет осенний дождь; проносятся поля с неподвижными коровами; убирают виноград; на речке женщины полощут белье; горы, надорвавшись, отвесными скалами спускаются к морю.
Иногда Франс идет по шоссе, обсаженному тополями, сворачивает на маленькую дорогу, морщинистую, как лицо старухи, по тропинке подымается в гору, заходит в крестьянский дом, где лает собака, коптит лампа, сушится лук. На ногах то рыжая тяжелая глина, то серебряная пыль. Она ночует и утром уезжает.
Кругом идет своя жизнь. Виноделы говорят, что сорок второй будет «большим годом». Деревенские парни покупают фальшивые документы, чтобы избавиться от отправки в Германию. Молодожены запасаются ордерами на шкаф, на кровать. В школах дети слушают, как дедушка Петэн спас Францию. Люди продают немцам вино, колбасу, апельсины, старинные миниатюры, духи, непристойные фотографии, покупают у немцев сигареты, ножики для бритья, аспирин. Все торгуют, прицениваются, перепродают. Многие богатеют, украшают картинами дома, устраивают званые обеды. Франс видит невест в подвенечных платьях, мамаш, разодетых по-воскресному, со своими выводками, подвыпивших мечтателей, влюбленных, стариков, играющих в трик-трак. И она думает: до чего мы одиноки! Сколько нас? Десять тысяч, может быть, сто, не знаю… А остальные приспособились.
Конечно, они недовольны, говорят о далекой войне – союзники в Африке, Сталинград еще держится… Но до чего это далеко – и Сталинград, и Алжир! А немецкая комендатура в двух шагах. Можно заработать, хорошо пообедать и, если ты уж такой непримиримый, послушать, что рассказывает Лондон. А скажешь лишнее слово, отошлют в Германию или замучают в гестапо… «Только сумасшедшие могут с ними бороться», – сказал Франс один адвокат, который согласился приютить ее на ночь, и добавил: «Я тоже сумасшедший», – он чувствовал себя героем. Говорят шопотом, и это шушуканье преследует Мадо, как осенний непрестанный дождь. Боятся не только немцев, боятся друг друга, соседей, сослуживцев, болтунов, провокаторов, подосланных, подкупленных, добровольных шпионов, перекрасившихся левых, людей с двойными документами и с двойной совестью. Где та Франция, что кричала на перекрестках, кичилась своим темпераментом, своими баррикадами, своими куплетистами? Пройдет немец, и сейчас же кто-нибудь угодливо улыбнется…
Даже Тулон ничего не изменил. На минуту все замерло, как будто далекий взрыв оглушил страну. А потом?.. О самоубийце можно писать стихи, можно над ним плакать, нельзя ему подражать.
Рауль был старым коммунистом. Франс считала, что он понимает больше других; она его спросила: «Мы пишем про Тулон, а почему они взорвали корабли, не попробовали уйти, дать бой?..» Рауль усмехнулся: «Командовали вишисты. Хорошо, что не передали корабли немцам…»
В Париже Мадо многого не замечала: она жила в подполье. Здесь каждый день она сталкивалась с безразличными людьми. «Мы разведка, – говорил летом Люк, – армия далеко позади…» Подоспеет ли эта армия?.. Еще недавно Франс радовалась, когда люди в кафе или в вагоне заговаривали о Сталинграде. Теперь от таких разговоров ей становилось еще тяжелее. Там умирают, а молодой, рослый парень, продав бочонок вина и спрыснув сделку, шепчет: «Русские молодцы»… Они думают, что их кто-то освободит – большевики, дикторы Лондона, американцы, высадившиеся в Алжире, хитрый Дарлан, все равно кто. Даже самые смелые, те, что прячут ее на ночь, качают головой: «Зачем торопиться? Вы убьете боша, а они в ответ расстреляют сто. Идут большие бои в России. Союзники высадятся, если не теперь, так весной. Нужно ждать…» Это повторяют все: ждать, обязательно ждать!
Мадо обрадовалась, увидав Жозет. Это было в беленой комнате, похожей на келью: распятие, запах лаванды, щербатый стол. Жозет знала, что Мадо спешит, и сразу заговорила о деле:
– Скажи Раулю, что копями займемся. Сейчас подготовляем операцию на линии. Необходимо оружие. Смешно сказать, у нас десяток револьверов, это все. Каждый день можем нарваться… Когда ты увидишь Рауля?
– Завтра вечером. Если не опоздаю на поезд…
– Значит, в четверг или в пятницу будешь здесь. Тогда поговорим обо всем. Один только вопрос: ты видала Анри?
– Накануне отъезда из Парижа. Значит, месяц назад, немного больше… Он здоров, очень бодрый, говорил со мной так, что я приободрилась.
Уходя, Мадо сказала скороговоркой:
– Он говорил, что с Мими все хорошо…
Когда Франс сказала Раулю насчет автоматов, он засмеялся:
– Ты думаешь, что мы богаты? Четыре немецких – трофеи. Англичане сбрасывают только «AS», а те не дают.
Он помолчал, потом снова засмеялся:
– Попробуй с ними поговорить, может быть у тебя что-нибудь получится. Здесь есть один профессор литературы… Я плохой дипломат, потом меня знают, как непримиримого. А ты – парижанка, да и вид у тебя кроткий… С ними ничего нельзя знать – зависит от настроения.
Преподаватель литературы в местном лицее Жорж Рамель, с которым Франс должна была встретиться, до войны не интересовался политикой. Ему было двадцать девять лет, он женился перед самой войной и обожал свою жену. После капитуляции он помрачнел, избегал встреч с друзьями, не разговаривал даже с женой.
Однажды она ему сказала: «Неужели для тебя всего важнее престиж государства? Есть жизнь помимо этого…» Он ответил: «Ты не понимаешь. Мне безразлично, где границы, кто победит, это дело военных или политиков… Сейчас другое: немцы в Париже. Можно жить богато или бедно, но так жить не стоит…» Когда школьный товарищ предложил Рамелю вступить в организацию сопротивления, Рамель ни минуты не колебался. В группе «Жанна д'Арк» были разные люди: портной, который прежде шил костюмы Рамелю, два студента, журналист из католической газеты, молодая вдова офицера, погибшего в сороковом году, владелец текстильной фабрики, старый токарь, врач, нотариус. Рамель дважды участвовал в операциях: они принимали оружие, которое англичане сбрасывали на парашютах. Теперь жизнь казалась ему достойной.
Он встретился с Франс у зубного врача, который помогал группе «Жанна д'Арк». Рамель пришел с подвязанной щекой: после недавних арестов им было предложено соблюдать конспирацию. Франс изложила суть дела. Он сразу почувствовал к ней симпатию: что нас разделяет? Они делают то же, что мы. Теперь не выборы, люди умирают не по партийным спискам… Когда Франс замолкла, он сказал:
– Я поговорю с товарищами. Приходите завтра. Доктор принимает много больных, так что это безопасно… Здесь снова никого не будет.
В тот же вечер Рамель рассказал Надо о просьбе коммунистов.
– Это исключено, – ответил Надо. – У нас определенные директивы – не давать им оружия. Мы можем обмениваться информацией, сообщать о провокаторах, помогать прятаться, и только…
– Я не понимаю, зачем нам столько ручных пулеметов.
– Мы расходимся с ними в основном. Они занимаются мелкими операциями, убивают бошей, портят пути, недавно взорвали водокачку. Это только усиливает репрессии. Для коммунистов самое главное пропаганда. А мы смотрим на это с национальной точки зрения. Мы должны создать в подполье настоящую армию.
Когда союзники высадятся, у нас окажутся боевые единицы, хорошо вооруженные, с кадровыми офицерами.
Встретившись снова с Франс, Рамель сказал:
– К сожалению, это невозможно. Мы против преждевременных операций. Так думает наше руководство.
– Что же, по мнению вашего руководства, нужно делать?
– Накапливать силы, ждать.
Сколько раз Мадо слышала это «ждать»! Но тогда говорили малодушные люди, привязанные к сберегательной книжке, к зеркальному шкафу, к стакану аперитива. А этот… Ведь его могут сегодня взять, замучить в гестапо…
– Ждать чего?
– Высадки.
– Странная игра! Союзники ждут, пока русские не ослабят немцев, вы ждете, пока союзники не окажутся во Франции, обыкновенные люди ждут, пока вы не решитесь выступить. В итоге какой-нибудь Дюран из Виши, который вас не пускает на порог, окажется победителем…
Она нервничала, комкала перчатку. Рамель забыл о директивах; ему было неприятно, что этой женщине он должен казаться трусом.
– Если вы хотите знать мое мнение, я с ними не согласен. Сейчас легче стрелять, чем прятать оружие… Но не мне объяснять вам, что такое, дисциплина. Когда был советско-германский пакт, я считал, как многие другие, что коммунисты изменники. Я был неправ, признаю. У вас была своя тактика. Есть своя тактика и у людей, которые приказывают нам ждать. Один из моих коллег – коммунист, в начале войны ему предложили отречься. Я знал, что он во многом расходится с позицией ваших депутатов, но он мне сказал: «В бою не философствуют, а дерутся…» Его арестовали, не знаю, что с ним стало. Он тогда показался мне фанатиком. Я и в этом был неправ. Теперь я воюю и не хочу размышлять – правы те в Лондоне или не правы. Вы лучше меня понимаете, что такое верность…
Прощаясь, Мадо сказала:
– Обидно, что я не достала оружия. И за вас мне обидно…
Он крепко пожал ее руку:
– Желаю вам удачи.
Когда Франс рассказала Раулю о разговоре с Рамелем, он засмеялся:
– Значит, говорит о верности? Они верны себе, это правда… Боятся нас. Рамель не разбирается. Я тебя послал к нему, потому что он самый порядочный. У них есть один тип, Надо, бывший протеже Фландена. Тот прямо говорит: «К моменту победы мы должны быть сильнее коммунистов…» Скажи Полине, чтобы достали автоматы у немцев – это наши единственные оружейники. И узнай, продвигается ли с вольфрамом?..
Жозет, увидев ее, взволновалась:
– Сегодня ночью операция. Могут начать проверять… Я тебя отошлю к одной старушке, это над городом. Утром спустишься в Левалле, минуя все посты. В семь возле Левалле тебя будет ждать связная – я передам для Рауля результаты…
– Когда операция?
– В четыре.
– Рауль спрашивал о конях…
Франс едва плелась – далеко, крутой подъем, две ночи она не спала. Вечер был холодный, один из первых зимних вечеров. В маленьком доме старая крестьянка кипятила воду и что-то приговаривала, потом она накормила Франс и внучку, все говорила, говорила. Франс не понимала, что она говорит. Может быть, выжила из ума?
Франс пробовала уснуть и не могла; то и дело чиркала спичками, глядела на часы. Без четверти четыре она вышла из дому. Ночь была темная, где-то лаяла собака. Из долины донесся шум приближавшегося поезда, как будто рядом дышал простуженный человек. Потом раздался грохот. Старуха выбежала из дому, сказала: «Слава пресвятой Марии». Мадо улыбнулась: старуха все понимает… Неправда, что мы одни! Даже такая с нами… И Мадо стало сразу спокойно. Она, сидя, дремала: боялась, что проспит. А старуха разводила огонь и снова что-то бормотала.
Было еще темно, когда Франс начала спускаться. Не доходя перекрестка Левалле, она увидела девочку, иззябшую, с ленточкой в косичке. Девочка повторила пароль: «Я куплю на базаре ведро». Мадо не удержалась, погладила ее по голове. Девочка деловито сказала:
– Сто восемьдесят шесть бошей – эшелон отпускников. Все наши целы. Насчет вольфрама будет выполнено в начале декабря.
Она держала книжку, тетрадки – шла в школу. Из-за горы поднялось солнце, розовое и туманное, как в театре.
Мадо снова ехала. Мелькали голые деревья, лица пассажиров, названия станций. Она о чем-то думала и, усталая, не могла понять, о чем. Кажется, о судьбе…
Рауль сказал:
– Сто восемьдесят шесть? Здорово! А ты знаешь, немцы здесь засуетились, была облава, взяли Рамеля. Выспись, завтра придется поехать в Лион…
20
Огонь был такой, что Осип открыл рот, вытаращил глаза. Минаев, поглядев на него, хотел засмеяться, но не засмеялся. Потом Минаев говорил: «Да, это была музыка!.. Когда-нибудь скажут – концерт, симфония, Бетховен, все равно не забуду…» Но в ту минуту и Минаев ни о чем не думал. Даже порывы холодного ветра не доходили до сознания людей. Они жили томительным, раздирающим нутро ожиданием. А когда Минаев взбирался на крутой холм, была в нем такая воля, будто всю жизнь, с детских игр, с первой книги он только и ждал этой минуты. Слишком много было перед тем сухого горя, убитых друзей, черных сводок. Они и полюбили и возненавидели эту степь. Осип говорил: «Буду всю жизнь помнить», а однажды подумал – только бы потом не приснилось!.. Они не могли больше ни молчать, ни ругаться, ни надеяться. Сто с лишним дней… И вот пришло то, о чем они не смели мечтать, к чему готовились деловито, буднично, как к севу, к пуску домны, к трудным экзаменам. Было морозное утро, и только на верхушке кургана, вытерев рукавом лицо, Минаев почувствовал, что холодно, попросту холодно – не ему (ему, пожалуй, жарко), а вообще холодно – зима… Какая чепуха лезет в голову! При чем тут зима? Это наступление…
К этой минуте готовились миллионы людей. В тылу солдаты на занятиях каждый день штурмовали высоту, пересекали поле, залезали в ложбину. На заводах день и ночь исступленно работали женщины, измученные лишениями и одиночеством, бледные, как будто война выжала из них жизнь. Обессиленные машинисты под бомбами вели тяжелые составы. Были саперы, которые в тысячный раз репетировали те же жесты: перерезать проволоку, разминировать проходы. Подвозили бревна для будущих переправ. Обучали кудрявых регулировщиц для дорог, по которым еще спокойно ездили немцы. Подсчитывали ящики консервов, койки для раненых, цистерны с горючим. Еще не было снега, а уже выгружали валенки. Были тысячи карт; командующий фронтом, генерал, полковник Игнатов, Осип, все глядели на карты, где были отмечены дивизии, полки противника. Знали, кто на какой вышке – где итальянцы, румыны, немцы; знали, какие немцы – крепкие или потрепанные, эсэсовцы или запасные. Знали, что в итальянской дивизии «Равенна» солдаты говорят друг другу «Зачем мы сюда пришли?» и что семьдесят первая немецкая дивизия прибыла из Реймса. В разведотделе выписывали имена генералов рейхсвера, отмечали вторые эшелоны немцев, читали письма с кривыми готическими буквами, где лейтенант Шмидт сообщал своей супруге, что отпуска отменены. Редакции газет, фронтовых, армейских, дивизионных, готовили номера с призывами к «решающему удару». Поэты писали стихи, и наборщики в землянках или в грузовиках набирали все то же слово «н-а-с-т-у-п-л-е-н-и-е». Политработники читали бойцам дневники немецких палачей, говорили о ранах родины, проверяли сердца, как механик проверяет мотор. План был составлен, разобран на детали и снова собран. Высокий генерал с больной печенью, скрывая от других, что у него припадок, объезжал позиции. Полковник Игнатов говорил Осипу: «В шесть ноль-ноль». Сталин зрачками, расширенными бессонницей, впивался в карту, и перед ним вставали степь, курганы, балки – он знал эту землю наизусть. Нужно было предвидеть и то, чего нельзя было предвидеть, – что наши танкисты найдут в Тацинской вражеские самолеты и что эти самолеты придется потом сжечь, что одни немецкие генералы будут за своевременный отход, а другие против, что у Манштейна окажется много танков, но в последнюю минуту он проявит себя педантом; нужно было предвидеть и мастерство противника и возможность с его стороны ошибок, все, вплоть до поздних дождей, до раннего ледостава, до влияния луны, оплошности, случая.
Пока шла эта упорная, долгая подготовка, батальон, которым теперь командовал Осип, стоял под ураганным огнем, отбивал атаки немцев, пытался контратаковать, чтобы не попятиться, истекал кровью – немного осталось из тех, кто в знойный августовский день впервые с тоской взглянул на эти безрадостные места. Здесь похоронен старший лейтенант Зарубин, которого Минаев прозвал «мистером» за медлительность, Зарубин погиб при контратаке. Здесь могилы бронебойщика Шаповалова, Загвоздева, Магарадзе, Бутенко, Бродского, многих других. «Проклятый курган», повторяет Минаев.
Все было готово, и все началось именно тогда, когда должно было начаться. А для бойцов батальона это началось с первого дзота, в котором бурно ругался бывший парикмахер сочинского санатория, разведчик Любимов, убив прикладом двух немцев. Когда Минаев потом сказал – на этот раз серьезно: «Действительно историческая минута», Любимов махнул рукой и отвернулся – легко поминать историю, когда она далеко, а здесь не до нее.
Полковник Игнатов считал Осипа превосходным командиром. Ему нравилось, что майор Альпер не горячится, не вешает нос, всегда ровный. Полковник как-то подумал: жить с таким скука, повесишься, а воюет хорошо… Осип воевал, как прежде работал, – сухо и страстно, – тот же завод, только обидно, что приходится разрушать… То, что порой называют «романтикой войны» – азарт игры, увлечение опасностью, непривычное существование – переходы, костры, палатки в лесу, жизнь без жены, без женщин, с постоянной, как зуд несносной, тоской по женщине, с трогательными письмами и грубыми словечками, все это было чуждо Осипу. Он мечтал о дне, когда война кончится, можно будет работать, строить, налаживать; тосковал о семейной жизни; восторгался Раей, но, глядя на фотографию, которую она прислала, вздыхал – и такая воюет, вот что наделали немцы: думал о том, как трудно маме с Аленькой в эвакуации (Рая написала, что они в Узбекистане); ненавидел немцев и за то, что они омрачили детскую жизнь – оставили Алю на год, может быть на годы без матери. В его сознании война была отвратительной болезнью, которую организм народа должен победить. Может быть, именно поэтому Осип так подружился с бойцами, которые, как он, тосковали по семьям, ненавидели немцев за сожженные дома, за убитых ни в чем неповинных людей, за развороченную жизнь. Бойцы говорили о командире: «понимает»… В первые месяцы войны Осип спрашивал себя: доходчиво ли я говорю, может быть, «по-газетному» (Рая смеялась), вдруг не хватает чувства?.. А ведь тогда он еще был комиссаром… Теперь он об этом не думал, он чувствовал то же, что все.
Наступать тяжело; говорят, что правее легче – там румыны. А здесь немцы, и немцы отчаянно сопротивляются. Наступают медленно. Много жертв. Люди усталые, угрюмые. Но где-то внутри копошится надежда: кажется, теперь всерьез… Минаев то ворчит «три хутора взяли и радуемся, а у них без малого вся Европа», то впадает в раж – «теперь покатятся, самое трудное толкнуть»…
Минаев – все тот же, уверяет, будто «немцы румын нарочно бросили – им не до музыки», смеется над сообщениями о войне в Африке – «у алжирского бея давно шишка». Потом появляется неизменный «доктор Геббельс». Собачонка уцелела, не отходит ни на шаг от Минаева – под огнем ползет, Минаев важно говорит – «по-пластунски»…
– Ну, что, доктор Геббельс, ваши желания исполнились – наступаем, только в другую сторону…
«Доктор Геббельс» лает.
Через несколько дней стало легче: румыны. Минаев раздавал записочки: столько-то скрипачей направляются в плен – не посылать же с ними бойцов! Румыны бодро шагали в тыл, и Минаев восхищался:
– Ты посмотри – веселые, спешат, как на свадьбу…
Но вот сорок немцев во главе с лейтенантом подняли руки. Нечто новое… Впрочем, нет времени задумываться над поведением фрицев. В седьмом отделе займутся, там обожают психоанализ…
Станция. Сотни вагонов – немецкие, французские, бельгийские, польские, чешские – бледные львы, короны, трехцветные кокарды и черный новенький орел. Вся Европа прикатила в эту неприветную степь… Машины разных марок; водители облепили их, как муравьи, – раскулачивают. Из армейской газеты примчались за бумагой и пока что раскопали два ящика с французским вином. Солдаты едят сардинки, спаржу, шоколад, меняются зажигалками, трубками. Расплющенные танки. Пушка – хотела выстрелить и не успела. А мертвый немец смотрит одним уцелевшим глазом на длинную дорогу, и глаз слезится.
– Чорт знает что! Поехал на КП, а Игнатова уже нет…
Осип усмехается, сколько раз он говорил это летом. Но тогда удирали… А теперь хорошо. Даже беспорядок радует: все двинулось с места, зашагало, завертелось…
Почты долго не будет…
Минаев перечитывает давнее письмо матери, говорит Осипу:
– Мамуля все время что-то изобретает. Теперь у нее пышный проект: посадить Гитлера в клетку и возить по всем странам. Представляю, какой был бы эффект, если напечатать в Англии. Сейчас же учредят «Общество покровительства Гитлеру». А мамуля у меня энергичная…
Осип успел написать Рае:
«У нас все замечательно, скоро узнаешь из газет… Я здоров, как никогда, только волнуюсь, что у тебя? Раечка, я никогда не умел тебе сказать о самом главном, абсолютно неспособен сформулировать, но ты поверь без слов, я тебя не забываю ни на минуту, даже когда думаю совсем о другом. Тревожно, как маме и Аленьке, говорят, что там для непривычных тяжелый климат, и не знаю, как они обеспечены продовольствием? Перешли мне письма мамы. Я тебя горячо обнимаю, дорогой мой сержант!»
Осипа вызвал Игнатов:
– Нужно получше закрепиться. Фрицы попробуют выбраться, ничего другого им не остается…
Он сказал ординарцу, чтобы тот принес шампанское.
– Трофейное, из Франции… Никогда еще не пил, попробуем… Есть за что выпить… Генерал сказал, что сегодня передадут в «Последний час». Обстановка интересная…
Он начал показывать на карте: «Вот тебе и подкова…»
Когда Осип вернулся в батальон, Минаев ахнул:
– Где ты водку достал?
– Какую водку? Шампанское, стакан, да это, как лимонад… Но ты понимаешь, что случилось? Окружили!
– Я тебе говорю, что ты пьян. Что ты несешь? Какое «окружили», когда они вчера на семь километров отошли?..
– Ничего ты не понимаешь. Их окружили. Погоди, не этих – всех, всю сталинградскую группировку. Абсолютно точно. Я опомниться не могу…
Обычно спокойный, суховатый, он порывисто обнял Минаева. А Минаев смеялся от счастья и говорил:
– В общем мамуля права, мы его посадим в клетку…








