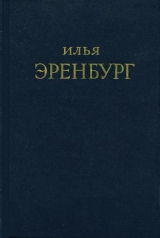
Текст книги "Буря"
Автор книги: Илья Эренбург
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 63 страниц)
11
Где только не приходилось ему ночевать! Люк, смеясь, говорил: «Жаль, что нет в сопротивлении Бальзака – сто готовых романов…» Сегодня он оказался у набивальщика чучел. Отовсюду на него глядели яркие любопытные глаза, барс щурился, готовясь к прыжку, медвежонок простодушно удивлялся, совы философствовали, а шпиц, любимец госпожи Дюфи (заказала чучело и не взяла из-за событий), охранял Люка, ибо должен был кого-нибудь охранять.
Когда Мадо пришла, ей стало не по себе. Люк улыбнулся:
– Не бойся, Франс, они не кусаются. Вот если набить чучело гестаповца, это действительно страшно…
Как другие, Люк теперь называл Мадо Франс. Да и она забыла, что Люк когда-то был инженером Лежаном. Скоро год, как она работает в группе Люка. Убийство Берти – один из эпизодов длинной кампании: нужно дезорганизовать военное производство. Среди шестнадцати казненных по доносу Берти было пять товарищей, работавших с Люком. Пришлось на несколько недель все приостановить. Но теперь затишье кончилось. Жюль и Нико хорошие ребята. И главное – нет Берти.
– Ты видала газеты? Они прочитали нашу листовку. Кончились разговоры о ревности. Впечатление огромное – чувствуют, что мы – сила. Тебе, Франс, нужно уехать. Хозяйка гостиницы тебя видала. Они поставят всех на ноги. Завтра Жак тебя отправит.
– Куда?
– В ту зону. Может быть, увидишь Жозет или Поля.
Ей стало грустно: кончается Париж. Вся ее жизнь связана с этим городом: детство, Сергей, одиночество, подполье… Но теперь она умела владеть собой, и Люк ничего не заметил.
– Как там?
Он понял по интонации, что значит «там».
– Держатся. Разве это не поразительно? Ты только представь себе – цвет германской армии, итальянцы, румыны, наверно, четверть миллиона, не меньше, все заводы Европы… И на крохотном клочке земли – советские… Вот это запомнится навсегда. Не огромная Россия, а маленькая полоска земли… Два месяца! Немцы вчера передавали по радио: «Ужасающий танец смерти». Дотанцовались… Сегодня я на улице слышал, два француза, не рабочие, чиновники, может быть, рантье, поздоровались и один сразу говорит: «Сталинград-то держится…» Чтобы до таких дошло! Весь мир смотрит… Анна говорит, что немцев не узнать. Скоро будут большие перемены, это чувствуется…
Настоящая дружба связала за год Мадо и Лежана. Эта дружба могла показаться непонятной людям, видевшим в Лежане сухого догматика, для которого в жизни есть только два цвета – красный и черный, два слова – «да» и «нет». А Лежан знал все слова, все оттенки, только он жил в эпоху, когда приходилось жить одним, ведь война началась задолго до войны, и чем крупнее был человек, тем настоятельнее была в нем потребность внутреннего самоограничения. Может быть, потому, что он знал Франс, когда она еще была своенравной девочкой, выросшей в оранжерее «Корбей», он понимал ее с полуслова. Все товарищи ее ценили – хорошая, толковая, смелая. Люк знал и другое: нелегко ей это далось, жизнь ее как-то сразу истоптала, она сохранила только достоинство, уже отрешенное и от личной жизни, и от надежд на позднее счастье. После доноса Берти, суда и казни шестнадцати встал вопрос о наказании «немецкого прихвостня» (так говорили товарищи). Люк добавлял: «Его важно устранить и потому, что он не прихвостень, а вдохновитель». Франс вызвалась убить Берти. Люк, оставшись с нею наедине, начал отговаривать: «Не нужно. У нас есть боевые парни, они сделают». Может быть, он опасался, что Франс не сумеет уйти, может быть, его останавливало другое: все же Мадо была его женой… Но она настаивала: «Зачем другим рисковать? Мне это легче сделать. И я хочу это сделать. У него была секретарша Ивонн, наивная девчонка с кудряшками, брала у меня модные журналы, мечтала познакомиться с Габеном или с другим киноактером. Он и ее припутал… Я тебя уверяю, Люк, что я это сделаю. Это мое право…»
Скоро они расстанутся. Люк будет ночевать здесь. А Франс уйдет к Ваше, там ее завтра найдет Жак. Потом – юг… Сейчас им грустно. Что может крепче связать людей, чем такой год?
– Ты думаешь, после войны все будет иначе? – спрашивает Франс. Ей хочется заглянуть в будущее, понять, увидят ли другие счастье. Миле расстреляли. Робер никогда не забудет свою любовь. Но молодые, совсем молодые – сын Люка Поль?.. Нет, Поль уже в подполье… Дочка Люка Мими, ей сейчас девять лет…
Лежан долго молчит, курит. Блестят глаза филинов, рысей и готовится прыгнуть на обидчика верный шпиц.
– Во вторник у меня была встреча с одним из «AS». Инженер, до войны был в «Боевых крестах». Я с ним разговаривал насчет автоматов. У них много оружия – союзники подбрасывают. Они должны прятать оружие до дня «Уи» – до высадки. Обидно… Может быть, дадут нам два десятка. Когда ты заговорила о будущем, я его вспомнил. Мы с ним встретились, как друзья. Я знаю – его могут завтра взять, он не предаст, видно сразу – крепкий. А три года назад, когда меня посадили, такой, наверно, возмущался: «Почему коммунистов не расстреливают?..» Как знать, что с ним станет через три года?.. Теперь они говорят, что нужно переделать Францию, все сгнило, коммунисты – молодцы. Восхищаются Сталинградом. Этот инженер мне сказал: «В Сталинграде воюют и за нас…» А потом, после победы?.. Человек может родиться заново. Но чтобы класс заново родился?.. Нет, такого не бывает! Он все время мне говорил «Франция» – дом у него есть, а семьи нет – нет народа…
– Знаешь, Люк, я недавно была в одном доме, это в Бильянкуре, их разбомбили, хотели куда-то переселить, а они остались. В общем дома нет, только фасад, живут внизу, окна забили фанерой, течет, холодно, одна женщина мне сказала: «все-таки это свое, насиженное»… Иногда подумаю о будущем – и страшно. Сейчас – буря, сорвало крышу, повылетали стекла, люди, как на улице. Говорят: «После победы будем строить»… Может быть, и не будут, залатают, найдут кусок фанеры, заткнут щели, бедно, темно, зато привычное…
– А ты думаешь, Франс, человек сразу меняется? Будет революция, если не теперь, потом. Но и после революции не сразу все переменится, особенно люди. Это утописты думали, что можно все сделать в двадцать четыре часа, для них ведь начало было таким же далеким, как конец. Ты знаешь, когда тяжелее всего подъем? Не тогда, когда смотришь снизу на верхушку, и не в начале – посредине, тогда ты в точности знаешь, что такое каждая петля. Спускаться можно бегом, а вверх идешь, идешь… Страшная это дорога – в камнях, в грязи, в крови! И все-таки – дорога…
– Я не о себе думаю. Но дети… Твоя Мими, она увидит?..
– Я помню, Франс, как ты пришла, играла с Мими в прятки. Мими нет. Умерла. В апреле. Жозет не знает, ты не говори… Когда Жозет пришлось скрываться, она оставила Мими у своей приятельницы. А ее забрали, девочка осталась буквально на улице, потом подобрал один лесничий. Поздно, истощение – и умерла… А Жозет я сказал, что она в Швейцарии, был такой проект еще в начале войны отправить ее в Лозанну, там у Жозет двоюродная тетка. Не могу я ей сказать, она и так измучена. Мими для нее все, в каждом письме спрашивает. Я сам все время думаю… Я ей вчера написал, что есть известия, что Мими очень выросла…
Он встал, подошел к Мадо. И среди зеленых, янтарных, оранжевых глаз она увидела еще одни – человеческие.
– Франс, тебе пора итти, до Ваше далеко…
Она обняла его и вышла на улицу. Ничего не видать – первый зимний туман. Может быть, так лучше – нет ни немцев, ни той обычной и в то же время чудовищной жизни, которая идет своим ходом изо дня в день. Иногда Мадо кажется, что корабль разбился, они на досках, а кругом море. Нет, это не так. Есть товарищи – сейчас печатают листовки, взрывают поезда, молчат, когда их пытают. Есть Ленинград. Люди переживают одно и то же, никогда они не были так близки. И каждый в этом общем одинок, окружен плотным туманом. Кто знал, что Люк думает все время о Мими?..
Вот и конец парижской жизни! Будут новые города, новые люди. Загадывать нечего, теперь все живут по-солдатски. Если бы я сейчас встретила Сергея, вот за этим углом, наверно, мы бы поняли друг друга. Не стали бы говорить о чувствах, спорить. Я бы его спросила: «Как сегодня у вас?..» Позавчера Жак рассказывал, что в Сталинграде идут бои за каждый дом…
Может быть, вставят не фанеру, а стекла, может быть, построят новый дом. А Мими не будет…
Ваше скрипучим голосом говорил: «В такую погоду очень легко простудиться. Я стараюсь как можно меньше выходить, у меня наклонность к ревматическим болям…»
В ту ночь были произведены большие аресты. Жаку удалось убежать через чердачное оконце. Взяли Ника, Соважа, Робера. Лежан всю ночь беспокойно ворочался, ему снились странные сны – то Мими кидала мяч, и он искал мяч, не мог найти, то прибегали звери с ярко-красными глазами, нюхали его ботинки, подымали вверх длинные морды и выли, выли…
12
Накануне Анна была с офицером, приехавшим из Бреста. Он рассказал ей, что двести восемнадцатый стрелковый полк неожиданно отправили в Россию. Лейтенант Шеллинг, узнав, что ему предстоит брать Сталинград, застрелился. Майор собрал солдат и сказал, что лейтенант Шеллинг покончил с собой, так как был болен неизлечимой болезнью. Однако все знали об истинных мотивах самоубийства, и солдаты при погрузке говорили: «Едем лечиться от неизлечимой болезни»… Анна подумала: нужно рассказать Жаку, он может об этом написать в «Франс д'абор»… А офицер говорил: «Я еще не встречал такой немки, у вас настоящий парижский шик»… Когда ночью Анна возвращалась к Жиле, какой-то пьяный француз ей крикнул: «Мышь, куда спешишь?»
В десять часов утра она должна была встретиться с Жаком. Подходя, к дому, она не заметила ничего подозрительного; медленно поднялась по винтовой лестнице на седьмой этаж; возле двери прислушалась, ей показалось, что Жак с кем-то разговаривает. Она постучала, как было условлено, четыре раза. Когда ее схватили полицейские, она подумала: мышь попала в мышеловку, и улыбнулась.
– Погоди, скоро заплачешь, – сказал полицейский.
Анна слишком долго ждала этого часа, чтобы растеряться. Она довела до бешенства гестаповцев. В самом начале допроса Зиллер, удивленный выговором Анны, вскрикнул:
– Ты врешь, что ты эльзаска, ты немка!
– Я была когда-то немкой, – ответила Анна. – Буду немкой – после смерти, когда и вас не будет. А сейчас я француженка, я русская, я испанка, все, что угодно, только не немка.
– Неслыханно, – говорил Зиллер полковнику, – такой ведьмы я еще не встречал. Ангельское лицо, в сумке любовные записки и говорит по-немецки, как я. Это не пешка, это крупная разведчица.
Ее допрашивали ночью, слепили глаза, опускали в ледяную воду, прижигали груди. Зиллер, теряя терпение, кричал:
– Ты хочешь, чтобы тебе отрубили голову?
– Хочу, – отвечала Анна.
Она не назвала себя: может быть, отец жив… В мышеловку вместе с нею попали Соваж (испанец Хосе Гомес), Ник – парижский рабочий, и студент Робер, который привлек Мадо к работе. Зиллер устраивал очные ставки. Никто ничего не сказал. Когда Анну пытали, она то молчала, то начинала несвязно рассказывать, как сражалась в Испании, то говорила, что ненавидит наци; а когда ей казалось, что силы ее оставляют, она, скандируя, выкрикивала: «Сталин-град! Сталин-град!»
Наконец ее оставили в покое: полковник запросил Берлин – отправить ли задержанную немку в Германию или провести дело в обычном порядке.
Когда она начала приходить в себя, мысли о случившемся (проследили или кто-нибудь выдал? успел ли уйти Жак?) смешивались с воспоминаниями детства. Это был калейдоскоп лет и лиц. Может быть, потому, что все время она помнила – нельзя сказать, кто она – замучают отца, ожили далекие годы: мать в косынке с корзиной красной смородины, отец, который среди проповеди торжественно сморкается, а из фулярового платка сыплется табак… От родителей мысли переходили к товарищам. Я не успела узнать про танки, а Жак очень просил. Что, если взяли Жака? На нем все держится… Он с лета страшно похудел – язва, а при такой жизни нельзя соблюдать диету… Они узнали имя Соважа, могут передать в Испанию, у него там семья. Он показывал фотографию – чудный мальчишка… И снова Анна видела маленький город, где родилась. На площади старый фонтан – гном плюется серебряной водой, две липы; палатка – летом там продавали черешни, сливы, крыжовник; писчебумажный магазин, девочкой Анна могла часами разглядывать витрину с цветными открытками, кожаными бюварами, резными пеналами. Кругом города зеленые холмы; на одном кондитерская и подзорная труба – оттуда виден Рейн, виноградники, развалины старинного замка.
Она пошла на тот холм с Генрихом. Он был очень близорук; казался уверенным, а когда снимал очки, было в лице что-то детское. Он долго глядел на далекую реку. Она родилась в тот самый год, когда началась война, и о том, что произошло, знала только из школьных книг, из рассказов родителей. Отец часто говорил: «Тогда мы проиграли, придется воевать снова»… Она с тревогой спросила Генриха: «Неужели и вам придется воевать?» Он ответил: «Конечно. Не с французами, а с наци»… Она не поняла, но кивнула головой – больше всего боялась, что Генрих сочтет ее за глупую девочку. Ей было восемнадцать лет… А Генрих снял очки и вдруг сказал: «Вы любите Гейне? У него есть стихи о старой истории, которая всегда новая… Я думал, что скоро уеду, а сижу здесь и каждый день думаю – встречу я вас или нет…»
Два месяца спустя они обвенчались. Год прожили вместе. Потом пришли наци… На площади вокруг фонтана с гномом молодые люди всю ночь пели песни, горланили. Среди них были и товарищи детских лет Анны, с которыми она вместе играла. Она их не видела, она была в Гамбурге. Генрих сказал: «Придется уйти в подполье». Она тогда еще не понимала многого из того, что он говорил, но это она поняла: счастье кончилось.
Хотя отец был пастором, Анне казалось, что он не верит в бога. Когда однажды она ему это сказала, он ответил: «Библия книга, по которой мы должны жить». Бог для него был замечательным законодателем, который давно умер, но оставил людям правильные наставления. Может быть, поэтому отец одобрил решение матери спрятать Генриха, хотя считал, что коммунисты против Германии, а евреев пренебрежительно называл «полузаконниками».
Тридцать пятый… Только теперь я поняла, что пришлось пережить Генриху. Тогда мне казалось, что я понимаю, но это нужно почувствовать на себе. Вот мы с ним снова встретились, как когда-то в любви…
Анна часто упрекала себя: до чего я сентиментальна, настоящая немка! Она боялась, что чувства могут ей помешать бороться. Теперь она была уверена в себе; она даже заплакала и в ту минуту не вспоминала ни Генриха, ни своего детства, не думала о близкой смерти, только отдалась большой нежности, которую подавляла в себе все эти годы.
Вдруг перед ней встала Испания, розовые и рыжие горы без зелени, летний зной, ярко-желтая река – Эбро.
Это было перед развязкой; в последний раз полумертвая Испания попыталась встать, вырваться из кольца. День и ночь фашисты били по переправе. Люди держались, хотя знали, что надежды нет. Анна помнит, как пришел крестьянин, потребовал, чтобы его взяли в армию. Никто не понимал, почему, просидев у себя два года, он пришел теперь, когда война проиграна. Он объяснил: «В моей деревне всем заправляет священник, никто не пошел воевать. А теперь говорят, что фашисты берут верх. Пусть они знают, что и в моей деревне есть люди…» Его убили там же, на Эбро…
Когда она была в Испании, отец передал ей, что он жив, любит по-прежнему дочь. Потом она ничего о нем не слыхала, мог умереть, мог стать наци – там все обезумели…
Судили четверых: Хосе Гомеса («Соваж»), Ива Менье («Робер»), Жана Валена («Ник») и «женщину, называющую себя уроженкой города Кольмара Марией Нильгауз». Еще до того, как вошли в зал судьи, Ник успел передать товарищам: «Жак ушел. С воли новости хорошие – Сталинград держится»… От его быстрого делового шопота Анне стало спокойно. Вот они снова вместе… Прежде они редко разговаривали: не было времени. С Соважем она иногда вспоминала Испанию. Его трогало, что она помнит испанские слова, он говорил: «Неужели я туда не попаду?..» Она отвечала: «Обязательно попадешь. Я тоже. Мы пойдем на Пуэрта дель Соль, будет очень жарко, очень шумно и весело…» Робер ей однажды сказал: «Я для себя ничего не жду. Была Люси. Ее взяли…» Ник признался, что ему всего девятнадцать лет; он любил говорить о пустяках, рассказывал, как дразнил полицейских, как ловил рыбу: «линь – вот какой»… Они мало знали друг друга: их объединяло нечто большее, чем радости и горести отдельного человека. И вот они вместе. Они знают, что ничто их не сломило. Они смотрят на судей сурово и отчужденно, как победители.
Равнодушно они выслушали приговор: знали его заранее. Ник шепнул Соважу: «Важничают. Хотел бы я посмотреть на них через год»… Когда их уводили, Робер на минуту очутился рядом с Анной. Она приподняла скованные руки.
– Прощай, Робер! Я не могу тебя обнять…
– Слушай, Анна… Я тебе хочу сказать, как француз, как коммунист, – хорошо, что ты с нами. И Соваж. И русские в Сталинграде. Прощай, Анна!
Она слышала эти слова в темной камере, слышала и потом, когда за нею пришли. Эти слова осветили ее последние минуты. Она думала: говорили «интернационал», но и это нужно почувствовать на себе… От Волги и до меня… Отец любил рассказывать о библейском рае; зеленый, густой сад. Но тот потерян, а этот я нашла…
Она отказалась от повязки; ей все же завязали глаза – офицеру показалось, что она смотрит на него с вызовом. А она смотрела на размытую дождем площадку, на высокое костистое дерево, на найденный рай.
13
Христина Штаубе до войны вышивала на дому для магазина художественных изделий и ухаживала за отцом, отставным чиновником, которого разбил паралич. Ей было тридцать шесть лет, и она больше не помышляла о замужестве, хотя нельзя было назвать ее уродливой. Лет десять назад за нею ухаживал бухгалтер Циммер, водил в кино, в кондитерские. Отец, узнав, кто претендент, стал кричать, что Христина забывает о своем долге, девушка должна все взвесить, прежде чем сделать роковой шаг, он не может ей помешать – болен и стар, но он не даст за ней ни пфеннига. Христина пришла на свидание заплаканная, сказала: «Густав, я готова на все. Хоть сейчас… Но папа против. Дом записан на его имя. Я прилично зарабатываю, а помимо этого у меня ничего нет…» Густав ответил: «Я не материалист, я тебя люблю и без приданого…» Потом он заторопился: у него сверхурочная работа. Больше Христина его не видала. Ее сердце черствело, как надрезанный и нетронутый хлеб. Порой она плакала – когда папочка умрет, я останусь одна; порой ею овладевали смутные мечты – умрет, продам дом и выйду замуж, даже сорокалетние находят женихов…
Отец в конце концов умер; но случилось это в марте сорок второго: дом нельзя было продать – после налета английской авиации привокзальный квартал опустел; мечтать о замужестве не приходилось – даже двадцатилетние красотки остались без кавалеров; никто больше не покупал пеньюаров с цаплями или скатерток с ирисами. Христина стала смотрительницей барака в лагере, где содержались женщины, вывезенные из России. Господин Кирхгоф ей объяснил: «Это не преступницы, мы их держим взаперти только потому, что обычаи русских не похожи на наши. Будьте строги, но справедливы, помните, что русские это дети…»
Христина не была по природе злой, и, ударив впервые по щеке голубоглазую Варю, она испугалась: может быть, это дурно? Подумав, она успокоилась: господин Кирхгоф сказал, что русские – дети, а детей необходимо наказывать; когда я таскала за хвост котенка или что-нибудь ломала, папочка не жалел шлепков… Христина не замечала, что чаще всего она наказывает молодых и привлекательных девушек. Лагерный врач Фуснер сказал о шестнадцатилетней Шурочке: «Прямо с картины Мурильо»… Христина обыскала Шурочку и нашла два куска мыла. «Откуда?» Шурочка молчала. Христина обвинила ее в воровстве и отхлестала по щекам. Дети!.. Христине казалось, что она полюбила своих русских, они не такие страшные, как пишут в газетах, и потом, боже мой, до чего они сладко поют!..
Голодные, измученные девушки, чтоб отвести душу, иногда по вечерам пели; была в тех песнях тоска по родной хате, по маме, по любимому человеку. Христина знала, что стоит ей войти в барак, и песня оборвется. Как вор, крадучись, она забиралась под окно и слушала. Она видела себя в темной, затхлой комнате – лекарства, выцветшие фотографии тетушек, больной старик в кресле, а где-то далеко среди жасмина красавец Густав обнимает другую… Христина бурно вздыхала: боже мой, как я несчастна!..
Лучше всех пела Галочка. Когда-то друзья из «Пиквикского клуба» говорили: «Ну, хохотуша, спой»… Тогда ей было весело, а пела она про несчастную любовь. Здесь она предпочитала задорные песни. Христина возмущалась: почему эта девчонка радуется?.. У нее приятный голос, а репертуар пошлый, нет ничего возвышенного. И все же Христина слушала, она даже притопывала, как будто сейчас пойдет танцовать «шимми» с Густавом.
Галочке не удалось в Киеве разыскать своих комсомольцев. Она надеялась – потеплеет и придут наши. Но настало страшное лето: немцы дошли до Волги. Стешенко, встретив на улице Галочку, насмешливо прищурился: «Все еще гуляете? Скоро Валю увидим – больше трех месяцев красные не протянут…» Город онемел; рыскали гестаповцы, полицейские; человека, сказавшего неосторожное слово, уводили, и он исчезал навеки. Повсюду пестрели афиши, зазывающие молодых в Германию – там удобные квартиры, много еды, красивая одежда. Весной немцам удалось заманить несколько сотен. Ксана, с которой Галочка была в десятилетке, записалась: «Хочу поглядеть заграницу». Галочка отговаривала: «Какая заграница? Это, как на каторгу… А если тебя заставят делать оружие? Твой брат в армии, значит, ты его убьешь?..» – «Мудришь, – ответила Ксана, – а за границу я все-таки поеду, приоденусь…» Когда немцы увидели, что охотников мало, они начали забирать насильно. Попалась и Галочка.
Унтер-офицер, говоривший немного по-русски, поглядел на плачущих женщин и сказал: «Немец добрый. Немец не убьет». Галочка неожиданно рассмеялась, скороговоркой спросила: «Бабушка, почему у тебя зубы длинные?» Унтер-офицер не понял, но смех ему не понравился, он выругался и отошел от вагона. Девушки, стоявшие вокруг Галочки, засмеялись: Галочка их заразила своим весельем. Они не догадывались, что это веселье напускное. А Галочка твердо знала: теперь нужно быть веселой – нашим легче, да и немцев это бесит… Так воскресла «хохотуша».
Рано утром их вели через город на завод. Город был небольшой и чистый. Блестели медные тарелки над парикмахерскими. Сверкали в витринах фаянсовые умывальники и кухонная утварь. Детишки были аккуратно одеты, не бегали, а степенно шли в школу. У входа в колбасную или в мясную чинно сидели, привязанные к особым крюкам, черные и коричневые таксы – поджидали хозяек. На базаре продавали цветы – последние астры осени. Галочка вспоминала развалины Крещатика, дядю Лёню, повешенных. Теперь она видит детские коляски, косички с бантиками, магазины игрушек, газоны… Как странно, что у таких есть жены, дети, что жена гестаповца ходит на базар, выбирает груши или яблоки, вытирает нос своему младенцу… Уж лучше бы кусались!..
Галочка в школе учила немецкий; она быстро начала понимать и наставления Христины, и окрики мастеров на заводе, и разговоры горожан, когда девушки возвращались с работы: «Какие они оборванные!.. Карл пишет, что русские хуже негров… Курносые… Сильные, хорошо, что в лагере… Я никогда не пустила бы такую к себе… А у фрау Иенике русская, и она очень довольна…» Тогда Галочка со смехом говорила Варе: «Погляди на ту – нос, рот, подбородок, все вкривь, как их буквы…» И Варя тоже смеялась.
Их кормили супом с брюквой; всегда мучил голод. Работа была тяжелая: таскали железные бруски, мешки с цементом, чистили печи. Христина, желая хорошо воспитать доверенных ей детей, каждый день кого-нибудь наказывала – оставляла без еды, посылала в наряд – после работы нужно было рыть щели, била. Только Галочку она не трогала; может быть, из любви к ее голосу – «это мой соловей», говорила она доктору Фуснеру; а может быть, боялась – когда она наказывала других, Галочка глядела на нее такими злыми глазами, что Христина думала: этот соловей может глаза выклевать…
Христина давала женщинам газету, которую немцы издавали на русском языке. Читая ее, нельзя было ничего понять: как будто немцы повсюду победили, а война не кончается… Были среди девушек крепкие, как Галочка, которые не верили ни одному слову, считали, что зимой немцев побьют, а они вернутся на родину; были и слабые – глядя на спокойную жизнь далекого от фронта города, на витрины с товарами, на сытых, ухмыляющихся немок, такие говорили: «нет, наши с ними не справятся!..» Тогда Галочка начинала фантазировать: их побили возле Ростова, союзники во Франции, говорят, что Гитлера убили… Галочка понимала: нельзя дать волю тоске.
На заводе вместе с ними работали французы – военнопленные. Сначала девушки держались особняком: неизвестно, что думают эти французы, может быть, тоже задаются, да и не поговоришь – языка нет… Французы приветливо улыбались, говорили по-немецки, что они «товарищи» (это все поняли), давали девушкам хлеб, сыр, шоколад – получали посылки от родных.
Галочка подружилась с молодым, веселым французом. Он рассказал ей, что он сын врача, студент, изучал физику. Они разговаривали на необычайном языке, в него входили немецкие, русские и французские слова; разговаривали урывками; и все же узнали много друг про друга. Галочка видела Париж, как будто она там была, – большая площадь, улицы расходятся лучами, на улицах столы – можно пить кофе, каштаны, как в Киеве; Пьер только что сдал экзамены, он идет с товарищами посредине улицы, поют, кричат – это очень весело, называется «моном»… А Пьер знал, что Киев зеленый и горбатый, когда смотришь с Владимирской горки на Днепр, «можно умереть – такая красота»; Галочка часто ходила в оперу, она любит «Пиковую даму» и «Кармен»… Галочка обрадовалась, когда выяснилось, что Пьер читал «Записки Пиквикского клуба». Вот только не могла объяснить, что ее звали хохотушей… Зато рассказала про Валю, про Раю, про Борю. «У нас много партизан, даже в Киеве убивали фрицев». Пьер говорил, что во Франции тоже партизаны и они хорошо сражаются, прежде было много изменников, Париж сдали, линию Мажино сдали – он попал в плен вместе со всеми, Он спрашивал про Красную Армию, и Галочка с гордостью отвечала: «Армия замечательная! Немцы не взяли ни Москвы, ни Ленинграда, скоро освободят Киев…» Она повторяла старые слова листовки, хотя после этого было горькое лето, – когда она глядела на Пьера, все в мире менялось, и она верила, что русские наступают… Пьер помогал ей, как мог, тихонько передавал хлеб, колбасу, конфеты. Он так глядел на нее, что ей становилось весело – по-настоящему, не для вида, и тогда она не смеялась, она делалась очень серьезной, краснела, отворачивалась. Бывает, на заводском дворе среди мусора, шлака зазеленеет травинка. Такой была их любовь в темную осень сорок второго. Ни разу они не заговорили о своем чувстве, но о чем бы они ни разговаривали, был в коротких простых словах иной, только им понятный смысл.
Однажды Пьер сказал Галочке:
– Роже работает у немца, он слушал радио, когда все ушли, поймал Лондон. У немцев большие неудачи – не могут взять ваш город…
– Какой?
– Сталинград.
Вечером Галочка рассказала девушкам:
– Немцам плохо. Сталинград они не взяли…
– В газете было, что взяли, – возразила Маруся. Она свято верила всему печатному, не хотела понять, что газету издают немцы. Спросила Галочку: – Откуда ты это взяла?..
– Французы сказали.
Маруся усмехнулась:
– Мало ли что болтают! Особенно французы… Они хорошие, только несерьезные, я ни слову не верю, когда они говорят… В газете было, что Сталинград давно взяли – еще в августе…
В это время вошла Христина. Галочка подошла к ней и вежливо сказала:
– Хочу поздравить, что вы взяли Сталинград…
Галочка улыбалась. Христина вышла из себя, с размаху ударила Галочку, еще, еще… Трудно было представить, что рука, вышивавшая бабочек на шелку, может быть такой тяжелой. Галочка упала. А Христина, позабыв, зачем она пришла, выбежала из барака.
Христина быстро разделась, легла, но не могла уснуть – перед ее глазами стояла улыбающаяся Галочка. Какое нахальство! Я еще ей мало дала… Подумать, что кончится война, такая дрянь выйдет замуж! Что в ней хорошего? Только что поет, но и песни у нее грубые… А меня никто не возьмет, даже если удастся продать дом. Да и не кончится никогда эта война, взяли всю Европу и не кончается; призвали Отто, а ему сорок девять… Вот уже третий месяц, как в газетах одно: «Сталинград». Почему его не могут взять? Эта распущенная девчонка смеется… Отто рассказывал, что Кельн совершенно разрушен. Могут снова прилететь сюда, сожгут дом… Счастья не будет. Христина громко заплакала. Рядом жила смотрительница другого барака, Эмма, к ней приехал муж. Стенки были тонкие. Пока из комнаты Эммы доносились шопот, стоны, вскрики, Христина могла спокойно плакать. Но потом соседи затихли, а она все еще всхлипывала. Раздался стук. Это муж Эммы сердится, что я не даю спать, он прав – три года воюет, приехал к жене… А ко мне никто не приедет… Христине хотелось заплакать еще громче, но она сразу притихла.
Вокруг Галочки толпились перепуганные девушки.
– Как тебе? – спросила Варя.
– Ничего. Немного болит… Ты не смотри, что худущая, кулак у нее железный…
Вдруг Галочка засмеялась:
– Маруся, теперь ты видишь, что Сталинграда они не взяли. Оттого она и взбесилась… Видимо, им там здорово досталось…
Ей снилась победа. Все тихо, тихо; поют птицы; утро. Она в большом городе, на домах красные флаги. Только это не Киев… Может быть, Москва?.. Площадь, как звезда… Идут красноармейцы. Вот Боря, он офицер, много орденов… А рядом с Галочкой Пьер. Он улыбается, хочет сказать «Галочка», но не выходит, говорит «Гальошка», и ей смешно, так смешно… Проснувшись, Варя увидела: Галочка крепко спит, лицо распухло, а улыбается. И Варя вздохнула: хоть бы мне что-нибудь приснилось!..








