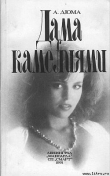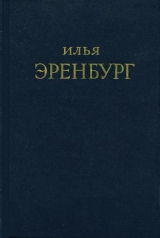
Текст книги "Буря"
Автор книги: Илья Эренбург
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 63 страниц)
10
Келлер злобно глядел на хорошо знакомую ему картину: полосы дождя, рыжая, жирная грязь, печи сгоревших домов, искалеченные деревья, а вдали эта поганая речонка. Лейтенант Краузе вчера сказал: «Перешли через Днепр и топчемся перед какой-то лужей…» На этот раз Краузе прав, но он плохой начальник – грубоват, несправедлив, раздает «железные кресты» своим любимчикам, а только увидит мало-мальски интеллигентного человека, сейчас же придирается.
Какой злой дух придумал эту страну? Здесь и жить нельзя… С тоской Келлер припоминал берега родного Неккера, чистые домики, сады, клумбы, беседки, обвитые плющом или виноградом. А Франция… Только теперь он понял, как был счастлив во Франции. Можно, разумеется, высмеивать французов – они измельчали, не двигаются вперед, но это все-таки культурные люди. Во Франции нет того комфорта, к которому привыкли немцы, но у французов свои достоинства, они остроумны, элегантны, приятны в общении. А главное – они хорошо нас принимают. Мими, наверно, наврала, синяки у нее были от другого… За все время меня только раз плохо встретили. Но ведь Дюма – узкий специалист, ему пошел седьмой десяток, он не может понять, что на свете все переменилось. Хорошо, что я не сообщил о нем в гестапо – немец должен быть великодушен. Притом, есть профессиональная солидарность… Зачем об этом вспоминать? Как приятно было в Дижоне! А Мими… Сколько он дал бы за одну ночь с Мими! С весны он живет как монах… Хорошо бы получить отпуск и съездить к Герте. Конечно, сейчас об этом нечего мечтать, нужно взять Москву. И вот какая-то жалкая речка…
Фюрер сказал, что главные силы красных уничтожены; он знает, что говорит. Мы ведь видим только то, что у нас под носом. Одно непонятно: чем мы дальше идем, тем труднее. Во Франции было наоборот, товарищи рассказывали, что вначале французы пробовали сопротивляться, даже контратаковали. А нашему полку и воевать не пришлось… Откуда у красных столько солдат? Краузе говорит, что у них нет автоматов. От этого не легче – строчат пулеметами… Какие-то одержимые! Ведь они понимают, что их карта бита. Зачем же сопротивляться? Отсюда рукой подать до Москвы. Ясно, что мы там будем. Они устраивают страшную бойню, только чтобы получить месяц отсрочки. Когда французы увидели, что все козыри у нас, они сдали партию, это естественно, так поступает каждый культурный игрок. Но русские действительно дикари, достаточно поглядеть на их дороги…
В первые дни русской кампании Келлер старался утихомирить товарищей, которые стреляли в окна, ломали двери, выволакивали девушек. «Мы должны им показать, что такое немецкое великодушие». Он даже раздавал детворе леденцы. Вспоминая об этом, он усмехался. Герта права: у меня неизлечимая наивность. Стоит старухе заплакать или какой-нибудь девчонке улыбнуться, как я готов сделать очередную глупость… Вчера убили Курта Крамма. Это был студент-филолог. Из него мог бы выйти мировой ученый. А его застрелил азиат, который даже не знает, что такое университет. Леденцы… Нет, здесь нужен кнут. Обуздать их, чтобы они не опомнились… Может быть, через пятьдесят лет с ними можно будет разговаривать по-человечески, не раньше.
Год тому назад Келлер жил безмятежно в Дижоне; ему казалось, что он бывалый солдат – ведь ему привелось участвовать в перестрелке. А теперь он действительно фронтовик. Курт умер у него на руках. Не один Курт – возле этой проклятой речки они потеряли треть роты. Вчера Келлер нашел на себе вошь; ему стало противно, а потом он подумал: вот она, настоящая война, – с кровью, с дермом, с ужасом! Здесь не до Мими… Может быть, товарищи были правы, когда насиловали русских девушек. Не цветы же им подносить… У войны свои законы: хочется иногда отвести душу, сжечь, снести, задушить. Герта меня не узнала бы – одичал…
В роте были разные люди – и крестьяне, которые говорили о моргенах, об удобрении, об удойности коров, и учитель музыки, и коммерсант из Галле, и студенты. Келлеру пришелся по душе унтер-офицер Вилли Вебер, юноша с нежным, почти девическим лицом и с жесткими глазами видавшего виды солдата. Вебера можно было бы назвать красавцем, не будь кадыка, который набухал, когда Вилли волновался. В роте Вебера считали смельчаком. До войны он учился в Иене и приятно удивлял Келлера своею начитанностью, цитировал Шопенгауэра, Шатобриана, Достоевского, приводил наизусть целые страницы из Ницше, при этом не был сухим книжником – любил выпить, побалагурить, на отдыхе лучше всех устраивался – Келлер знал, пойти с Вебером, будет и курочка, и сливки, и мягкая кровать. Глядя на Вилли, Келлер думал: профессору Дюма нас не понять, вот она, новая раса – солдат с книгой, мудрец с ружьем!
– Я мечтаю о времени, когда война кончится, – признался Келлер своему юному другу. – Конечно, чтобы построить новую Европу, нужно многое разрушить. Но настанет день победы… Мы вернемся к нашим книгам, к нашим семьям…
Вебер усмехнулся:
– В вас сильны пережитки девятнадцатого века. Кто-то назвал его «глупым веком» и правильно. Свобода для неучей, культ терпимости и заодно домов терпимости, мечты о скромном достатке, овечки пацифизма, словом, вздор, гниль. Мы родились для другого, этот век будет немецким. Послушайте, Иоганн, без трагизма нет ни биографии, ни истории народа. Когда голландцы умели воевать, у них был Рембрандт. А что у них теперь? Сыр?.. Мой отец был прежде управляющим, это большое поместье, почти на границе Богемии. Там был пруд с карпами. Помню – приехал из Дрездена ихтиолог и сказал: пустите в пруд несколько щук, тогда карпы станут крупнее. От отсутствия опасности люди мельчают. Французы не хотели воевать – зажирели. Если угодно, мы их облагодетельствовали, сняли жирок, может быть эти каплуны вспомнят, что были когда-то галльскими петухами. Вы думаете, русские хотят воевать? Их принуждают. Здесь нет ни одной индивидуальности, они – как это поле, дохнешь с тоски, понятно, что мы их бьем. Война для нас не катастрофа, а высшее проявление человеческого духа.
Келлер не стал спорить. Правда, он сохранил свою скромную мечту – домик, Герта, кофе со сливками, книги; но в душе он понимал, что Вебер прав, этот мальчишка выразил сущность эпохи.
Им дали денек отдыха: в полк пришло пополнение. Мутная мокрая деревушка. Перепуганные лица старух.
Солдаты сушили шинели, жарили картошку; пели с детства знакомые песни. Было тепло, уютно. Вебер где-то раздобыл бутыль русской водки; пили мелкими глотками, чтобы растянуть наслаждение. Келлер сидя задремал. Перед ним маячила Мими. Ну и чертовка, такие могут быть только во Франции!..
Вдруг зазвенело стекло: кто-то запустил в окно камнем. Все вскочили, схватились за автоматы. Проклятая страна, приходится все время быть начеку! Вебер выбежал – в темноту, под дождь. Несколько минут спустя он приволок белобрысого мальчика. Тот истошно кричал. Коротко острижен, торчат уши, руки в занозах – таких много и в Гейдельберге, только там они чище…
Никто не понимал, что говорит мальчик, а он говорил не замолкая. У Вебера глаза стали еще жестче; на шее обозначился кадык. Он крепко держал мальчика и вдруг – никто этого не ожидал – с размаху ударил его головой о печь.
Келлер отвернулся. Все-таки это отвратительно! Воевать с детьми… Потом он вспомнил, как умирал Курт. А ведь камень пролетел прямо над головой Вилли… Дикари! Нельзя к ним подходить с нашими нормами. Он попросил у Вебера еще водки, выпил и сразу уснул.
Когда он проснулся, мальчика в избе не было; товарищи брились, чистили обувь, варили кофе; Вилли читал «Мысли» Марка Аврелия.
И вот снова поле, культяпки деревьев, грязь. Краузе сказал: «Если мы не форсируем эту дурацкую речку, мы станем посмешищем. Из-за нас другие не двигаются…» Вебер ответил: «Прежде это зависело не от нас, а теперь полк получил пополнение. Я уверен, что завтра мы будем на том берегу».
11
Немцев еще раз отшвырнули назад. Санитарка Варя, сокрушенно вздыхая, перевязывала руку Осипу: осколок мины попал чуть выше локтя. Осип морщился, но пробовал улыбаться.
– Боюсь, кость задета, – говорила Варя. – Необходимо вас в санбат отправить.
– Не задета… Да и левая, это неважно. А уходить нельзя, представление только начинается. Одного живьем взяли. Нахал – в речку полез… Вы не уходите – сейчас его приведут. Хорошо, что переводчик у нас застрял…
Впервые они увидят живого немца, что занимало всех. Только переводчик Зельдович, в прошлом студент пединститута, хмурился. Его прислали неделю тому назад, чтобы допросить пленных; но пленных не оказалось, а добраться до КП полка было невозможно. Зельдович забыл о своих обязанностях переводчика, сидел с винтовкой и артистически ругался, конечно, по-русски. Теперь он волновался куда больше, чем под бомбежкой. Он изучал немецкую поэзию, а в штабе дивизии его сразу ошарашили: «Как по-немецки рокадная дорога? Огневой налет? Взаимодействие?» Ясно, что таких слов он не встречал ни у Шиллера, ни у Гейне.
Вилли Вебер выглядел довольно жалко – мокрый, на лице огромный синяк (когда его схватили, он пытался вырваться). Он оглядел всех исподлобья; глаза его сохраняли жесткость, даже надменность, но в поспешности, с которой он поворачивался то к одному, то к другому, в том, как он прислушивался к непонятной речи, было что-то лихорадочное.
Осип сказал Зельдовичу:
– Спроси – какой части?
Вместо ответа Вебер выкрикнул:
– Красная Армия разбита. Ваши генералы сдаются. Я предлагаю вам сдаться. От имени фюрера… Мы никого не тронем.
Зельдович растерялся: не поверят, скажут – не знаешь языка…
– Товарищ комиссар, пленный говорит чорт знает что.
– А ты переводи.
Зельдович перевел – слово в слово. Осип строго поглядел на Вебера:
– Если он намерен оскорблять честь Красной Армии, ему недолго осталось жить.
Эти слова понравились Зельдовичу, он сказал Веберу: «Вам недолго осталось жить».
Вебер закрыл глаза. На его длинной шее зашевелился кадык. Лицо покрылось испариной. Он что-то хотел сказать, но из горла выходили только глухие скрипы. Потом он приоткрыл глаза, в ужасе поглядел на Осипа и закричал:
– Не нужно меня расстреливать! Я военнообязанный! Я выполнил приказ. Я студент. У меня мать в Иене…
Осип брезгливо поморщился.
– Скажи – никто его не собирается расстреливать. Должен вести себя прилично, здесь ему не «фюрер», а люди. Какого полка?
Вебер по-военному вытянулся; отвечал он обстоятельно – Зельдович не успевал переводить. Когда допрос кончился, к Осипу подошел Горюнцев:
– Товарищ комиссар, разрешите прикончить гада?
– Нельзя, это пленный. Не огорчайся, еще в бою с ними встретишься… А этого нужно отвести на КП. Унтер-офицер, да еще болтливый. Там его лучше допросят. Захвати переводчика и ползком… Вдвоем его и доставите. Только смотри – доставить живым. Понятно?
Добрались они до деревушки, где помещался КП полка. Зельдович пошел к себе. Адъютант сказал Горюнцеву, что майор занят, нужно подождать. Горюнцев сел на бревно, показал немцу: садись. И хотя Вебер не понимал по-русски, Горюнцев ему доказывал:
– Гад ты, настоящий гад! Чего вы к нам полезли? Ух, красномордый!.. Что, тебе дома было плохо? Паразит! Пришли, хаты жгут, людей терзают. Я тебя не трону, не бойся… Комиссар у нас понимающий. Только одно я тебе скажу – распоследняя ты сволочь!..
Горюнцев вытащил газету, кисет с махоркой, закурил. Потом дал кисет Веберу.
– Кури, паразит. Я бы вас всех перебил… А если тебе жить, значит и курить нужно. Хоть паразит, а хочется… Кури, тебе говорят.
Вебер закашлялся от непривычки едкого дыма, но сразу повеселел: он понял, что будет жить, и, ни о чем не думая, улыбался подаренной жизни.
А Осип сел писать Клаве. Он долго сидел над чистым листом, наконец написал:
«Дорогой товарищ и друг Клава! Иван Алексеевич много мне говорил о вас, я знаю, какое у вас сердце. Соберитесь с силами, Клава…»
Он отложил перо – что-то не выходит. Это ведь только писатели умеют… Может быть, Зарубина попросить?..
Прибежал Петрицкий:
– Есть связь. Вызывает майор Крапивцев… А немцы снова лезут, вон какой фейерверк…
Осип схватил трубку.
– Я самый. Переводчик, наверно, рассказал… Главное – боеприпасы. Про немцев спрашиваете? Сейчас снова полезли. Не слышу… Мы?.. Мы ничего, ждем…
12
В бомбоубежище было душно. Тусклая лампочка едва освещала большой подвал с проходами, закоулками, набитый людьми. Одни спали, другие томились, судорожно позевывали, прислушивались к грохоту разрывов. Какая-то бабка страстно обнимала огромный узел. Беременная женщина плакала навзрыд. Нина Георгиевна ее успокаивала:
– Вы не бойтесь. Это не бомбы, это наши зенитки…
Кто-то свистнул:
– Ну и близко!
Женщина еще сильнее заплакала. Нина Георгиевна не сдавалась:
– Я вас уверяю, что это зенитки. Не нужно волноваться, сейчас будет отбой.
Она обняла женщину, и та притихла.
В такие минуты Нина Георгиевна чувствовала большое душевное спокойствие. Незадолго перед войной Ольга, смеясь, сказала Сергею: «Мама – как лермонтовский парус – ищет бури…» Жизнь Нины Георгиевны, за исключением ранней молодости, сложилась не так, как ей хотелось. В годы гражданской войны она была прикована к больному мужу, который, лежа в морозной комнате, писал о британском империализме. Нине Георгиевне казалось тогда, что жизнь проходит стороной. Потом было горе, красный катафалк, речи, мелочи, которые ежедневно напоминали о потере, – изгрызенный мундштук, газетные вырезки, старые письма. Ниной Георгиевной овладели заботы о детях – то ботинки Оле, то снарядить Васю в пионерлагерь, то у Сережи продрались локти… Правда, была работа – школа, институт, партийные собрания, доклады о пятилетках, рассказы Сережи, но этого ей было мало – хотелось отдать все. И вот теперь она забыла тоску одиноких вечеров, вечные сомнения (нужна ли я кому-нибудь, старая, больная?), она жила жизнью Москвы. Она приходила в райком, как солдат на командный пункт: ждала приказа. Где бы она ни была – в убежище, на вокзале, в госпитале, повсюду она поддерживала людей, заражала их своею уверенностью.
Иногда среди ночи ей хотелось, чтобы кто-нибудь поддержал ее: от Васи не было известий с начала войны. Много раз Нина Георгиевна заставила Наташу повторить рассказ, как она рассталась с Васей в Минске. Говорят, что в лесах большие отряды… А может быть, убили?.. Теперь уехал и Сережа, редко пишет, уверяет, будто он в тылу, успокаивает… Нина Георгиевна пыталась себя образумить: почта плохо работает, везут раненых, снаряды, беженцев – не до писем. Пропадают, наверно… А Вася никогда не любил писать. Полегчает, напишет… Сережа писал в сентябре… Но всех она могла успокоить, только не себя. Ей снились страшные сны. Тонул корабль, и на борту был Вася. Сережа лежал убитый на площади какого-то чужого города. Она просыпалась в ужасе, пила воду, потом стыдила себя: распустилась, нервы… В Минске – море!.. Сережа еще в тылу – они формируются… И все-таки сердце ныло. А потом она шла к другим и забывала о своей боли.
Прежде она часто видалась с невестками. «Кто тебе больше нравится – Валя или Наташа?» – спросила как-то Ольга. Нина Георгиевна не смогла ответить. По-разному она их любила. С Валей она могла говорить об искусстве, о книгах, о мечтах. Нина Георгиевна понимала выбор Сережи: Валя тонкая, нежная, такую редко встретишь. А Наташа для нее была ребенком, она с нею нянчилась, как нянчилась прежде с Олей. Наташу это немного обижало, но она думала: старухе приятно, пусть. Первой уехала Валя – еще в августе. Наташа записалась на курсы, хотела стать санитаркой. Ее отослали в Рязань. Нина Георгиевна дала ей на дорогу шоколад, печенье, вздыхала: «Слишком ты маленькая…»
Осталась Ольга. Но, как всегда, была между ними стена непонимания. Ольга говорила о карточках, о запасах, рассказывала, что кто-то поздравил Лабазова: «прекрасная передовица…» Может быть, она говорила это, чтобы отвлечь мать от грустных мыслей; но Нина Георгиевна хмурилась: о чем Оля думает!
Нина Георгиевна не узнавала Москвы; тревога была не только на лицах – на камнях. Много зданий закамуфлировали: они покрылись зловещей сыпью; на глухих стенах зазеленели ядовитые деревья; от их вида сжималось сердце. На площадях выросли сказочные, пряничные терема. Пестрой вуалью прикрыла лицо Москва-река. Особенно остро Нина Георгиевна почувствовала трагичность этого маскарада, когда какой-то малыш весело защебетал: «Мама, на домике елка, дед-мороз придет», – и мать в ответ заплакала.
На улицах было людно, беспокойно. Женщины тащили узлы, тюки, чемоданы. Возле вокзалов не унималась толчея. Под вечер в серое низкое небо медленно подымались аэростаты, похожие на китов; у входа в метро толпились люди. Ночи были черными и шумными: сирены, зенитки, бомбы. После нескольких теплых дней наступила ранняя зима. Ползли тревожные слухи об Орле, о Вязьме, о Мценске. Москва давно забыла спокойствие мира и еще не нашла другого, солдатского спокойствия. Повсюду говорили об эвакуации. Опустели многие дома. Уехали и соседи Нины Георгиевны.
Пришла Ольга:
– Можешь поздравить, нас эвакуируют.
Она была необычайно взволнована. Нина Георгиевна стала ее успокаивать.
– Хорошо делают, такая газета сейчас нужнее в глубоком тылу. А ты не огорчайся, Оля, Москвы они не возьмут, я в этом убеждена.
– Я тоже так считаю. Немцы передавали по радио, что двадцатого будут на Красной площади, но это типичное бахвальство. От Сережи ничего нет?
– Нет.
– Мама, а ты все-таки решила остаться? По-моему, это ребячество…
– Пока не скажут… Здесь теперь много работы.
– Я думаю, что и тебя отошлют. Знаешь, в твоем возрасте… Но тебе хорошо – вещей мало. Я прямо не знаю, что делать, жутко много вещей, взять нельзя, а оставить обидно – растащат.
И снова Нина Георгиевна почувствовала отчуждение, почти неприязнь. В такое время Оля думает о барахле!
Ольга обиделась: мама считает, что я переживаю меньше, чем она. Глупо! Как будто я не советская. А вещи бросать обидно.
Они расстались холодно, как чужие.
Два дня спустя Нине Георгиевне сказали: «Нужно эвакуировать группу детей – родители здесь останутся. Вы-то справитесь…»
В последний раз пошла Нина Георгиевна по московским улицам, она шла медленно под мокрым снегом и грустно улыбалась. Вот в этом доме она жила, когда ее арестовали. Пришел околоточный, стучал сапогами, долго рассматривал фотографию – гимназическая группа, сказал «приобщим»… Все последнее время ей вспоминались далекие годы. Она ясно видела товарищей по подполью, явки, гектограф, прокламации, тюремную камеру, рыжего ротмистра, который ее допрашивал, корчму в польском местечке, тюки с газетами… Как будто это было вчера! А все последующее застилалось туманом. Может быть, объяснялось это возрастом – старея, люди отчетливее припоминают детство и первую молодость, нежели годы зрелости. А может быть, драматизм разворачивающихся событий всколыхнул душу Нины Георгиевны, и ожила в ней мятежная девушка давних лет.
Она вспомнила сейчас, как ее принимали в большевистскую организацию. Товарищ Егор недоверчиво посмотрел (ей показалось, что он видит насквозь): «Не струсите?..» Она ответила: «Нет». В Бутырках было грустно; услышав далекое позвякивание трамвая, она вздыхала: как хорошо на воле! Там и голуби что-то празднуют… Теперь даже к Бутыркам она чувствовала нежность. Горько уезжать… Но товарищи знают… Каждый должен быть на своем месте.
И вот полутемный вокзал. Бомбежка. Длинные эшелоны. Ничего не видать… Она выкрикивала имена детей: вдруг потеряю?.. Почему отправляют ночью? Наверно, из-за авиации… Двадцать шесть. Старшей, Вере – четырнадцать, младшему, Васе – восемь. Все в сборе. Рядом с ней Вася.
Что с Васей? За четыре месяца ни разу не написал. Теперь и ждать нечего. Куда он напишет? Наташа тоже уехала… Только не нужно думать – горе у всех…
Рассвело. Поезд стоял на узловой станции. Нина Георгиевна вышла – покурить. Она увидала десятки эшелонов. Платформы с машинами; и машины стали беженками… В теплушках семьи, чайники, пеленки – из Курска, из Орла, из Калинина… Две недели едут… Огромный улей разворочен – куда-то уходят за городом город, заводы, школы. Здесь и крестьянские сундуки, и картины, скот, архивы, непонятные сложные приборы. Грузили под бомбами, под огнем… И валит снег… Нине Георгиевне стало страшно: как ни велика была уверенность, что-то в ней дрогнуло. Ее окликнул машинист:
– Товарищ, папиросы у вас не найдется?
Он жадно затянулся.
– Теперь полегчало. Шестьдесят часов не спал – вон какой состав…
Глаза у него были красные от усталости, но спокойные. Пожилой, мой ровесник… И Нина Георгиевна устыдилась минутной слабости: с такими людьми разве можно погибнуть?
Она быстро подружилась с ребятами, знала историю каждого. У Васи отец танкист, мама работает на Центральном. Отец Олега летчик, мать санитарка. Вася рассказывал: «Папа говорил „я буду утюжить“, а мама говорила „я не понимаю“…» А Варя сказала: «Папа на войне и писем не пишет…» Нина Георгиевна поспешно ответила: «Скоро напишет. Им теперь не до этого…»
На одной из станций, не разобравшись, вагон хотели отцепить.
– Нужно пропустить вагоны с ценностями.
Взволновавшись, Нина Георгиевна крикнула:
– А здесь дети! Или вы не знаете, что это золотой фонд?
Потом ей самой стало смешно: оратор!.. Но разве не правда? Рубили лес, прокладывали дороги, строили города. И не было у нас «золотой лихорадки». Другая лихорадка – человеческая… Вот эти вырастут, построят. И не только заводы… Конечно, нужно, чтобы были дома, обувь, машины. Но этого мало, человеку хочется изумления, музыки, счастья. Кто же может это создать? Только люди. Я не увижу, теперь ясно, придется отстраивать, чинить. А эти, может быть, увидят…
Ей стало грустно, что нет рядом Сережи, некому рассказать о самом главном. Дети спали. Темный дачный вагон был наполнен ровным дыханием. Нина Георгиевна вынула из саквояжа огарок, блокнот, начала писать. Она рассказывала Сергею о последних днях в Москве, о внезапном отъезде, писала, как волнуется, что неизвестно ничего про Васю. От Вали была открытка, она устроилась хорошо – комната теплая… Потом Нина Георгиевна отдалась своим мыслям: «Сереженька, я теперь часто думаю о смерти, ты не беспокойся, я здорова, но люди всегда об этом думали, пытались как-то разрешить, наука – борьбой с болезнями, еще столько-то лет подаренной жизни, христиане – иллюзией личного воскресения из мертвых, легенда прекрасная, но сколько в ней детской ограниченности – воскреснуть для вечности с памятью о пятидесяти прожитых годах, пантеисты соглашались раствориться в анонимном хаосе. Я гляжу на детишек, и мне кажется, что бессмертие действительно существует – в людях, неважно, это твои дети или чужие, оно в продлении мыслей, чувств, в их развитии, подъеме…»
Попрежнему спокойно дышали дети, спокойно стучали колеса. Нина Георгиевна вдруг скомкала исписанные листочки. Она погасила огарок; пробовала задремать, но сон не шел; тогда она открыла глаза и, глядя в темную муть оконца, стала терпеливо ждать позднего рассвета.