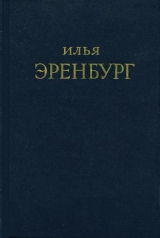
Текст книги "Буря"
Автор книги: Илья Эренбург
сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 63 страниц)
16
Нивель начал охладевать к немцам давно; он сам не отдавал себе отчета в том, насколько его рассуждения зависели от военных сводок. Уже год тому назад он записал в своем дневнике: «Нет ничего общего между духовной иерархией и произволом солдатни», – это было после разгрома немцев у Курска. Когда сдалась Италия, Нивель отметил: «Еще один шаг к развязке. Я сейчас думаю о том, что чистое дело требует чистых рук. Диктатура духа это не „новый порядок“».
Он хотел выйти из игры, говорил себе: я наделал много оплошностей, глупо было писать в газетах, я не политик, а поэт. Я защищаю идею. Как я могу отвечать за воплощение этой идеи немецкими интендантами или гестаповцами?
Были среди чиновников префектуры люди, связанные с голлистами, Нивель об этом догадывался; но напрасно он пытался войти в их доверие; как только он начинал критиковать действия оккупационных властей, собеседник замолкал или брал сторону немцев.
Весной Нивель встретил Лансье, предложил ему зайти в кафе. Лансье явно тяготился разговором. Нивель ругал немцев, а Лансье оглядывался по сторонам – боялся, что его увидят с Нивелем.
– Я очень рад, что среди промышленников замечается поворот в сторону национального начала, – говорил Нивель. – Мне передавали, что Пино…
Лансье неожиданно его прервал, с детским прямодушием спросил:
– А вы не боитесь прихода союзников?
Нивель возмутился:
– Я не понимаю, о чем вы говорите? Может быть, вам не нравится, что я служу в префектуре? Но у меня нет ни завода, ни «Корбей». А поэзия не кормит.
– Но вы…
– В сорок первом я приветствовал войну против большевизма. Это правда. Но это и тогда не означало, что я приветствую войну Рейха против западных держав. Я не журналист, я поэт и только поэт… Я не могу отвечать за политическое использование различными шарлатанами моих образов. Вы помните наш разговор три года назад о дневниках Андре Жида в «NRF»? Разве кто-нибудь посмеет его упрекнуть в том, что он восхищался мудростью Гитлера? Андре Жид теперь в Алжире, и голлисты им гордятся. Это естественно – музы пользуются правами экстерриториальности. Я не боюсь событий, я их ожидаю…
Лансье встал и, сказав, что у него болит печень, поспешно ушел. Нивель задумался: даже Лансье считает, что я связан с немцами… Я играл слишком малую роль, именно поэтому они жаждут со мной расправиться. Пино или другие промышленники выйдут из воды сухими. Им нужны стрелочники… Они предадут поэта…
Нивелю повезло. Его выручил старый знакомый, полковник фон Галленберг: дал разрешение на выезд в Швейцарию. Это было второго июня – за несколько дней до высадки союзников. Переехав границу, Нивель подумал: хоть один раз богиня разума спасла жреца безумия!..
Он очутился в маленькой деревушке над Женевским озером. Здесь он подыскал скромный пансион. Он отказывал себе во всем, даже бросил курить – французские франки, которые ему удалось вывезти, стоили здесь гроши. Через два-три месяца я окажусь на улице…
Женевский журналист Сэно, узнав о приезде Нивеля, решил, что за этим скрыт политический маневр. Нивель его дружески принял, но сразу сказал:
– Я поэт и только поэт. Я счастлив, что нахожусь в стране, которая всегда оказывала приют анахоретам и мечтателям. Я работаю сейчас над книгой стихов «Октаэдр моей души»…
Журналист спросил:
– Вы выступали в защиту «авторитарного режима», не правда ли?
– Никогда. Я выступал в защиту авторитетов. Вы не должны забывать о том трагическом положении, в котором очутилась моя страна после разгрома. Один из моих духовных наставников в то страшное время мужественно заявил: «Найти соглашение со вчерашним врагом это не трусость, а мудрость…» Я был обманут призывом защищать западную цивилизацию от большевизма. Я остался противником красных, но если вы будете писать о моей скромной персоне, не забудьте подчеркнуть – я прежде всего француз. Вы, наверно, знаете, что лицо судьи на порталах готических соборов всегда обращено к западу. У меня тоже есть судья – моя совесть, и она спокойно смотрит на зеленые воды Атлантики…
Нивель томился: мысли о каждом сантиме, скучные мещанские разговоры за табльдотом, жалкие журнальчики – у него взяли только два стихотворения… Он говорил себе: нужно продержаться два-три года. Столкновение между Западом и коммунизмом неизбежно. Внутренние дела Франции это только одна карта в игре, может быть некрупная… Конечно, все порядочные французы с восторгом встретят де Голля: он угадал будущих победителей. Петэн видит в нем достойного преемника. Но де Голль должен до поры до времени терпеть коммунистов, как союзники терпят Москву… Если бы у меня были деньги, я дождался бы своего часа. Но, кажется, поэту придется броситься со скалы в ущелье…
Во время меланхолической прогулки по берегу озера он случайно познакомился с американкой Мэри Лоу. Мэри провела два года в Париже, где ее застала война. Она не успела во-время уехать на родину – была больна, и нашла приют в роскошной гостинице на берегу Лемана. Дочь крупного плантатора, она выросла на дельте Миссисипи, среди хлопка, негров и патриархальной скуки. Отец ее рано овдовел и обожал свою единственную дочь, прощал ей все сумасбродства. Его огорчало, что Мэри не выходит замуж, он говорил себе: виноват я – плохо ее воспитал, но что я мог сделать в этакой глуши?.. Мэри уехала в Нью-Йорк, потом в Европу. В Париже она увлекалась сюрреалистами и ателье мод, читала Джойса, лечилась психоанализом, а замуж не вышла. Может быть, не нашлось охотников – красотой она не отличалась. Нивель, увидев ее, подумал: ну и уродка! У нее были рыжие волосы, высоко взбитые и похожие на колтун, большая челюсть. Она одевалась очень пестро, по-французски говорила бойко, но с таким акцентом, что Нивель не всегда ее понимал, употребляла очень грубые слова, не зная, что они означают.
Нивель был настолько одинок, что обрадовался этому знакомству; притом Мэри сразу сказала ему, что обожает французскую поэзию. Правда, он нашел, что у нее дурной вкус, но как хорошо, что можно говорить о стихах, а не об этой проклятой политике!..
Он прочитал ей несколько стихотворений из своей новой книги: он отходил от классицизма, искал в поэзии «ритма и воздуха». Она восхищенно восклицала: «О, это замечательно!»
Он посвятил ей поэму, которая начиналась стихами:
Желтая дельта. Белый хлопок.
Черное небо в звездной сыпи.
Слышишь ты сердца грозный ропот,
Рыжая роза Миссисипи?..
Когда он произнес слова «рыжая роза Миссисипи», она вскрикнула и положила его руку на свою грудь:
– Вы слышите, как оно бьется?..
Неделю спустя он переехал в чудесный номер гостиницы с большой ванной комнатой, похожей на танцовальный зал.
Он записал в своем дневнике:
«Начинается второй искус. Третьего не будет. Прошу мою любимицу Прозерпину, узнавшую муки подземного царства, дать мне силы».
Он старался себя утешить: привыкну, не так уж она уродлива, нужно только научить ее скромнее одеваться. Притом у нее доброе сердце…
Мэри оказалась женщиной с тяжелым характером: об этом мог бы рассказать ее отец. Она требовала любви, в тридцать девять лет она хотела наверстать потерянное. Нивель говорил: «Спокойной ночи, дорогая», она отвечала: «Я вовсе не хочут спать. Почитай мне стихи. Начни с того, что ты мне подарил…» Он глядел на ее жесткие огненные волосы и покорно повторял: «Рыжая роза Миссисипи…» Он понимал, что раньше чем через два-три года положение во Франции не прояснится. А Мэри сказала: «Как только кончится война, мы поедем в Америку. Мы навестим для приличия папу, а жить будем в Нью-Йорке – там настоящая художественная атмосфера…»
О парижских событиях Нивель узнал, раскрыв «Журналь де Женев». Он не мог скрыть своей радости: мне повезло!.. Все началось с префектуры… Если бы я был там, меня бы растерзали…
Мэри по-своему истолковала его радость, шептала:
– Я тебя поздравляю, дорогой!.. Поцелуй меня крепче…
Она заказала роскошный ужин с шампанским. От вина ее лицо покрылось красными пятнами, глаза потускнели. Она вдруг начала торопить Нивеля:
– Дорогой, пойдем в номер, я очень устала…
Когда они вошли в комнату, она начала поспешно его целовать, говорила:
– Ты должен написать поэму об освобождении Парижа, все вместе – партизаны, американцы, Монпарнас и наша любовь…
Он тоже опьянел, не слушал, что она щебечет, думал об одном: хорошо, что я сейчас не в Париже…
Она его теребила:
– Скажи скорее, кто я?
Он знал, что нужно ответить «рыжая роза Миссисипи». Но вдруг все в нем возмутилось – сколько можно терпеть такое издевательство?.. Он вскочил, натянул брюки, зажег свет и показал ей язык. Он думал, что она его ударит или заплачет – что-нибудь произойдет… Но она, улыбаясь, сказала:
– О, это замечательно! Так могут любить только французы…
17
Нина Георгиевна решила отметить два события: приезд Сережи и день рождения Васи. Правда, Васи не было, но Нина Георгиевна сказала Наташе и Ольге: «Отпразднуем его день рождения, с Сережей посидим – он ведь завтра уезжает». На столе стояла фотография Васи (недавно прислал, снялся в Вильнюсе) и рядом букет астр. Наташе казалось, что Вася сидит возле нее, несколько раз она мысленно с ним чокалась. Прошло уже больше месяца, как она получила от него первое письмо, но все еще не могла привыкнуть к своему счастью, при слове «Вася» каждый раз улыбалась. Нашелся, пишет почти каждый день!.. Вчера она снова получила длинное письмо – они идут в «логово», он мечтает о дне, когда увидит ее и сына; а потом в письме было столько ласковых слов, что, вспоминая их, Наташа краснела, ей даже стало страшно от мысли, что письмо читал военный цензор, еле себя успокоила: я его не знаю, никогда не увижу, да они и не обращают внимания, наверно, тысячи таких писем. Васька-маленький, который сразу разбил фужер к конфузу Наташи и при одобрительном смехе Сергея, достойно представлял отца-артиллериста, кричал «бум! бум!» – в тот вечер был салют, «большой», как говорила Ольга, – взяли Бухарест. Нина Георгиевна влюбленными глазами глядела на своего внука.
Эго был необычайный вечер: Ольга подумала – репетиция праздника победы, хотя не было ничего исключительного – собралась за столом семья, ужинали, ели пирог, мастерски приготовленный Ниной Георгиевной, нестройно рассказывали о пережитом, перебивали друг друга и неожиданно замолкали – слишком хорошо было на душе.
Как раз в то утро Ольга получила письмо от лейтенанта Синякова. Он где-то в Румынии, пишет, что все замечательно, скоро увидятся… Ольга познакомилась с ним в Куйбышеве зимой, когда после ранения он приехал к матери в отпуск. Это был высокий, застенчивый человек, до войны агроном. Хотя ему было под тридцать, Ольга заботилась о нем, как о ребенке. Они тогда же поженились. Нина Георгиевна просияла, увидев, что дочь, говоря о новом муже, краснеет: не так, как с Лабазовым… Она и Сереже сказала: «По-моему, у Оли на этот раз настоящее чувство, правда?..» Он рассеянно улыбнулся: «Ты говоришь – агроном, лейтенант? Ясно, что настоящее…»
Весь день Нина Георгиевна и Сережа провели вместе. Нина Георгиевна ждала его, как своего единственного друга, с ним сможет поговорить обо всем, что ее мучило три года. Она пронесла через войну юношеский жар сердца. Ольга, улыбаясь, говорила ей: «Ты наш комсорг». Сначала Нине Георгиевне показалось, что Сережа очень переменился; она испугалась – не отошел ли он от нее? Поразила ее в сыне сдержанность, а после какой-то горькой реплики она вся сжалась: может быть, он ожесточился?.. Потом она увидела, что Сережа все тот же – порывистый, горячий, как она говорила себе – «вдохновенный», только внешне он стал спокойнее, чувствуется – много пережил… В разговоре они переходили с одного на другое. Нина Георгиевна спрашивала про немцев («откровенно они с тобой разговаривали?»), потом начинала размышлять о смерти, потом бродила с Сережей по улицам восставшего Парижа, мечтала, как будет все после войны, рассказывала про свою работу, жаловалась на тупость какого-то Миглякова и восхищалась энергией Щеголевой, гадала, какие книги напишут об осенних ночах сорок первого. Сергей подумал: а ведь она мне ближе, чем многие сверстники, не чувствую, что другое поколение…
– Сережа, ты знаешь, куда тебя посылают? – спросила Ольга.
– На юг. Повезло – может быть, попаду на Балканы… Мне один пленный немец говорил, что когда они забирали страну за страной, одно ему отравляло удовольствие – входят в город, закрыты ставни, спущены шторы, люди от них шарахаются… А как нас встречают! Знаешь, мама, я прежде думал, что слезы радости это только в книгах. А я их видел. В каждом освобожденном городе… Пожалуй, это самая высокая награда.
– Я представляю, Сережа, что делалось в Париже, когда немцы сдались. Я ведь знаю их характер. Когда я прочитала в газете про баррикады…
Ольга улыбнулась:
– Мама, баррикады это из Гюго, теперь решают все танки. Вот когда пришли американские части…
– Пришли, кстати, французы, – сказал Сергей. – Но дело не в этом… Партизаны сыграли большую роль, особенно психологическую… А главное – не в Париже решилось все…
– В Нормандии? – спросила Ольга.
– На Волге. Там один связист был, попал к немцам, троих убил, потом вернулся и убивался, что щипцы потерял. Я не умею об этом рассказывать – не писатель… Но вот такой освободил Париж.
Наташа сказала:
– Я читала, как одна девушка в Париже взорвала танк, кажется, это было в «Комсомолке»…
Сергей откинул голову назад, задумался. Его вывел из этого состояния Васька, который взлез на письменный стол и перевернул чернила. Сергей рассмеялся:
– Вылитый Вася! Я ведь помню Васю маленьким… Когда я прочитал про его партизанский отряд, никак не мог себе представить… Нам было легче – командарм, план операции, тылы. А чтобы, как он – три года в лесах… Выпьем за Васю!
Когда Наташа, чокаясь, поглядела на него, он зажмурился – такой свет исходил из ее больших ярко-синих глаз.
Наташе было приятно, что Васька похож на отца; ей казалось, что и в этом запечатлелась ее связь с мужем. Вот только характер другой… Вася спокойный, а этот… Ну зачем он на стол полез? Нельзя ни на минуту отвернуться… Характер у него дедушкин, такой же неистовый… Наташа вспомнила, как Дмитрий Алексеевич вздумал чинить стенные часы, все развинтил, говорил: «Через четверть часа будут ходить, как в обсерватории», – потом вдруг закричал так, что соседи пришли: «Ну и дурак я, забыл, куда эту шпоньку всадить, а она, проклятая, самая важная, ничего не выходит»… И Наташа молча улыбалась.
– Я пью за Валю, – сказала Нина Георгиевна.
Сергей, как только он приехал, рассказал матери:
«Убедил Валю, поступает в театральную студию. С завода обещали отпустить. Ты ее поддержи, мама…» Нина Георгиевна обрадовалась. По-прежнему она была поглощена своей работой; но минутами ее угнетало одиночество. С дочерью у нее были все те же сложные отношения, нежные и в то же время настороженные. Наташу Нина Георгиевна полюбила, гордилась ею (вот какую нашел Вася), но настоящей близости между ними не было. В начале войны Наташа казалась Нине Георгиевне девочкой, она разговаривала с нею, как с маленькой. А когда они снова встретились, Нина Георгиевна изумилась: Наташа не только изменилась внешне – из подростка превратилась в красивую женщину, она и душевно созрела. Почему мне трудно с ней говорить? – спрашивала себя Нина Георгиевна. Она знала, что ее отделяет от Ольги: практическая сноровка дочери, здравый смысл, трезвенность сердца. Но Наташа не такая… Нина Георгиевна не понимала, почему она теряется, разговаривая с Наташей. Может быть, ее пугала цельность натуры, крепость характера – плод этих лет. Нина Георгиевна чувствовала, что Наташа крепко стоит на земле и земля под ней не бутафорская, а твердая, настоящая… Наташа научилась молчать, скрывать свои чувства, и Нина Георгиевна порой думала, что есть в этом спокойствии осуждение: рядом с нею я какая-то невыдержанная, даже стыдно… Если бы Наташа хоть раз раскрылась, показала ту ребяческую нежность, которая уживалась в ней рядом с печальной серьезностью, даже с суровостью, если бы Нина Георгиевна прочитала хоть одно письмо Наташи к Васе или узнала про детское смущение от мысли о цензоре, она почувствовала бы близкую душу. А сейчас она восхищалась Наташей со стороны и мечтала о приезде Вали. Валя писала ей письма, то порывистые, то раздирающе грустные. Стихия искусства, в которой она жила, была миром Нины Георгиевны, хотя она никогда не писала стихов, не играла на рояле, не мечтала о сцене. Письма Вали казались ей полными глубокого смысла, не нашедшего выражения в словах: это было очарование голоса, магия образов. Она видела в Вале свои мечты и не раз удивлялась: как Сережа нашел именно то, что отвечает его сердцу – в маленькой неприметной женщине, которую красит только улыбка, в студентке, у которой профессора не обнаружили таланта? Нетерпеливый, а заметил, понял…
Нина Георгиевна сказала:
– Сейчас так шумно – и на войне стреляют и здесь – от радости… Я часто думаю, что будет, когда вернется на землю тишина? Мне кажется, будет много сосредоточенности, большое искусство. Я в среду занималась с детишками, это пятый класс, удивительные дети, и вдруг подумала – вот таким был Пушкин во время отечественной войны…
Наташа оживилась:
– Наверно, последний год пропускаю. Я вчера встретила одного профессора из Тимирязевки. Он работает над продвижением на север плодовых деревьев – сады в Заполярье. Один гибрид потрясающий…
Нина Георгиевна сидела над внуком, который уснул в глубоком кресле. Она думала о детях: выводим самые необычайные растения – людей, людей завтрашнего дня, которым не будут страшны ни огонь, ни ложь, ни слепая природа.
– Сереженька, а ты часто заглядываешь в будущее или не до этого?
– Кажется, не до этого… Я встретил возле Минска иностранных корреспондентов. Не знаю, хорошие они журналисты или нет, но у меня осталось ужасное впечатление. Один говорил со мной, как фашист, допрашивал, что мы собираемся делать в Германии – «американцы встревожены…»
– Ничего не понимаю, – сказала Ольга, – ведь они союзники…
– А я когда с ними говорил, понял. В сорок втором они считали, что мы на краю пропасти, немцы нас столкнут, но сами на этом сломают ногу. Тогда-то приедет барин и все рассудит. А вышло иначе… Почему ты хочешь, чтобы Форд любил горьковских рабочих? Это было бы противоестественно. Слушай, Оля, кроме газет, есть книги… В сороковом у нас газеты не употребляли слова «фашист» – соблюдали вежливость. Но фашисты оставались фашистами. Может быть, ты думаешь, что какой-нибудь французский буржуа нас полюбил за то, что мы его спасли от немцев? Он нам не простит, что мы его спасли. Он даст сто франков на памятник Сталинграду и сто тысяч франков на борьбу против коммунизма… Я это понял, когда говорил с теми американцами, вспомнил Париж, споры, миссии, которые они посылали для камуфляжа…
– Но ведь это ужасно, Сережа, – вскрикнула Нина Георгиевна. – Неужели не будет людям покоя?..
Она как будто заслонила собой маленького Ваську от далекой тучи.
А Сергей улыбнулся:
– После Сталинграда не страшно… Они могут ругаться, а вот чтобы укусить – сомневаюсь. Да и ругаются они потому, что видят силу. Мы показали: сильное государство, сильный народ, сильные люди. И еще показали – с нами лучшие… Я не знаю, что было в Париже – газеты мало писали. Но я видел, когда был там, коммунистов, помню инженера, молодого рабочего, да и Других. Я убежден, что на улицу вышли они, а не те, кто нас ругает…
Когда они прощались, Нина Георгиевна вдруг стала маленькой, как девочка, прижалась к Сергею, потом быстро отвернулась, чтобы он не увидел слез, закурила и закашлялась. Ольга осталась ночевать у матери. Сергей проводил Наташу. По дороге она вдруг сказала:
– Ты хорошо сказал, что мы не одни. Я читала в Аткарске статью, какой-то старый журнал попался – насчет изменения климата Лабрадора. Один ученый предлагал изменить ход Гольфстрема, тогда там будут даже цитрусы. Наверно, это утопия… А вот мы за три года переменили климат мира. Ты спросишь, откуда я знаю. Я мало знаю, читаю телеграммы ТАСС, вот и все. Но к нам в госпиталь привезли раненую партизанку из Югославии. Я с ней долго разговаривала, тогда и подумала… И в Париже, наверно, есть такие. Как девушка, что сожгла танк…
Потом Сергей шел один по затемненной Москве. Ночь была теплая, летняя, но уже по-осеннему черная. Он запутался в лабиринте переулков между Кропоткинской и Арбатом. Он был счастлив от любви Вали, от встречи с матерью, оттого, что нашелся Вася, оттого, что снова увидел Москву, огромную, нестройную, строящуюся, очень старую и до удивления молодую. Еще он думал о парижской девушке, которая подорвала танк, и где-то в сонме дорогих теней по аллее, усыпанной листьями, шла ему навстречу Мадо.








