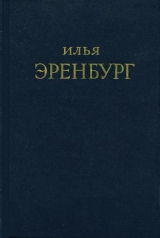
Текст книги "Буря"
Автор книги: Илья Эренбург
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 63 страниц)
10
Лео Альпер осторожно осведомился у Марселины, как здоровье мужа. Она не успела ответить – в гостиную с веселым смехом вошел Лансье.
– Наконец-то! Я уж думал, что ты никогда не приедешь… Но ты замечательно выглядишь. Вот что значит родной воздух… Хотя, по-моему, ты больше француз, чем все французы, взятые вместе. Ты доволен поездкой? Наверно, это удивительная страна. Я здесь подружился с одним русским инженером. Очень тонкая натура. Я показал ему мою коллекцию миниатюр, и, представь себе, он сразу отметил самую ценную, ты, конечно, помнишь – дама в зеленом капоре… Фанатик и в то же время мягкий, прямо-таки деликатный человек. Страна чудес! Почему ты не рассказываешь? Что ты там видел?
– Всего сразу не расскажешь. Видал брата. Тоже фанатик, это ты правильно сказал. Симпатичный, работяга. Жена у него красивая, дочка. И все-таки фанатик. Нас не понимает, да и не хочет понять… Но почему ты не говоришь, Морис, какие здесь происшествия?..
– Луи – младший лейтенант авиации. Мальчишка счастлив. Меня это мало радует, в особенности теперь… А помимо этого никаких перемен…
Увидев изумленное лицо Альпера, он рассмеялся:
– Не сердись, Лео, я забыл рассказать самое главное – все уладилось. Это почти восточная сказка – Берти пошел навстречу. И без обязательств, в порядке дружбы…
– Удивительно! Я его мало знаю, но все говорят, что он сухой человек.
– Это потому, что у него убийственная логика. Он мне доказал, во-первых, что «Рош-энэ» годится на слом, и я, Морис Лансье, дожил свой век, во-вторых, что вся Франция вроде меня и скоро нам крышка, потому что американцы и русские работают, немцы вооружаются, а мы сидим в кафе, пьем аперитивы и ругаем правительство. Я тебе скажу, что такое Берти, – это добряк, который прикидывается людоедом. Он любит парадоксы.
– Не такие уж это парадоксы. Мы с тобой действительно устарели. Я поездил по Европе, и я это почувствовал. Ты ведь знаешь, что за жизнь я прожил – валял дурака, марал бумагу, мечтал бог знает о чем. Как отец… Ты в том же духе – стихи, коллекции, ужины. А там не чудаки… Это скорее математики. Что нам с тобой нужно, давай говорить откровенно? Немножко денег и много спокойствия. Боюсь, как бы Берти не оказался прав – отберут у нас и денежки, и спокойствие.
– Коммунисты?
– Не знаю… Может быть, немцы. Игра идет крупная, а мы с тобой мелкие жетоны. Меня русские так настроили, что я Леонтину напугал. Она встретила приятными известиями – наш домик в Бидаре почти готов, осенью можно будет поехать. А я ей отвечаю: «Хорошо, если доживем до осени». Глупо, тем более что она последнее время нервничает… Слушай, Морис, вы должны обязательно приехать в Бидар. Это простой домишко, баскский стиль – у самого моря.
Он рассказал о Бидаре. Потом Лансье рассказал о новой пьесе Кокто. Потом они пили вермут с сельтерской и улыбались, не вспоминая больше о каркающем Берти.
Вечером Лансье заговорил с Марселиной:
– Я хотел тебе еще вчера сказать… Одно условие – никому ни слова! Деньги мне дал Берти, закон дружбы – это его собственное выражение. Он меня очень разозлил своими рассуждениями, но все-таки это благородный человек. Он больше француз, чем он сам думает. Только я тебя умоляю – не проговорись, я ему обещал, что это останется между нами. И Мадо не говори…
Марселина отнеслась к рассказу мужа безразлично; после того как муж сказал ей, что порвал с Руа, она перестала интересоваться делами «Рош-энэ». Она была поглощена своими мыслями.
– Почему я вдруг стану посвящать Мадо в твои дела? С ней вообще теперь трудно разговаривать…
Лансье всполошился:
– Что с ней? Больна?
– Нет, не больна… Не знаю… Такое у нее настроение.
– А ты ее спрашивала?
– Я тебе говорю – она молчит. Когда я спросила, сказала, что ничего нет…
Марселина почему-то вспомнила свою молодость, летнюю ночь, когда под проливным дождем, в длинном платье старой экономки, она бежала к Морису. А Лансье разделся, завел часы и, сладко зевая, начал успокаивать жену:
– Ты, Марселина, напрасно себя расстраиваешь. Ну, что может случиться с Мадо? От таких передряг, как у меня были, она, слава богу, застрахована. Это еще девочка… Значит, или влюбилась, или с кем-то поссорилась, или у нее не вышел пейзаж, и она решила, что бездарна. Легкая зыбь, и только. Сегодня грустная, завтра развеселится. В ее годы всегда кажется, что много туч, а бурь не бывает. Бури приходят потом, когда человек, наконец-то жаждет спокойствия. Марселина, мы с тобой прожили хорошую жизнь, и теперь у нас настоящее бабье лето. Только бы не было бури!
11
Роже Самба прибирал мастерскую; делал он это неумело, разбил миску, вымазал красками диван, а потом, смочив скипидаром носок, яростно тер обивку, пыль замел под тот же диван, который был единственной мебелью, если не считать чересчур высокого стола, заваленного рухлядью, и табуретки. Пыль крепкою бронею покрывала холсты, полки, висевшую на гвоздиках старую одежду. Самба зачем-то осторожно сдунул с дивана перышко и рассмеялся. Глупо – как в старой мелодраме: художник поджидает принцессу…
С удивлением он оглядел мастерскую, как будто прежде не замечал, где живет; а прожил он здесь много лет, знал каждое пятнышко на стене; эти пятна то радовали его, то злили, когда он сажал модель на табурет и стена оживала или, упорствуя, оставалась пустым местом. Но сейчас, оглядев мастерскую, он задумался над своей жизнью – до чего же она неуютная, запущенная, пустая! Не обзавелся он семьей, как другие, не за кем ему ухаживать, да и о нем никто не позаботится. Отчего так случилось?.. Ведь не от внутреннего холода – он обладал нежным, привязчивым сердцем, не от презрения к будням – стоило поглядеть на Самба, чтобы понять – это не аскет, был он рослым, плечистым, с предрасположением к полноте, и движения у него были широкие, так что, когда он входил куда-либо, сразу становилось тесно, как будто своим присутствием он заполнял мир; он медленно, со вкусом ел, громко смеялся. Если остался он одиноким, то только потому, что одна страсть вытесняла все другие, – так горячо, так самозабвенно любил он искусство, так презирал богатство и славу, так подлинно жил второй, вымышленной жизнью.
Много лет тому назад он влюбился, казалось, крепко; девушке он тоже нравился; друзья уже напрашивались на свадьбу. Но свадьба не состоялась, и произошло все оттого, что тогда он писал портрет другой женщины, не мог оторваться от ее рыжих волос и чрезмерно бледной кожи, пропускал свидания и дождался того, что любимая нашла другого. Всю ночь терзаясь, он спрашивал себя, как же это вышло, а наутро начал новый портрет той, рыжей, которую в душе возненавидел.
Его знали в художественных кругах Парижа как своеобразного и серьезного мастера, но широкой публике он был неизвестен, – он не гонялся за успехом, не пускал к себе критиков, да и работал слишком медленно, чтобы запомниться посетителям выставок. Иногда он делился своими мыслями с Мадо, говорил: «Вы только не думайте, что художник изображает мир так, как он его видит, что нужно увековечить свои ощущения. Нет, Мадо, художник – эго прежде всего философ. Не хмурьтесь, вы тоже должны стать философом, наши мысли конкретизируются в цвете. Глядя на мир, мы его изучаем, осмысливаем и даем не отображение существующего, а нечто новое. Конечно, скульпторы Греции лепили своих современников, жили их идеями, их предрассудками, а вот создали они новое мраморное племя. Может быть, Платон устарел, статуя Афродиты не устарела и не может устареть… Поймите, мы не отображаем мир, мы его заселяем»…
Самба как будто не замечал гражданских бурь, которые потрясали в те годы Париж. Иногда он удивленно спрашивал первого встречного: «Кто это стреляет?» или: «По какому случаю забастовка?»
Однажды к нему пришел Лежан, говорил, что во Франции идет скрытая война, не сегодня завтра она перекинется на улицу, Самба должен выбрать, где его место. Самба внимательно выслушал, а потом начал показывать Лежану свои последние работы.
– Прекрасная живопись. Но я с тобой говорил о судьбе народа.
– Именно об этом я думаю. По-моему, живопись, которая занята другим, это не живопись, а драпировки. Вероятно, я делаю то же, что ты, только по-другому. Я прежде всего художник… А если дело дойдет до драки, кто знает…
Для Мадо он был совестью, она рвалась к нему от блеска и ничтожества «Корбей». Она чувствовала, какое сердце у этого человека, и поверяла ему свои душевные невзгоды. Но порой она спрашивала себя: слушает он или думает, что хорошо бы меня написать в этом платье?..
Могла ли Мадо догадаться, что только она способна отвлечь Самба от мысли о живописи? Он сам лишь недавно понял, какое место она занимает в его жизни. Он знал ее девочкой, когда она еще ходила в коллеж, следил за ее первыми живописными этюдами… Его чувство медленно созревало. Как-то он не видел Мадо несколько месяцев – Лансье были в «Желинот», жизнь показалась ему скучной, даже утомительной. Когда он понял причину своей хандры, он растерялся: что за наваждение? Если для Мадо он слишком стар, то все же не старик он, чтобы вздыхать и рисовать вензели! Хватит! Но сердце оказалось упрямым. Прежде бывали у него случайные связи с женщинами, одинокими, как он, готовыми легко сойтись и безропотно исчезнуть. Теперь ему были противны все женщины, кроме Мадо. Он не раз задумывался над странностями любви. Ему тридцать девять лет, Мадо двадцать четыре или двадцать пять. Она любит хорошо одеваться, наверно любит успех. Это дочь богатого промышленника, балованая, к тому же красивая. Чем он увлекся? О чем мечтает?
Он сказал Мадо, что любит одну испанку, с которой познакомился в Бретани, сказал, потому что боялся – еще минута, и он выдаст свои чувства. Теперь Мадо иногда его спрашивала про ту испанку. Он не знал, что ответить, и злился.
Она обещала притти в пять часов. С утра он был сам не свой и мастерскую решил прибрать, чтобы чем-нибудь себя успокоить. Разрывая хлам на столе, он вдруг увидел перчатку Мадо – она ее потеряла еще зимой, когда приходила позировать. Он погладил замшу и рассердился: что за комедия! Нужно кончать!.. А что, если и она?.. Разве разберешься в чужом сердце? Сказала же она под Новый год: «Вы для меня больше, чем друг…» Конечно, четырнадцать лет – это не шутка. Но сколько раз он слыхал про такие браки. Глупо? Может быть. Только в этом деле все дураки…
Так размышлял Самба до прихода Мадо; а когда она пришла, он не думал, он только любовался ею, ощущал ее присутствие, ею жил. Мадо была непривычно возбуждена, переставляла книги, подымая облака пыли, садилась и сразу вскакивала, переходила в разговоре с домашних новостей на выставку Боннара, а с Боннара на войну. Самба никогда не видал ее такой. Волнение Мадо передалось ему, он нервничал. Сейчас скажу!..
– Мадо, вы понимаете, что это значит, когда другой человек тебя захватывает? Ты берешь какую-то дурацкую вещицу, связанную с ним, и теряешь дыхание…
Она прервала его:
– Перестаньте! Я не хочу об этом слышать. Понимаете – не хочу!..
Он отвернулся. Они долго молчали. Заговорила Мадо:
– Не сердитесь, Роже, я сегодня сумасшедшая. Или выругайте меня, как вы делали когда-то, скажите, что я мазилка, что я дочка богача, от скуки рисую букетики. Помните?.. Ах, как тогда было легко!.. Только не сердитесь! Вы знаете, я вчера вас вспоминала, смотрела Боннара и думала – как это замечательно!..
Самба успокоился, начал говорить о Боннаре:
– Когда смотришь, забываешь, что есть время, в этом отличие живописи от поэзии… – Он улыбнулся: – Вы заметили, Мадо, что даже внешность другая – поэты похожи на птиц, а художники на деревья…
Она не слушала.
– Мадо, что с вами?
– Со мной?
– Ну да с вами.
– Не знаю. Знаю, но это неважно. Это мелочь, все равно, как потерять браслетку… Ведь это глупо, плакать оттого, что потеряла браслетку? Скажите скорее, что глупо! Я вас умоляю – обругайте меня! Я не браслетку потеряла… – В голосе ее почувствовались слезы, но быстро она с ними совладала. – Роже, помогите мне, я схожу с ума! Это так страшно, это – вот здесь, и ничего нельзя поделать. А когда я встречаюсь, я говорю глупости…
Самба, вздрогнул: значит, и она!.. Он подошел к Мадо и неуклюже погладил ее руку, как раньше гладил перчатку. Несколько раз он порывался что-то сказать и не мог, наконец с трудом выговорил:
– Мадо, я тоже схожу с ума…
Она доверчиво улыбнулась:
– Я потому и решилась… Вы мне рассказали, что с вами было в Бретани, вы поймете. Вы один можете мне помочь, вы – друг, старый, хороший друг. Я вам скажу все, никому не скажу, только вам. Я думала, что это в романах, когда человек сразу потрясает тебя, думала – нужно долго знать, много говорить. А на деле иначе… Я в первый же вечер почувствовала, что это – судьба. Вы ведь тогда были… Помните, как я глупо себя вела? Мне хотелось говорить ему неприятности, обидеть его, нет, больше – ранить. А что я для него? Взбалмошная девчонка, француженка – для них ведь если француженка, значит, кукла. И не раны то были для него, а булавочные уколы, он и не заметил. Так и вчера. Я его встретила на выставке. Я вам говорила, что думала о Боннаре. Неправда! Я говорила с ним о Боннаре, а думала, о другом – мне страшно, что он скоро уедет. Я вас умоляю – позовите его сюда, я должна с ним встретиться.
– Как же это, Мадо, как я позову? – Он хотел сказать не то и, разозлившись на себя, проворчал: – Я тут при чем?..
Но она его не слушала.
– Я должна с ним поговорить, просто, без глупых выходок. Вы знаете, что я ему вчера сказала? Я сказала, что можно полюбить русских, но полюбить русского нельзя, потому что у них все оптом – и степь, и леса, и люди. Как это глупо! Я должна с ним поговорить. Он может ничего не чувствовать, но я не хочу, чтобы он меня презирал. Если вы его не позовете, я пойду к нему.
Самба подумал: нужно отговорить, сказать про гордость. Русский сможет это понять по-другому… Но, взглянув на Мадо, на ее лихорадочные глаза, на губы, которые продолжали шевелиться, хотя она теперь ничего не говорила, он тихо ответил:
– Хорошо, позову.
Один сумасшедший не может лечить другого. Да это и неизлечимо… Разве он разлюбил Мадо? Он сейчас боится одного – скоро она уйдет…
И Мадо встала. Ушла она такая же взволнованная, Самба, стоя у окна, видел, как дошла она до угла, скрылась, потом вернулась, постояла, снова пошла, будто не знала, куда ей деться.
Он долго стоял у окна, охваченный большой ровной грустью. Вот и досказано все, можно забыть про испанку… Русский моложе, а главное, он живой человек, не захвачен этим… И Самба в ужасе посмотрел на свои картины. Одна из них остановила его внимание, он подошел ближе. Этот пейзаж он написал прошлым летом, когда Мадо уехала в «Желинот»… Но как плохо!.. Дерево не написано… Почему она сказала русскому про лес?.. Дерево старое, бог знает сколько ему лет, а стоит… У них крепкие корни… Только и дерево рубят… Нужно снова написать это дерево, не так, по-настоящему…
Стемнело. Под окном кричали продавцы газет, потом шушукались влюбленные парочки, потом улица опустела. И с горечью, но спокойно Самба подумал: в сорок лет от несчастной любви не стреляются. А если и выталкивают его из жизни, есть другая жизнь, там не нужно объясняться и не встретишь отказа, та жизнь не дана, она сделана – горением, муками, мудростью, это – искусство.
12
Самба и Сергей как-то сразу подружились. Сергей сидел, расставив ноги, на слишком низкой для него табуретке и, когда картина ему нравилась, молча улыбался.
Самба спросил, какая природа в России. Сергей стал рассказывать про степь, про леса.
– Нашу природу хочется не изображать, а петь, она течет и, как музыка, неуловима. Смотришь – и как будто ничего нет, но вдруг пробьется солнце сквозь облако и осветит одну полосу поля, или пройдет по тропинке девочка, или почернеет все перед грозой – и такое очарование! А метель! А тишина – это ведь тоже музыка…
– Я смотрю на вас, – сказал Самба, – и все время думаю, отчего так трудно вас написать? Вы сейчас сами объяснили – у вас лицо, как ваша природа, все время меняется, я вижу не форму, а выражение. Чертовски трудно сделать ваш портрет, а хотелось бы… Вы долго пробудете в Париже?
Сергей не успел ответить: постучали. Это была Мадо. Она сказала удивленно:
– У вас гости, Самба?
С Сергеем она поздоровалась приветливо, но сдержанно. Вначале и Сергей смущался. Потом стесненность первых минут исчезла, начался оживленный разговор. О чем только они не говорили! Об ярмарках в Бретани и о тихих реках России, по которым плывут стволы срубленных деревьев, о сонетах Ронсара, полных счастья, с легкой примесью грусти, и о сладком вине, в котором привкус горечи, о том, что французы говорят про человека, который, выпив, загрустит, «у него печальное вино», и о том, что на севере летом белые ночи.
– Вот где бы я хотела жить, – сказала Мадо. – Там можно помечтать… Не глядите так на меня! Я знаю, что у вас все работают. Я тоже работала бы – днем. А ночью… Это замечательно – увидеть мир не таким, как днем! Наверно, в белую ночь все другое – дома, небо, люди.
– А потом – зима.
– Это все равно… Счастье – хотя бы один час прожить в другом мире…
– Вы в нем живете, – сказал Самба, – когда работаете.
– Что я в живописи? Ученица. Еще десять лет я буду биться над азами. А мне хочется теперь, не дожидаясь, создать что-то свое, пусть хрупкое, ненадежное, но такое, чтобы все в него вложить…
Самба глядел и дивился: такой он знал Мадо когда-то. Он вспомнил смешную историю из ее школьных лет. Девочкам дали тему: «Чувство долга в сочинениях Корнеля». Мадо написала про звезду, которая, заметив влюбленного астронома, упала в обморок, и ей подарили бальное платье со шлейфом, потому что удобнее падать в обморок, когда на тебе длинное платье, но портной напрасно искал звезду, она давно стала золотой пылью, и только астроном помнил, как по небу пронеслась комета… «Что за вздор!» – негодовал учитель. Мадо объяснила: «Я прочитала у Корнеля про падучую звезду»… С тех пор прошло одиннадцать лет, а Мадо все такая же…
На столе стоял букет из полевых цветов. Она спросила:
– У вас гадают по ромашкам?
– Конечно. «Любит – не любит, к сердцу прижмет – к чорту пошлет».
Это лучше, чем у нас. Французские девушки пробуют поторговаться с сердцем: «немного, сильно, безумно». «Немного»… По-моему, лучше «к чорту пошлет». Скажите мне эти слова по-русски.
– Мадо, не обрывайте цветов, вы мне испортите натюрморт.
Она спела старую руссильонскую песню. У нее был низкий, слабый голос.
Солдат воевал десять лет,
Солдат обошел весь свет.
Он вернулся ночью домой.
И жена поглядела – чужой.
И жене приглянулся чужой,
Жена целует его горячо,
Ему и горько и хорошо.
Солдат, ты счастье свое отыскал!
Солдат, ты счастье свое потерял!
Жена смеется сейчас над тобой,
Жена изменяет тебе с тобой.
Убить не может – он любит ее.
Простить не может – он помнит все.
Солдат под утро…
– Не хочу больше петь.
– А что сделал солдат?
– Ушел. Может быть, он и не был у жены, а обнимал чужую женщину, может быть, он до сих пор бродит по свету…
Мадо теперь думала об одном: хоть бы Самба вышел! На минутку!.. Неужели он не догадается? Ведь ей нужно сказать Сергею… Что сказать, она не знала, но знала – необходимо что-то сказать.
– Самба, дорогой, если вы вскипятите воду, я сделаю кофе. Хорошо?
Самба, наконец-то, понял, он ушел в маленькую кухню. Мадо спросила Сергея:
– Когда вы уезжаете?
– Не знаю. Думаю, что скоро.
Ей показалось, что это не она говорит – голос был чужой:
– Хорошо, что скоро. А то ваши друзья подумают, что вы влюбились в Париж.
Он пожал плечами. Какая она несносная! И милая… Чем она его покорила? Может быть, отрешенностью, тем печальным весельем, которое стоит над Парижем, как легкий летний туман?
– Я вас обидел?
– Что вы! Вы так интересно рассказывали о вашей стране. Я вам очень благодарна, очень… – Она встала. – Самба, где же вы запропастились?
В дверях кухни, повернувшись к Сергею, она с веселой гримасой повторила заученные русские слова: «К чорту пошлет».
– Самба, где чайник? Что вы здесь делали?
– Я думал, что вы хотите…
– Я хочу кофе. Идите к вашему гостю, я сделаю все сама.
Прошло полчаса. Самба решил посмотреть, что с кофе. Он нашел Мадо плачущей.
– Уходите! Нет, постойте… Скажите ему, что мне стало дурно, что у меня больное сердце. Придумайте что-нибудь. Я не могу выйти к нему. Не могу…
В ту ночь Сергей плохо спал: он думал о Мадо. Чем он ее оттолкнул? А может быть, она над ним смеется? Нет, так не играют… Но почему он все время думает о ней? Эта девушка, без спросу, без тех прав, которые дает давность дружбы, без задушевных бесед, без горячих объятий, чужая, вот уж воистину чужая, вошла в его жизнь, стала такой близкой, такой своей, что он с нею беседует, спрашивает ее, утешает… Он ворочался, злился на себя и все-таки думал о Мадо. И вдруг рассмеялся: вспомнил, как она смешно сказала по-русски «к тшорту».
Утром ему подали маленький синий конверт.
«Вчера я снова дурно вела себя. Не сердитесь, я от этого страдаю. Вы говорили, что в вашей стране есть Джульетты, которым не хватает слов. Я тоже немая Джульетта, только французская. Я не могу и не хочу войти в вашу жизнь, все, о чем я вас прошу – встретиться со мной, может быть, я смогу вам сказать то, что хочу. Я буду вас ждать сегодня вечером в восемь часов на набережной Вольтера, возле памятника. Если вы не сможете или не захотите притти, я не обижусь, а буду говорить с вами издалека. Место это я выбрала потому, что там в этот час мало прохожих, мы сможем разговаривать. Простите каракули, я тороплюсь и не решаюсь переписать. Мадо».
Накрапывал мелкий дождь. Сергей пришел на набережную до времени; Мадо его ждала. Они быстро заговорили о дожде, о Вольтере, о картинах Самба – оба хотели скрыть свое волнение. Они шли то очень медленно, останавливаясь, как будто не знали дороги, то быстро, и тогда со стороны можно было подумать, что они куда-то торопятся; но они не знали, куда идут. Они перешли на правый берег, дошли до площади Конкорд, которая сверкала, как бальная зала; поднялись по Елисейским полям, жмурясь от огней и не замечая прохожих; потом они очутились в Булонском лесу. Обычно здесь бывало много гуляющих, но дождь всех разогнал. Они шли по пустой аллее; пахло мокрой травой, осенью. Они, кажется, успели рассказать друг другу все, но ни одним словом не обмолвились о том, чем были переполнены их сердца. Слова были нужны, потому что они боялись замолчать; но и слова иссякли; только дождик шумел в листве.
Мадо остановилась, взглянула на Сергея, молча попятилась назад, как будто увидела она в его глазах что-то страшное, все так же молча подбежала, руками обхватила его шею, начала целовать. Он ничего не помнил, он только тихо повторял: «Мадо… Мадо…» А на ее лице слезы мешались с каплями дождя.
– Я так и не сказала того, что хотела…
– Что?..
– То, что я сейчас сказала…
Так началась их любовь. Теперь они встречались почти каждый вечер. Никто об этом не знал. Они часто обижались друг на друга, ссорились, потом мирились, но даже эти размолвки были частицей большого и полного счастья.








