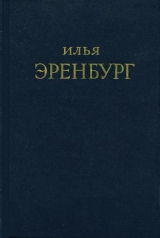
Текст книги "Буря"
Автор книги: Илья Эренбург
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 63 страниц)
– Вас ждут в гостиной, кофе подали туда.
В это время лакей доложил:
– Господин Гастон Руа.
Лансье скрыл от жены, что пригласил в «Корбей» человека, о котором неустанно думал: боялся посвятить Марселину в свои неурядицы. А ему хотелось проверить, какое впечатление произведет на друзей предполагаемый совладелец «Рош-энэ». Неприязнь к Руа выразилась в том, что позвал он его после обеда – «на чашку кофе».
В гостиную вошел невысокий человек с коротко подстриженными и бледными, как бы выцветшими усиками; аккуратно зачесанная прядь волос не могла скрыть плеши. Лансье начал представлять вновь пришедшего; когда очередь дошла до Анны Рот, она сказала:
– Я знакома с господином Руа.
Гость как будто не расслышал этих достаточно громко казанных слов и назвал себя. Он отпустил неудачный комплимент Мадо, попробовал заговорить о Морисе Шевалье, потом о финансовой политике, но никто его не поддержал. В разговоре начали проступать те паузы, которые показывают, что время расходиться; и Гастон Руа едва успел выпить чашечку кофе, как поднялся Самба; его примеру скоро последовали другие.
Дюма ушел с Лежаном. Сергей предложил госпоже Рот отвезти ее домой. Последним простился Гастон Руа. Когда он ушел, Лансье почувствовал облегчение. Но Луи, сам того не зная, расстроил отца:
– Русский мне понравился, я ведь еще не видел живого большевика. В политике я ничего не смыслю, но, видно, они покрепче наших радикалов. А этот Руа – отчаянный пошляк. Откуда ты его выкопал?
Лансье поразило, что Луи задал ему вопрос, который давно его преследует – действительно, откуда взялся этот Руа?.. Он проворчал:
– У меня с ним деловые отношения, это – «Агентство экономической информации»…
Больше о Руа не говорили. Но Лансье продолжал о нем думать. Будущий компаньон явно не пришелся по вкусу, гостей он разогнал за час до положенного. Действительно, пошляк… Но что тут поделаешь?.. Компаньонов выбирают, когда есть выбор. Может быть, рассказать про все Марселине? Она скажет: «Продай Желинот», а если уж Марселина что-нибудь скажет, она поставит на своем. Все разрешится очень просто. Разве обязательно иметь свое поместье? Можно летом поехать в Нормандию. Да, но это значит ограбить Марселину, лишить детей наследства. «Рош-энэ» может лопнуть. А недвижимость – это недвижимость. Зачем поддаваться минутной слабости? Пошляк? Что из того? Можно не знаться домами. На работе все пошляки. Зато останется «Желинот»… Он с первого слова оценил этого русского. И все хорошо кончилось, даже Нивель признал, что Влахов производит выгодное впечатление. А пулярдка Нивеля потрясла… Удивительный рецепт! И, забыв про Гастона Руа, Лансье сказал Марселине:
– Обед, кажется, удался?
Марселина улыбнулась грустной улыбкой, которая всегда придавала ей очарование; она вспомнила, как молодой Морис с такой же наивной гордостью спрашивал: «Поэма, кажется, удалась?»
Лансье подошел к Мадо:
– Тебе не понравился русский? По-моему, он мил и хорошо держится…
– Не нахожу. Я, кажется, не встречала такого самодовольства. Упоен своими Джульеттами…
– Напротив, он очень сдержанно говорил. Но почему ты так горячишься?
– И не думаю… В конечном счете мне это безразлично – Влахов или Руа – твои деловые знакомства.
Я пойду спать – разболелась голова…
3
Среди пестрых гостей «Корбей» Сергей и Анна сразу почувствовали обоюдную симпатию: так встречаются в открытом море два корабля, идущие под одним флагом. Они понимали друг друга с полуслова, и, однако, им трудно было друг друга понять, настолько различной была их жизнь.
Шофер такси остановился, спросил, куда повернуть: это было на площади Фальгиер, неподалеку от маленькой гостиницы, где жила Анна. Она сказала:
– Если вы не устали, мы можем посидеть…
Они зашли в маленькое кафе, посещаемое только обитателями соседних улиц, с неизменной в таких заведениях толстой усатой хозяйкой, с котом на конторке и с двумя чудаками, готовыми до полуночи спорить, где лучше клюет рыба – на Сене или на Марне, и какая водка ароматичней – бургундская или савойская.
Сначала Сергей и Анна говорили несвязно, каждый о своем; путались московское метро и парижские демонстрации, сельскохозяйственная выставка и террор в Праге. Потом Анна начала рассказывать про Испанию:
– В нашей бригаде был замечательный болгарин. Когда окружили, он вывел нас к морю. Хорошо пел… Немцы были, французы, югославы, чехи, венгры. Когда шли в бой, пели «Интернационал» на десяти языках, разве не замечательно? Иногда Испания мне кажется эпилогом…
– Почему? Это – пролог.
– Там было похоже на старое – на рассказы о революциях в прошлом веке. Наивности было много, чистоты, ну и глупости тоже. Может ли такое повториться?
– Нет. Будет суше, серьезнее.
– Один ваш часто мне говорил, что борьба неравная, романтики мало. А все-таки сколько держалась Испания! Значит, дело не только в технике… Я не знаю его имени, мы его называли просто «русо»… Он нас ругал за романтизм, а он сам был романтиком. Испанию он полюбил именно за чистоту сердца…
– Я мечтал попасть туда… У меня был товарищ по институту, он там погиб…
– Мы нашего «русо» похоронили под оливой, а памятника не поставили, чтобы те не надругались. Я знаю, где могила. Если вернемся… Но не верится…
– Вернемся! Только другим путем. Через Берлин.
– Как хорошо, что вы это говорите! Здесь все слишком грустно… Люди боятся Гитлера. А Германия – это страшная сила. Я знаю, как они готовятся… Они должны напасть на Советский Союз – без этого им не удержаться.
– Наша сила в том, что мы это знаем. Возьмите меня – я ведь с детства слышал одно: «Это неизбежно»… Вначале говорили «окружение», потом пришел фашизм, как магнит притянул к себе всех наших врагов. И мы знаем, что от схватки не уйти. Когда я был мальчишкой, помню – мы смотрели с надеждой на Запад. Думали о революции…
– И разуверились?..
– Нет… Но, поймите, история петляет. Это на десятки лет… Теперь мы должны надеяться прежде всего на себя.
– На что же нам надеяться?
– На себя. И на нас.
– Когда я сидела в концлагере, я много думала о Москве, старалась представить, как там живут… Трудно… В журналах русские девушки всегда улыбаются…
– Они улыбаются, и хорошо улыбаются. Только реже, чем им хотелось бы… – Сергей рассмеялся, – и реже, чем хотелось бы мне. У нас трудная жизнь. Кажется, мы так и состаримся – на лесах, а уютной квартиры не увидим. Не подумайте, что я жалуюсь, я этой известки не променяю ни на что. Мы сложнее, чем о нас думают. Ад и рай – это у Диккенса. А у нас – жизнь, все вперемежку…
– Я встретила как-то одного товарища из Москвы, я тогда только приехала из Аржелеса. Вы ведь читали про Аржелес? Там каждый день умирали… Он меня расспрашивал об Испании, я рассказывала, а потом он начал спрашивать, где лучше купить отрез, в «Лаффайет» или «Прэнтан», какой марки чулки. Я здесь чего-то не понимаю…
– А я понимаю. Не бойтесь, я вас не буду спрашивать, где купить чулки, жены у меня нет, да я и не люблю ходить по магазинам. Сейчас я вам объясню… Здесь таким людям, как вы, трудно – они борются, сидят в тюрьмах, гибнут, а костюмы для них не такая уж проблема… Думали ли вы о том, какими лишениями оплачены наши заводы? Понятно, что такой попал в магазин, и у него глаза разбегаются, жена молодая, хочется ей приодеться… Здесь нечем восхищаться, но и осуждать это нельзя. Он у вас спрашивал про чулки, а придется – сядет в танк и погибнет как герой. Все это очень сложно… Я, например, когда читаю, что у нас изготовлено столько-то пар чулок, радуюсь, как победе. А что мне чулки? Но это – наше…
– Как я вам завидую! У вас есть свой народ.
– Народ есть и у вас.
– Не знаю… Вы говорили о сложности, а у вас все просто. Вы можете радоваться тому, что у вас свои чулки. Я смотрю на каждого советского, как на учителя: он больше знает, больше может. Но в чувствах другое… Когда вы говорите, мне кажется, что я старуха, которая прожила долгую и страшную жизнь. Для меня все сложнее… Забудьте на минуту про свое, постарайтесь понять… Это совсем другой мир. Я была замужем за евреем, то есть Генрих всегда считал себя немцем, друзья у него были немцы, женился на немке – я дочь пастора, работал, как все, он был химиком. Он давно увлекался политикой, а за год до Гитлера стал коммунистом. Как раз тогда мы познакомились. Была я совсем девчонкой. Не удивляйтесь, мне теперь всего двадцать пять… Не знаю, как любят другие, то есть знаю из книг, но я его любила так, что вечером боялась уснуть – вдруг утром не увижу? Мы провели с ним две недели в деревне возле Штуттгарта. Тогда я поняла, что такое счастье… Потом – Гитлер. Ко мне пришли, предложили отказаться от мужа, говорили: «дочь таких почтенных родителей», я им улыбалась, потому что муж был тогда у моей матери, она его прятала. Мы должны были скрываться. Генрих работал в Гамбурге, там еще держалась подпольная организация. Ужасно было, как некоторые изменились, встречаешь, а он уже говорит другое. У меня были чужие документы. Виделись мы с мужем редко, на людях. А в августе тридцать четвертого его забрали. Они его мучили восемь дней, хотели, чтобы он назвал товарищей. Я знала, что его пытают, – там был один штурмовик, он мне сказал: «Я вас не выдам, потому что уважаю вашего отца. А про мужа забудьте, мы из него приготовим иудейскую ветчину»… Его звали Генрих, как мужа… Я думала, что сойду с ума, на себе чувствовала все пытки. Генрих не сказал… Они его отправили полумертвого в Дахау. Я почему-то еще надеялась, мечтала о побеге, а его уже не было в живых. В Испании мне было легче с испанцами или с французами, немцев я избегала. Это страшно, потому что немцы там были замечательные, такие же, как муж, может быть, его друзья. Вы меня не поймете, а объяснить я не умею. Будет война. Понимаете ли вы, что это означает для меня? Для вас все ясно. А я и ненавижу Германию, и люблю ее. Мама умерла, отец там, но я боюсь спросить, что с ним, даже не того боюсь, что арестовали, конечно, могли арестовать, боюсь – вдруг он поверил Гитлеру? Тогда и отца нет… Я отвыкла говорить по-немецки, недавно услышала, как выступал Гитлер, и мне язык показался отвратительным. А ведь на этом языке я слышала самое хорошее, что можно услышать в жизни… Ну, а та деревушка, где я была с Генрихом? Обыкновенная немецкая деревушка, липы, зеленые кислые яблоки, мальчишки в клеёнчатых картузиках, старики возле кегельбана… Разве я могу хотеть, чтобы все это погибло?.. Я убегала в Испании от товарищей-немцев, но когда одного из них убивали, сердце разрывалось, ведь они все-таки свои, и так же мучились, как я! Я с вами говорю и вдруг думаю – если немцы с Гитлером, вы должны ненавидеть всех немцев, и язык, и ту деревушку, все, все… Такая тоска, такое одиночество…
Сергей молчал, он был потрясен глубиной чужого горя, чувствовал, что нет у него слов, которые могут утешить Анну, да и не слова ей нужны. Он только пожал ее руку и медленно проговорил, обращаясь не к ней, а к себе:
– Тех я ненавижу. Но всех?.. Мы не фашисты! Даже если все пойдут за Гитлером, я вспомню вас – значит, не все…
За соседним столиком сидели двое; видно было, что они опрокинули немало рюмок – говорили они, не повышая голоса, но с надрывом, как актеры, и руками что-то рисовали в воздухе.
– Мортье говорит «это потому, что будет война». А я знаю, это потому, что он хочет выдать свою хромую дочку за Дежана. И будет не война, а будет еще по одной. Хозяйка!
– Согласен – еще по одной. Этот хромой Мортье вообще сволочь. Он взял прошлой осенью моего пойнтера на два дня, а потом сказал, что кобель увязался за перепелками и убежал в Америку. Но одно я тебе скажу, старина, хромой Мортье прав, и война непременно будет, потому что…
– Потому что?
– Потому что я тебе говорю, что она будет.
– Это говоришь не ты, это говорит хромой Мортье. А войны не будет, потому что война уже была.
Анна сказала:
– Вы видели, как они настроены. Они не понимают опасности…
– Такой Лансье убежден, что если война и будет, то за тридевять земель от его «Корбей».
– Глупый человек, но, кажется, порядочный…
– А дочь?.. – Сергей смутился: что за дурацкий вопрос!
– Она мне понравилась, хотя говорит глупости. Трудно ее винить – их так воспитали. Они не видят, что смерть рядом. Мне вспомнилась пьеса, кажется, это Метерлинка. Там на сцене – дом, уют, ужинают, а под окном люди шепчутся – они притащили труп дочки, которая утонула, минута, и они постучатся… В действительности это еще страшнее. Вы обратили внимание на человека, который пришел после обеда? С усиками. Я сейчас вам расскажу… Когда я приехала в Париж, мне поручили одно дело. Наци хотели обманом направить в Германию товарищей из интербригад. Я четыре месяца работала машинисткой в бюро путешествий «Европа», там у них пункт. Узнать историю с интербригадовцами мне не удалось, но кое-что я узнала. Там я видела этого Руа. Он два раза приходил, спрашивал о билете в Аргентину, потом говорил, что хочет заказать каюту-люкс, и шел наверх к Ширке… Лансье, наверно, и не подозревает, жужжит про поэзию, думает, что вокруг – кружева, а вокруг – паутина… Хорошо, что я вас встретила, а то нервы издерганы, не сплю, порой дохожу до малодушия. Вы меня успокоили…
Он ласково сказал, прощаясь:
– Спокойной ночи, товарищ!
Потом он шел по ночным улицам, блестевшим после дождя. Бесшумно скользили машины. Бесшумно проходили одинокие девушки с чересчур красными губами на синих лицах. И все путалось в голове: горе Анны, какое-то бюро путешествий, хлам «Корбей», стихи, улицы, запахи моря и перегоревшего бензина. А когда он зашел в свой тупик «сите», где не было фонарей, проступили звезды – много, очень много звезд. Он прежде любил разглядывать звездное небо, находил там своих любимиц, знал их по именам… Впрочем, здесь и небо другое – юг. Вот эта большая, зеленая – как ее зовут?.. Будь я поэтом, я писал бы о звездах. О звездах и о любви, такой сильной, как любовь этой маленькой, хрупкой женщины к мужу. Все сложно и непоправимо… Анна теряет Генриха. А Нивель пишет стихи. Он ведь не знает ни такой любви, ни этих звезд… Слова! Что в них хорошего? Какая большая и горькая ночь! Ту, с печальными зелеными глазами, с улыбкой обиженного ребенка, зовут Мадо. Она в Париже. И я сейчас в Париже. А что будет через год?.. Звезда останется, большая и зеленая…
4
Лансье горько усмехнулся: прежде он читал про «черные среды» и «черные пятницы»; на его долю выпал «черный четверг». Всего неделю назад он безмятежно колдовал над пулярдкой… События развернулись слишком быстро, а Лансье ненавидел торопливость. Когда ему пришлось однажды вернуться из Лондона на самолете, он долго потом ворчал: «Ничего не видишь, кроме облаков и собственного ничтожества! Люди помешались на скорости, как будто впереди не смерть, а приз – чаша с бессмертьем. Быстро пообедать, быстро переменить любовницу, быстро прочитать книжку, быстро умереть…» И вот этому сибариту пришлось пережить за один день больше, чем он пережил за всю жизнь.
Нужно было дать ответ Гастону Руа: истекли все сроки платежей. Лансье собрался с силами и сказал: «Хорошо». Утром они были у нотариуса, оформили все. А час спустя позвонили от Влахова. Лансье понимал, что русский теряет терпение. Но Руа, когда Лансье в начале переговоров ознакомил его с текущими делами «Рош-энэ», решительно заявил: «Договор с русскими нужно порвать. Это клиенты на час. Пускай судятся, все равно они проиграют. А заказчиков достаточно, притом с будущим. Эту партию возьмет Бильбао»… Лансье долго спорил, но Руа стоял на своем. Тогда Лансье решил тянуть дело с русскими. И вот Влахову надоело. Как обидно, что придется с ними порвать! Руа – неопытен, для него какие-то проходимцы из Бильбао солиднее, чем большое государство. А Лансье работает с русскими восемь лет… Да, но сдать заказ – это значит поссориться с Руа. Почему нет Альпера, он придумал бы что-нибудь…
Лансье решил снова отсрочить развязку: может быть, вернется Альпер. Но Влахов был сух, настойчив. Тогда Лансье сказал:
– Помните, я вам говорил о реорганизации «Рош-энэ»? Теперь проект осуществился. У меня и у господина Альпера новый компаньон, вы с ним познакомились в прошлый четверг – господин Гастон Руа…
– Понятно, – сказал Влахов. – Заказ вам все-таки придется сдать, я говорил с нашим юрисконсультом.
А новых заказов не будет. Если мы захотим иметь дело с немецкими фирмами, мы разместим заказы в Германии, работать с французами, за спиной которых немцы, мы не собираемся.
Лансье вспылил:
– У меня могут быть финансовые затруднения, но я – француз, я не мальчишка! Почему вы со мною так разговариваете?
– Потому что ваш Руа – подставное лицо.
Лансье протестовал, горячился. Сергей усмехнулся:
– А бюро путешествий «Европа»?..
Лансье, не прощаясь, выбежал прочь: русский сошел с ума! У них мания преследования: повсюду видят шпионов. Руа вовсе не скрывает, откуда у него деньги: «Агентство экономической информации». При чем тут немцы? И нужно быть сумасшедшим, чтобы припутать какое-то бюро путешествий!..
Обдумав все, Лансье решил, что не следует придавать значения словам Влахова. Но что-то внутри сосало… Он не мог есть, едва отвечал на вопросы встревоженной Марселины; лег отдохнуть и вдруг, вскочив, побежал к телефону. Руа не оказалось дома. Лансье томился: что, если есть доля правды в словах этого русского? Конечно, я проверял… Но что? Только одно – платежеспособность. Деньги у него есть. А откуда эти деньги? Ведь еще недавно «Агентство экономической информации» влачило жалкое существование.
Так часто бывает – одни тонут, другие всплывают наверх, – успокаивал себя Лансье, но не мог успокоиться. Под вечер он нашел Руа: он должен с ним повидаться сегодня, сейчас же… Руа предложил перенести беседу на завтра, но Лансье настаивал.
– Хорошо, я переставлю другое свидание. Приезжайте в «Сигонь», пообедаем вместе.
У Гастона Руа была своя житейская мудрость, позволявшая ему сохранять присутствие духа при всех обстоятельствах: он был убежден, что жизнь – это скучная, пренеприятная история, в которой имеются восхитительные отступления. Трудно было лишить его аппетита или сна. Он нашел и теперь кухню «Сигонь» безупречной, несмотря на тяжесть обстановки. Лансье показался ему невменяемым: может быть, он пьян? Ведь утром они были у нотариуса, дружески разговаривали, Лансье даже попросил Гастона Руа представить его супруге… А сейчас, войдя в ресторан, он не поздоровался со своим компаньоном, не заметил метрдотеля, который стоял, изогнувшись, с карточкой, и сразу начал выкрикивать:
– Покойный Рош оставил чистое имя!.. Я не позволю над собой издеваться!.. Я – француз, кавалер Почетного легиона!.. Я был у Вердена!..
Руа поморщился, но все же приветливо сказал:
– Прежде всего, дорогой друг, скажите, с чего мы начнем? Я предлагаю начать раками.
Лансье тупо посмотрел на него, салфеткой отмахнулся от метрдотеля и продолжал выкрикивать несвязные фразы.
– Что вас так разволновало? – осмелился спросить Руа.
– Вы.
– Я?..
– Да, вы. Я хочу, наконец, установить, откуда вы взялись.
Это было бессмысленно и бесцеремонно. Гастон Руа вздохнул и начал задумчиво обсасывать рачьи лапки, ожидая, когда Лансье успокоится. Так продолжалось добрых полчаса. Наконец Лансье притих.
– Может быть, вы выпьете стакан рислинга?
– Спасибо. Я себя плохо чувствую. Я, кажется, наговорил лишнего… Вы не обижайтесь, но я выбит из колеи. Вы один можете помочь мне. Вы – мой компаньон, между нами не должно быть тайн. Я вас посвятил во все дела «Рош-энэ». Почему вы не хотите раскрыть мне самое главное?
– Не понимаю…
– Я хочу, наконец, знать, что такое ваше «Агентство»?
– Бог ты мой, я вам много раз объяснял! Мы собираем документацию, анализируем состояние главных отраслей французской промышленности.
– Но для чего?
– Для бюллетеней. Вы их, кстати, получаете.
– Тираж шестьсот экземпляров, подписка триста франков. Почему вы надо мной смеетесь? – Лансье снова повысил голос.
– Вы это знали прежде.
– Прежде я старался не думать.
Водворилось молчание, и Руа обрадовался: кажется, второго приступа не будет. Он заказал копченое мясо, которое было превосходно приготовлено. Подошла девушка, протянула букет; нарциссы казались звездами. В соседнем зале начались танцы, и саксофон требовал любви. Вдруг Лансье, перегнувшись через столик, тяжело дыша в лицо Руа, шопотом спросил:
– А бюро «Европа»?..
Как ни был хладнокровен Гастон Руа, он все же смутился; вилка застыла где-то между тарелкой и губами. Теперь Руа понял, что означали крики Лансье. Положение было нелегким. Руа не чувствовал себя уличенным в чем-то низком, но он растерялся, видя, что партнер знает его карты.
– Если это – немецкие деньги, я не хочу, вы понимаете – не хочу!
Гастон Руа знал, что перед ним счастливчик, проживший жизнь в душевном уюте, ребенок, заброшенный в мир жадности и коварства. Такому человеку трудно объяснить то простейшее, что, по мнению Руа, было законом жизни. Сын разорившегося финансиста, по образованию юрист, Гастон Руа занимался делами не из любви к делам – так сложилась его жизнь. Он не гнался за роскошью, но хотел жить прилично, не отказывая жене и детям в том комфорте, который им казался естественным. Поведение Лансье его оскорбляло. Чем лучше его этот дурак с африканским козлом?.. Да, у Гастона Руа не было богатого тестя, он женился на ровне, трудился как мог… Руа был в частной жизни добропорядочным, аккуратно платил долги, не сплетничал, помогал бедным племянникам и детей своих воспитывал так, чтобы они не свихнулись, не стали ворами или шантажистами. А занимаясь делами, Руа забывал про мораль, он часто говорил, что смешно нюхать сыр, ибо сыр должен вонять. С Ширке он работал, как работал с другими, – без увлечения и без стыда. Он следил за различными предприятиями, и когда они попадали в затруднительное положение, докладывал Ширке. Так было и с «Рош-энэ». Ширке предложил ему финансировать Лансье. Руа – посредник, и только. Все это просто, буднично, даже скучно. Но как объяснить это человеку, который думает, что жизнь состоит из красивых стихов и безмятежных доходов?..
– Я не понимаю, почему вы нервничаете, деньги – это деньги. Здесь нет ни темной аферы, ни чеков без покрытия. В наше время интересы переплетаются… Не думаю, чтобы вы осуждали де Венделя… Я действительно нахожусь в деловом контакте с «Европой». Что тут плохого?
– Но это, – Лансье от волнения терял голос, – это – немцы!
– Я уже сказал вам, что в деловом мире нет границ. Это прежде всего честные люди. Какое мне дело до их национальности?
– То есть, вы сами признаете, что это – немцы?
– Насколько я знаю, мы с Германией не воюем…
– Сегодня не воюем, а завтра…
– Вы сами смеялись над паникерами, говорили, что будет найден компромисс.
– Конечно. И очень хорошо, если Бонне договорится с Риббентропом. Но здесь другое, личное дело… Француз я или не француз?
– С вами сегодня очень трудно разговаривать, вы вносите в сухой прозаический вопрос слишком много страсти. Если будет война, я тоже пойду воевать, можете быть уверены, я ведь лейтенант запаса. Но войны нет, и я убежден, что ее не будет. Это – во-первых. Во-вторых, с «Европой» связан только я. «Рош-энэ» остается французской фирмой. Никто не оказывает давления… Вы сомневаетесь? А один факт присутствия господина Альпера?.. Вы понимаете, что я далек от предрассудков, еврей, католик или буддист, мне все равно. Но в Германии они другого мнения. Если бы Ширке хотел вмешиваться в дела «Рош-энэ», он прежде всего потребовал бы удаления господина Альпера.
– Еще что? Может быть, эти господа потребуют моего удаления?
– Не горячитесь, дорогой господин Лансье, я повторяю – никто не собирается вмешиваться в наши дела.
– Стоп! А что означает история с русскими заказами?
– Ширке тут ни при чем, беру все на себя. Вы знаете, что я не политик, менее всего я собираюсь вносить идеологию в дела. Но я считаю ваш договор с русскими невыгодным. Я вам предложил «Электру» Бильбао. Можно спорить, прав я или не прав, но к «Европе» это не имеет никакого отношения. Если вы не заражены политической горячкой, вы первый признаете, что немцы вообще мало интересуются нашими внутренними делами. Они хотят вернуть себе Данциг, а какое у нас правительство, это их мало трогает. Учтите, что я не поклонник Гитлера, может быть, он и хорош для Германии, но у нас такой режим не продержится и недели. Я только хочу подчеркнуть, что Гитлер вовсе не хочет экспортировать свои идеи, напротив, он их монополизирует, это, если угодно, изоляционист. Возьмите название их партии – «Национальная», то есть чисто немецкая. Их идеи называют чумой. Не знаю… Во всяком случае, этой чумой заболевают только немцы. Другое дело – Москва… Коммунисты имеются повсюду, даже в Патагонии. И русские не довольствуются своей территорией. Вы слышали, как четырнадцатого июля наши дурачки кричали «Советы повсюду», – вот где опасность…
Руа долго говорил о кознях врагов, о том мире, который Франция заслужила. Он чувствовал, что гроза миновала. Лансье притих, он даже съел через силу кусок говядины. Конец обеда выглядел мирно. Саксофон теперь лирически плакал, а нарциссы на столе, увядая, особенно сладко пахли.
Когда Руа подозвал официанта, чтобы расплатиться, Лансье вынул из кармана бумажник, и здесь-то произошло нечто непредвиденное – все снова ожило в его сознании, он прошептал с отвращением «немецкие» и почувствовал острый приступ тошноты. В уборной его вырвало. Он едва доехал до «Корбей». Когда Марселина увидала его очень бледного, с крупными каплями пота на лбу, она испугалась. Он отвечал с трудом:
– Ничего… Не волнуйся… Обедал в «Сигонь» с Руа… Меня тошнит…
– Ты отравился? Что вы ели?
– Нет… Это нервное… Я очень устал…
Он долго лежал с головой, обвязанной мокрым полотенцем. Тень Марселины колыхалась на белой стене. Никогда он не думал, что часы могут так громко тикать. А когда жена в тревоге шепнула: «Морис», он не выдержал:
– Марселина, прости меня!.. Я все погубил, все… Мы должны продать «Желинот». Это ужасно!.. Я не хотел, я сделал все… Утром я подписал с Руа. Но это невозможно. Юридически он прав. Но ты знаешь, Марселина, какие это деньги?
Она в ужасе поглядела на него:
– Краденые?
– Нет. Немецкие.
Он, сказал это и сразу подумал: зачем говорю?.. Что Марселине немцы?.. Она живет в другом мире… Да и вообще я, кажется, преувеличиваю?.. Этот Руа рассуждал логично, трудно что-либо возразить. Действительно, де Венделя все уважают… Но я не могу, вот так я устроен… А Марселина?..
Заслонив широким рукавом лицо, Марселина беззвучно плакала. В ее голове проносились обрывки образов, отдельные слова, как проносятся в холодную ветреную ночь облака по зеленому лунному небу. Война… Морис в длинной синей шинели, небритый… Говорят, что боши возьмут Париж… Господи, только бы не это!.. Неужели Морис мог?.. И, совладав со слезами, она сказала:
– Лучше все продать – и «Корбей», и книги… Морис, ты помнишь Нуази?
Как давно это было! Морис тогда приехал в отпуск. Они хотели отдохнуть, но пришла телеграмма из Нуази. Там лежал в госпитале младший брат Мориса – девятнадцатилетний Рене. Он был тяжело ранен, мучился. Четыре дня они не спали, не разговаривали друг с другом. Потом Рене умер, а Морис уехал в Верден. Говорят, что сердце могут потрясти несколько тактов старого марша, или плеск простреленных знамен, или полустертое имя на памятнике. Лансье и Марселина стояли, потрясенные тенью, – это метался в горячке Рене. Они держали друг друга за руки, у них были глаза лунатиков, широко раскрытые, невидящие…
Потом Лансье прилег на диван, подложил под щеку ледяную ладонь и сразу уснул. А Марселина не спала. Она смутно думала о чем-то большом. Вот и прошла жизнь, была она теплой, хорошей, но не было в ней главного, того, о чем когда-то мечтала строптивая девочка. Ей хотелось понять, в чем это главное, и она не могла, мысли разбредались. А Рене продолжал метаться… И вдруг Марселина подумала о Франции, подумала строго и вместе с тем по-домашнему, как о женщине. Что станет с Францией? Ведь не одного Мориса они обманули… Все говорят, что будет война… Марселина едва сдержала себя, чтобы не разбудить Мориса, – так ей было страшно. Потом закричал петух, и этот сельский звук, обычно радующий сердце, показался ей зловещим. Все, что может перечувствовать человек, она перечувствовала за короткую летнюю ночь и наутро выглядела слабой, постаревшей.
Лансье проснулся, как после попойки, с тяжелой головой. Он начал вспоминать события вчерашнего дня и вдруг увидел в окно Мадо; она шла со складным мольбертом и показалась отцу особенно красивой. Было очень яркое утро, свет дрожал. Лансье пошел в ванную, вода была теплой, пахла хвоей. Лансье брился, и кисточка с пеной ласково гладила его щеки. Любимица Лансье, овчарка Альма, сидела у двери ванной, поджидая хозяина, и стучала хвостом об пол. «Эх ты, барабанщица», – сказал Лансье и окончательно успокоился: он понял, что «черный четверг» миновал. Все-таки вчера он погорячился… Нужно порвать с Руа, но не сразу, чтобы не было скандала. Лучше всего дождаться Альпера – пусть он решает. Альпер приедет не позднее, чем в августе. А сейчас можно позавтракать…
Он вдыхал бодрящий запах кофе. В столовую вошла Марселина. Лансье упрекнул себя: не нужно было ей говорить, вот как на нее это подействовало…
– Я тебя очень прошу, Морис, поезжай сейчас же к Шозару, он сможет быстро продать «Желинот».
Лансье поцеловал ее руку.
– Хорошо, хорошо… Только не огорчайся. Все образуется… Я пошлю телеграмму Альперу.








