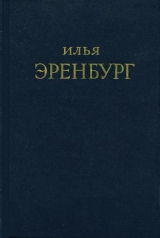
Текст книги "Буря"
Автор книги: Илья Эренбург
сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 63 страниц)
Луна зашла. Небо было красным от зарева: в огромных печах до утра жгли трупы людей, привезенных из Дранси. Над Освенцимом стоял плотный черный дым. Этот дым проникал в бараки, в горло, в уши, в кровь; траурной пылью он садился на землю, на строения, на зеленоватое мутное лицо писаря Гейзлинга.
17
Никогда еще Минаев не видал Осипа таким веселым. Они праздновали Октябрьскую годовщину и взятие Киева. В хате было шумно – приехал редактор дивизионной газеты Чалый, майор Полищук, капитан Леонидзе. Было много тостов, песен, смеха. Чалый рассказал анекдот: «Один американец спрашивает другого: „Почему русские хорошо воюют?“, а тот отвечает: „Им это просто – они не боятся большевиков“». Потом начали танцовать, и всех забил капитан Леонидзе. Полищук пел украинские песни. Осип вспоминал Киев, видел его улицы, сады. Рая с подругами у киоска, пьют фруктовую воду, смеются. Мама в саду с Алей, «сорока-ворона»… Была глубокая осень, а Киев почему-то представлялся Осипу летним, с темнозелеными деревьями, с пятнами солнца среди листвы. Он выпил полстакана водки и вдруг стал рассказывать Минаеву:
– Я когда познакомился с женой, еще ничего не намечалось, она предлагает «пойдем на концерт». Сидим, оркестр играет, она ко мне наклонилась, спрашивает: «Узнаете?» Я в этом ничего не понимаю, а признаться неловко, говорю «да». В антракте она спрашивает: «Что же, по-вашему, исполняли?» А играли они подъемное, не то «Кто с песней по жизни шагает», не то «Кармен», говорю: «Кармен». Она поглядела на меня, как будто в первый раз видит: «Ну и уши у вас»… Оказалось – Бетховен, какая-то симфония. Откуда мне это знать? А я расстроился, пришел домой, вдруг увидел себя в зеркале – уши никуда не годятся – я перед этим стригся, они и торчат. Конечно, я понимал, что Рая не про то говорила, но думаю – она и на уши намекнула, спрашиваю мать – уши у меня обыкновенные или нет? Мама говорит «как у отца», а я отца не помню – он уехал, когда я был маленьким… Потом – мы уж поженились, – я рассказал Рае про уши, она меня лет пять дразнила… Пишет она редко. Понятно, и я себя не могу заставить, а мне легче, Рая – сержант, другая обстановка… Соскучился по своим… Мне бы на Киев взглянуть! Близко… Моих там нет – эвакуировались. Но какой это город! Жалко, что ты не был. Летом там замечательно.
Перед Осипом сверкали солнечные блики, лавра, белое платье Раи, но описать это он не мог.
Минаев потом говорил Оле:
– Чудесный он человек! Я его не сразу разгадал. Вначале он мне действовал на нервы – скажешь что-нибудь, он в ответ обязательно процитирует, я про капусту, а он про диалектику. Только он не сухарь, совсем нет. Натура такая… Я, например, возьму и разведу телячьи нежности, а он стесняется. Знаешь, почему у черепахи броня? Потому что она чувствительная…
Оля робко, но с какой-то внутренней уверенностью сказала:
– По-моему, он хороший, только несчастный.
– Несчастный? Почему?
– Не знаю. Так мне кажется…
– А ты видала, какой он был вчера веселый? Он, когда с тобой танцовал, мне ногу отдавил…
Она улыбнулась и упрямо сказала:
– Очень веселый… И все-таки несчастный…
Дней через десять мечта Осипа исполнилась: дивизию перекинули на Житомирское шоссе, и он увидел Киев. Когда он вышел на Крещатик, он растерялся – того Киева, о котором он столько думал, не было. Под холодным дождем чернели развалины. Осип видел много разрушенных городов, но с ними у него связывалось одно – война; а Киев ему представлялся мирным, таким, каким он его оставил. И вот он на Крещатике. Перед ним не Киев, а все та же война…
Он пошел на Саксаганскую – хотел поглядеть, уцелел ли дом, где они жили, и обрадовался, увидев, что дом на месте; постучался к соседям Яковенко; он их почти не знал, но сейчас они показались ему родными, ведь они жили рядом – давно, в годы счастья… Яковенко был в армии, младшую дочь, Ниночку, немцы отослали на работы, остались Мария Никифоровна и хроменькая Глаша. Увидев офицера, Мария Никифоровна засуетилась; она не узнала Альпера, но каждый военный напоминал ей мужа.
– Садитесь в креслице. Угостить вас нечем, обнищали мы под немцами…
Когда Осип назвал себя, Мария Никифоровна начала плакать.
– Что с вами? – спросил Осип.
– Вашу маму вспомнила, как она, бедненькая, пришла, говорит: «Высылают нас, не знаю, выживу ли, вы уж присмотрите за вещами, пока мои не вернутся…» Мы тогда не знали, что эти звери задумали. А потом пришла Ниночка, говорит: «Всех растерзали, и детей…» Я не поверила, а оказалось, правда… Как услышу про Бабий Яр, не могу удержаться, плачу… В вашей комнате они подлеца поселили, он выискивал, кого в Германию отослать, Ниночку это он загубил…
Мария Никифоровна что-то рассказывала. Осип не слышал. Он сидел, не двигаясь; лицо его, обычно жесткое, замкнутое, выражало такое горе, что, взглянув на него, Мария Никифоровна сразу замолкла, а Глаша убежала на кухню и там разрыдалась. Осип, наконец, поднялся, тихо сказал:
– До свидания, Мария Никифоровна.
Она испугалась:
– Куда же вы?.. Посидели бы со мной…
– Нет, я пойду…
Когда он спускался по лестнице, ему пришло в голову: вдруг она спутала? Ведь Рая писала, что эвакуировались… Он постучал к Куликовым. Дверь открыла старая женщина.
– Я Альпер, – сказал Осип. – Вы были здесь, когда пришли немцы?
– Все время была, намучилась я…
– Мою мать видели?
Он спросил это с отчаянием, его голос дрожал. Куликовой показалось, что он в чем-то ее обвиняет. Она стала поспешно приговаривать:
– Мы-то ничего не могли сделать… Разве они нас спрашивали?.. Они и меня в комендатуру таскали, еле выбралась… Все сундуки перерыли…
– Я вас об одном прошу, скажите, вы видели мою мать и дочку?
– Вечером видела, а когда они уходили, я перепугалась, из дому не выходила…
Он пошел к Бабьему Яру. Пристально глядел он на дома, на деревья, на изрытую снарядами мостовую, как будто хотел запечатлеть в памяти каждую веху того пути, по которому прошли его мать и дочь. Он ни о чем не думал, не осознавал еще всей тяжести потери; только с трудом дышал; ничего не слышал; все шел, шел. Одна мысль пронеслась в его голове: какая длинная Львовская!.. Он не знал, что об этом подумала Хана, когда шла с Аленькой на смерть.
Никого кругом. Вдруг из лачуги выполз человек с мутными, глазами пропойцы. Осип его окликнул:
– Где Бабий Яр?
– Рядышком, поверните направо и сразу увидите. Наверно, родственники у вас? Здесь уж приходили военные, спрашивали… Только ничего вы там не найдете. Когда немцы поняли, что придется им убраться, пригнали пленных, приказали всех повыкопать, чтобы следа не осталось. День и ночь жгли, дышать было нечем… Товарищ дорогой, покурить у вас не найдется?
Вот и Бабий Яр. Местами нет больше яра – засыпали. Песок, смешанный с золой. Маленькие обугленные кости. Мама приходила с кошелкой: «Ося, я тебе малины купила, ты ведь любишь малину… Какой дом построили напротив театра!..» Он обещал Але привезти из Москвы медвежонка, и Аля спрашивала: «Он кусается?..» Друзья, знакомые, с ними рос, жил… Осип стал на колени и приник к мокрому холодному песку.
Давно стемнело, а он все не мог уйти. Теперь он думал о Рае, о силе любви, которая подсказала ей ложь – всю муку взяла на себя, хотела его оградить…
Я столько с ней прожил и не понимал, какой это человек. Удивлялся, что она пошла на фронт, не побоялась ни солдатской жизни, ни смерти. А она больше выдержала – писала мне про Алю. Каково было ей, матери?.. Я ее мучил, писал: хорошо, что эвакуировались, там всех убили, спрашивал, как Аля, выросла ли…
И в ту минуту, когда на песке Бабьего Яра он подумал о Рае, победила жизнь. Можно убить беззащитного, в страхе перед расплатой сжечь тело, развеять пепел, убрать свидетелей, но нельзя уничтожить в человеке самого высокого – любви. Рая оказалась сильнее убийц.
Осип не умел ни писать, ни говорить, не знал, как выразить то, что у него на душе; давно, еще под Сталинградом, он подумал: почему я такой бессловесный, вроде собачки Минаева, она, наверно, тоже что-то чувствует, только не может сказать… Два дня спустя он написал письмо Рае:
«Рая, моя дорогая Рая, прости, что мучил тебя вопросами. Теперь я все знаю. Я был в Бабьем Яру. Ты, конечно, и без моего письма знаешь, какое горе случилось. Слушай, Рая, мы должны с тобою это пережить, слова не помогут ни мне, ни тебе, но я хочу взять тебя за руку и сказать – вот мы с тобой одни, случилось ужасное, и мы с тобой будем жить, не забудем ничего, с этим будем жить. Я теперь знаю силу твоего характера. Сегодня вечером мы уходим на передовую. Не знаю, сколько они убили в Киеве, говорят семьдесят тысяч, цифры ничего не передают, убили живых людей. Этого нельзя простить. Дорогая моя, крепись! После того, что я пережил в Бабьем Яру, я не боюсь слов, хочу сказать, что мы с тобой навеки и это крепче смерти.
Осип».
Увидев Осипа, Минаев сразу догадался – что-то случилось; но он не решался спросить, а Осип молчал. Только несколько дней спустя, когда они осматривали участок Минаева (немцы подвезли свежую дивизию, видимо к чему-то готовились), Осип сказал:
– И маму и Алю… В Бабьем Яру…
Минаев молча сжал его руку. Больше они об этом не говорили.
Последующие недели были такими, что Осип не мог задуматься над случившимся: развернулись тяжелые бои. Казалось, немцы воспрянули духом, вспомнили сорок первый и сорок второй. Конечно, трудно было воодушевить солдат, почти без остановки отступавших от Белгорода и Донбасса; немецкое командование отвело назад наиболее потрепанные части; вместо них поставили дивизии, привезенные с Запада. Как и при курской битве, немецкие солдаты свято верили в «тигры» и «фердинанды». Все были приподняты заданием: вернуть Киев, показать миру, что успехи красных были случайными.
Немецкое контрнаступление началось удачно; после ожесточенных боев немцы ворвались в Житомир, двинулись дальше к Киеву. Командир дивизии генерал Зыков поручил Осипу оборону участка, по которому проходили шоссе и магистраль. Генерал сказал: «Главное, лопата…»
Штаб полка помещался в неглубоких, наспех вырытых окопах на склоне маленького бугра.
– Дай мне Леонидзе, – сказал Осип адъютанту.
Но с Леонидзе связи не было. Минаев ответил, что у него спокойно, если не считать, что «долбят, как на кургане, с ума сошли»… с Полищуком тоже связь порвалась, но оттуда приполз связной, сказал, что немцы подошли к окопам и отхлынули, третий батальон держится хорошо. Все это было в девять часов утра, а в четверть одиннадцатого семь «тигров» подошли к бугорку, где был штаб. Кругом рвались снаряды. Каждый раз приподымаясь, Осип глядел – все ли на месте. Его вызвал к телефону командир дивизии.
– Как у тебя? – кричал Зыков.
– Держимся. Двадцать шесть танков. Прошли через Леонидзе. Семь «тигров» здесь за линией. Попросите, чтобы «катюшами»…
Два «тигра» подбили, остальные повернули направо – на Полищука, третий батальон отошел. Вслед за танками двинулась немецкая пехота; она смяла Минаева. К концу дня штаб полка с двумя ротами оказались окруженными. Осип усмехнулся: как в сорок первом – придется вместо полка командовать двумя ротами. Они продержались сутки. Осип был контужен, разрывалась от боли голова, тошнило. Атаку танков отбили бутылками. К концу дня прорвались к штабу дивизион самоходок, который послал генерал, и батальон Минаева. Осип тотчас поехал к Леонидзе, подбодрил людей. Утром батальон контратаковал, вернул деревушку. День был относительно тихим. Генерал Зыков вызвал Осипа к себе. Осип доложил о положении: все восстановлено, только Полищуку нужно забрать назад хутор – он на возвышении, хорошая позиция… Но у Полищука потери большие. Если бы резервный батальон…
– Что с тобой? – спросил Зыков. – Выглядишь неважно…
– Контужен. Мелочь.
– Ты бы поспал часок.
– Нет, я поеду к Полищуку.
– Погоди, поешь раньше.
Генерал налил водки на донышко больших фаянсовых стаканов и вдруг увидел, что Осип спит. Чорт знает, как люди истрепались!.. Зыков старался есть потише. А Осипа, кажется, не разбудили бы и снаряды, три ночи перед тем он не ложился. Потом он вскочил, помотал головой и уехал к Полищуку.
– Минаев? Слушай, как у тебя?
– Ничего. Оказывается, война продолжается…
Еще четыре дня шли ожесточенные бои: атака, контратака. Потом стало тише: немцы перестали думать о Киеве. Осип проспал шесть часов, помылся ледяной водой – ударили морозы – и взволновался: почему нет писем от Раи? Написал ей: жив, здоров, ждет писем – «в тебе теперь вся моя жизнь»…
18
– Бандиты совершенно распустились, – сказал полковник Шуммер. – За две недели – четыре воинских эшелона… Не знаю, что их вдохновило – убийство генерального комиссара или наступление красных, но с осени от них нет житья…
– Виноваты и наши, – ответил Ширке. – Я здесь десять месяцев и слышу одно – «с русскими нечего церемониться». Вы понимаете, что речь идет не о церемониях. Конечно, во Франции все гораздо легче, но маневрировать нужно и здесь. Русская душа темна, через этот лес можно пройти, можно в нем и заблудиться. Если вы разрешите, господин полковник, я вас ознакомлю…
Он вынул из портфеля листок, исписанный мелким почерком, стал излагать свой проект. Шуммер слушал рассеянно, он думал: а кто, собственно говоря, этот Ширке? По званию – майор, а дальше?.. Ему покровительствовал Кубе. Беднягу Гайнца перевели в строевую часть, как только он назвал майора «самозванцем». Сам Ширке скромничает, говорит, что он «рядовой работник», даже назвал себя «прислугой за все». Наверно, связан с Гиммлером… Во всяком случае, не стоит его озлоблять. И когда Ширке замолк, полковник сказал:
– По-моему, это чересчур тонко для здешнего населения, чувствуется, что вы долго работали во Франции. Но попробуйте… Знаете что, господин майор, я восхищаюсь вашей энергией…
Ширке действительно много работал. Обстановка его угнетала. Вспоминая завтраки с Берти, он усмехался: теперь приходится пугать дикарей. Скрипкой забивают гвозди… Но он не роптал. Положение серьезное, красные наступают; именно здесь, в России, решится судьба национал-социализма. Пусть маменькин сынок Губерт или сибарит Шуммер думают о своей шкуре; такие готовы в любую минуту договориться с англосаксами. А я буду жить, только если будет жить Третий райх!..
В этом наблюдательном и умном человеке была внутренняя ограниченность; его тонкость сказывалась лишь в сложности приемов и в остроте реплик, душа оставалась твердой и грубой, как камень. Слова фюрера для него были не выражением человеческой мысли, а заповедями. В Париже, для того чтобы утвердить господство Германии, он посещал изысканные рестораны, разговаривал с Нивелем о поэзии, держался непринужденно, почти легкомысленно. Здесь он спал в деревянном доме, полном клопов, ел картошку с салом, ходил по городу, не боясь, что его подстрелят, молился в костеле, хотя по паспорту был протестантом и в бога не верил. Он хотел навести порядок; ему мешали дураки и бездельники.
После разговора с полковником он приободрился. Давно уже он настаивал на присылке из Литвы отряда полицейских. Только теперь он смог это осуществить. На листочке, который он держал, разговаривая с Шуммером, значилось «громоотвод». Ширке выбрал молодого полицейского с тупым лицом.
– Как тебе нравятся здешние девчонки? – спросил Ширке.
– Я их не трогал, – ответил перепуганный полицейский.
– И глупо делал. Сегодня же выбери девушку получше и тащи к себе…
– Лучше я подожду…
– В таком случае я тебе приказываю – сегодня вечером ты возьмешь девчонку. Ясно?
Население города могло убедиться, что немцы охраняют справедливость: полицейского, обидевшего девушку, повесили на базарной площади. В разговоре с бургомистром Ширке подчеркнул: «Все эксцессы, на которые здесь жалуются, совершены полицейскими – немцы тут ни при чем»…
Ширке раздобыл в Минске некоторое количество галантереи и канцелярских принадлежностей; в местных лавчонках появились кое-какие товары. Полевая жандармерия арестовала двух обозников, которые отобрали у крестьянки гуся. Ширке вызубрил десяток фраз по-белорусски и прочитал в управе речь: обещал жителям спокойствие, а в дальнейшем и ширпотреб.
Потом он занялся главным – Налибокской пущей. В лесах, кроме красных партизан, скрывались поляки, связанные с лондонским правительством. Ширке давно утверждал, что с ними нужно договориться, но Губерт трусил. Теперь полковник развязал Ширке руки. В домике лесничего он встретился с представителями «лондонцев» (так называл их Ширке).
– Вы нас не любите, – сказал Ширке, – это довольно естественно. Я не собираюсь вам объясняться в люви. Зачем друг друга обманывать? Но я знаю, что вы не любите также русских. Я предлагаю вам деловое соглашение – временно мы воздержимся от враждебных действий. Вы сможете очистить район от красных.
Через полчаса было подписано соглашение. Полякам предоставлялось право приходить в город за покупками, но только днем и мелкими группами, не свыше десяти человек. Обе стороны обязались вести действия против красных. Ширке считал это первой победой.
Из местных жителей Ширке доверял только заместителю бургомистра Василенко. Это был человек лет тридцати, одинокий и болезненный. При поляках он держал мелочную лавочку, занимался контрабандой и сочинял стихи на любовные темы. Когда установили советскую власть, он написал пьесу о легендах Белоруссии и послал ее на конкурс. Как только пришли немцы, он явился в комендатуру. «Вас репрессировали красные?» – спросил его немецкий офицер. Василенко ответил: «Физически нет, но духовно они меня угнетали, я – идеалист».
Ширке сказал Василенко:
– Мне нужен человек с незапятнанной репутацией, чтобы заслать к партизанам…
Поразмыслив, Василенко назвал помлекаря Пашу Кутаса, силача, но человека очень кроткого, о котором, смеясь, говорили, что он снимает шапку перед овчаркой полковника Шуммера. Кутаса ночью арестовали и жестоко избили плеткой. Утром его привели к Ширке.
– Я ни в чем неповинен, – сказал Кутас.
– Возможно. Вас арестовали гестаповцы, я к этому не имею никакого отношения. Я хочу вам предложить выход… Вы отправитесь в Налибокскую пущу, разыщете партизан, скажете, что больше не могли терпеть насилий. Нам нужно установить примерную численность отрядов и сигналы самолетам. Десять тысяч рублей и спокойное существование…
– Они меня убьют, – сказал Кутас.
– Они вас встретят с распростертыми объятиями – у вас самое хорошее удостоверение – вы снимете рубашку и покажете, что с вами сделали гестаповцы. Притом, мы вас не выпустим, вы убежите, мы дадим объявление в «Минскер цейтунг», обещаем награду за поимку…
Кутас хныкал. Ширке подумал: какого дурака мне подсунул Василенко! Я еще не видал у человека таких глаз – овца… Наконец Кутас согласился.
– Не думайте только всерьез перейти к красным, – сказал ему Ширке. – У меня ваша расписка. Если вы окажетесь нечестным, я ее перешлю в НКВД…
Прошла неделя, Ширке ждал вестей от Кутаса. «Лондонцы» сообщили, что произошла стычка с красными: шесть красных убиты. Для начала неплохо, говорил себе Ширке. Но настроение у него было скверное. Контрнаступление на Киев выдохлось. Красные зашевелились возле Витебска. Да и на юге трудно. Ганс пишет из Ангулема, что французы обнаглели, ждут десанта, повсюду террористы. Наступают дни испытаний…
Недалеко от города партизаны напали на колонну. Удалось поймать одного бандита. Гестаповцы долго его допрашивали, ничего не узнали. Полковник сказал Ширке:
– Придется повесить. Я его видел. Молодой, говорит, что студент, лицо обыкновенное, пожалуй, даже симпатичное…
– Если вы не возражаете, – сказал Ширке, – я с ним поговорю. Допрашивать не берусь, уж раз гестаповцы не добились… Мне хочется разобраться в психике этих бандитов.
Шуммер ответил «пожалуйста», а потом, смеясь, сказал Губерту: «Ширке мечтает о литературной карьере. Начал с пуговиц, а кончит психологическим романом. Почти Достоевский…»
Человек, которого привели к Ширке, был действительно студентом педагогического института. Назвать себя он отказался, в бумаге гестапо стояло «Иван». Он поразил Ширке своим взглядом – глядел уверенно, даже вызывающе.
– Садитесь. Если хотите курить, курите. Если считаете, что не можете брать папиросы у врага, не курите. Я вас не собираюсь допрашивать. Я хочу с вами поговорить на общие темы. Кто знает – может быть, я сам колеблюсь в правоте нашего дела?.. Если мои вопросы покажутся вам трудными для ответа, не отвечайте. Я хочу спросить вас, почему вы нас ненавидите?
– Трудно для ответа? – Арестованный усмехнулся. – Каждый ребенок вам ответит. Потому что вы к нам пришли…
– Когда война, всегда кто-нибудь к кому-нибудь приходит.
– Вы начали…
– Мы считаем, что начали вы, а мы вас только опередили. Если вы победите, вы будете утверждать, что начали мы, если мы победим, мы вас заставим признать, что начали вы. Это неинтересно… Я думаю сейчас о другом. Мы пришли в вашу страну как представители более высокой культуры, это бесспорно, достаточно понять, что чувствуют наши солдаты в ваших домах, лишенных примитивного комфорта. Вы можете отрицать расовую теорию, но не факты, – мы действительно выше вас. Почему вы молчите?
– О чем мне с вами разговаривать? Ваши соотечественники вчера меня жгли каленым железом. Вот ваши высоты!
– Вы заносчивы от ощущения своей неполноценности. Вы поглощены одним – ненавистью.
– Не только…
– Чем же еще?..
Глядя в упор на Ширке, человек, который называл себя Иваном, ответил:
– Презрением.
– Забавно!.. К чему? К методам гестапо?
– Не только. К вашей философии, к вашему комфорту, лично к вам…
– Вы наглец, но я понимаю – терять вам нечего. Есть нечто низкое в вашем стремлении принизить врага. Вот перед вами я, немец. Вы сказали, что вы меня презираете. А разве вы понимаете, почему я воюю?
– Может быть от тупости – выполняете приказ, хотя вид у вас скорее подлеца, чем тупицы, может быть от жадности – продавали у себя подтяжки, а здесь вы царь и бог, в лучшем случае вы воюете потому, что вы уверены, что ваша Германия выше всего.
– Как будто вы не уверены в том, что ваша советская Россия выше других стран?
– Я ошибся, когда сказал, что вы скорее подлец, чем тупица, вы и то и другое. Как вы можете сравнивать самопожертвование с самодовольством? Наша идея шире нашей страны, хотя вы могли заметить, что страна у нас не маленькая…
– В чем же широта вашей идеи? В размахе вашего нахальства?
– Это очень просто. Кто здесь с вами? Мошенники, пропойцы, неудачники. Вы сами это чувствуете, вам даже неловко их показывать на официальных церемониях. А с нами Тельман, я думаю, что это самый порядочный немец. Его я не презираю, нет, я его уважаю, меня не смущает, что он немец. И вас я презираю не за то, что вы немец, а за то, что вы фашист.
Ширке махнул рукой – можно увести… Он утомился от разговора. Да, такого не переубедишь… Это борьба насмерть – мы или они. Он сказал полковнику Шиммеру:
– Жалко, что при этом разговоре не было наших «бисмарковцев», они ведь до сих пор считают, что с большевиками можно договориться… Вы его повесите?
– Придется…
– Пожалуй, такого я расстрелял бы…
Сам того не осознавая, Ширке был потрясен человеком, с которым только что разговаривал. Но когда полковник переспросил: «Значит, по-вашему, лучше расстрелять?», – Ширке опомнился и ответил: «Нет, все-таки лучше повесить – доходчивее для населения»…
Ночью он плохо спал: думал о будущем, думал угрюмо, настойчиво и вместе с тем бессвязно, эти мысли походили на невралгическую боль, он чувствовал, что на Германию надвигается буря.
Партизана, который называл себя Иваном, повесили девятнадцатого декабря. Несколько дней спустя, а именно двадцать четвертого, Ширке ужинал у полковника Шуммера. Елку украсили ватой и бумажными флажками. Денщик прекрасно зажарил гуся. Губерт принес патефон. Услышав старую песенку о девушке под липой, Ширке почувствовал, как комок подступил к горлу: эту песню пела когда-то его мать. Ширке был сентиментален, рассказ о несчастной любви, засушенный в книге цветок, звуки шарманки, зрелище заката доводили его почти до слез. Сейчас он был подготовлен к грусти и вином, и музыкой, и воспоминаниями. Он закрыл глаза, ни о чем не думал…
Взрыв был страшным. Полковнику Шуммеру оторвало руку. Губерта убило. Ширке отделался царапинами. На улице стреляли. Когда Ширке выбежал на площадь, он увидел труп часового. Он начал кричать; подбежал солдат, который ничего не соображал от страха, только повторял: «Бандиты, бандиты»… Казармы были на окраине; там солдаты справляли сочельник. Прошло не меньше часа, прежде чем Ширке удалось выяснить, что именно произошло. Из Налибокской пущи пробрались партизаны. Они перебили посты, потом бросили ручную гранату в дом, где жил полковник. На следующее утро Ширке узнал, что с партизанами ушел заместитель бургомистра Василенко. От Паши Кутаса не было никаких известий.
Ширке написал сыну:
«Здесь теперь трудно, но я, как прежде, уверен в нашей победе. Ганс, будь готов умереть за фюрера и за Германию!»








