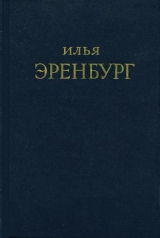
Текст книги "Буря"
Автор книги: Илья Эренбург
сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 63 страниц)
8
Это был маленький город среди гор; хотя окрестности его отличались живописностью, туристы здесь не задерживались – рядом с городом были угольные шахты, и черная пыль забиралась в нос раздосадованного путешественника, густым слоем она садилась на мэрию, на траву сквера, на лачуги рабочих. Немцы, стоявшие в городе, проклинали судьбу, они готовы были примириться с мрачным ландшафтом, но здесь и зимой было неспокойно, а теперь «чумазые» (так называл горняков лейтенант Шмидт) окончательно распустились.
Капитан фон Герлах утешал себя одним – где-нибудь на Немане еще хуже. В беседах с друзьями фон Герлах подчеркивал, что он – «эпикуреец»; он любил шелковое белье, сухое шампанское и досуги. Ему повезло: он не попал на фронт. Прошлым летом, совершенно случайно, когда они искали припрятанное оружие, фон Герлах обнаружил очаровательную картину Буше. Он часто мечтал: кончится война, он продаст картину, купит домик в Швальбахе и женится на спокойной, домовитой девушке – хватит с него и войны и холостяцкой жизни. Лишь бы выбраться отсюда живым!..
Горняки забастовали четырнадцатого июля. До войны в этот день люди танцовали. На подмостках сидели потные музыканты и дули в трубы. Девушки разносили пиво, лимонад. Среди темной листвы платанов загадочно мерцали бумажные фонарики. Танцовали до утра, и площадь перед мэрией казалась огромным бальным залом. Кто тогда вспоминал, что Четырнадцатое июля не только начало летних каникул, танцы и бенгальский огонь?.. Теперь горняки собрались возле памятника Жоресу. Горный ветер приподымал тяжелый трехцветный флаг. На подмостках стояла Полина; издали она казалась статуей; ее лицо освещали лампы рудокопов. Слабый, но чистый голос повторял слова древней клятвы; «Свобода или смерть!» И тысячи голосов отвечали: «Свобода или смерть!..» И эхо разносило далеко окрест: «Смерть!»
Жозет, или, как ее звали теперь, Полина, работала в этом районе с прошлой осени. Она выросла далеко отсюда – на севере Франции, но все здесь напоминало ей детство – тяжелый труд горняков, их угрюмые шутки, суровая доброта. Здесь ее понимали с полуслова, ей верили, говорили друг другу: «Полина сказала…»
Забастовка быстро охватила весь район. Рассказывали, что в некоторых поселках произошли стычки с немцами.
Лейтенант Шмидт, сам не свой, вбежал в кабинет фон Герлаха:
– Нужно сейчас же их разогнать!..
Капитан лежал на диване. Ставни были наглухо закрыты. С улицы доносились крики, звуки «Марсельезы».
– Не говорите так громко, – сказал капитан. – Когда у меня бывает припадок, мне нужен абсолютный покой. Интересно, как вы думаете их разогнать? У нас шестьдесят человек, а шахтеров три тысячи.
– Но у этих чумазых нет оружия.
– Напрасно вы так думаете. Капитан французской жандармерии говорил мне, что у террористов триста или четыреста американских автоматов. Вам бы только воевать… А кто будет отвечать за жизнь моих подчиненных?..
– Но, господин капитан…
– Послушайте, я вам сказал, что у меня припадок. Уйдите и прикажите, чтобы меня не тревожили. А на крикунов не следует обращать внимания. Я, слава богу, три года во Франции. Покричат и разойдутся…
Фельдфебель Краус поджидал Шмидта:
– Что приказал капитан?
– Что он приказал? Чтобы его не беспокоили, у него припадок…
– Может быть, позвать врача?
Лейтенант Шмидт засмеялся:
– Врачи от этого не лечат… Говорят, что генералы умирают в своей кровати, капитан фон Герлах твердо решил стать генералом…
Немцы, находившиеся в соседних поселках, струсив, убежали в город. На улицах шахтеры громко пели «Марсельезу» и «Интернационал». Связная сообщила Жозет, что партизанский отряд, находившийся в соседних горах, решил штурмовать город. Пятнадцатого июля вечером лейтенант Шмидт доложил фон Герлаху:
– Все говорят, что террористы решили прорваться в город. Если мы их пропустим сюда, произойдет катастрофа – они могут вооружить чумазых. Неужели мы должны ждать, пока нас не растерзают?..
Капитан попробовал улыбнуться.
– Мальчику обязательно хочется повоевать? Хорошо, я не возражаю… Жалко, что я не смогу посмотреть, как вы командуете, – я сегодня себя чувствую еще хуже…
Бой длился с полудня до темноты. Немцы потеряли тридцать человек. Были потери и у партизан. Под вечер лейтенант Шмидт приказал отступить в город. Немцы забаррикадировались в казармах.
Триста партизан выстроились на площади. Шахтеры их обнимали, говорили: «Дайте нам оружие, мы пойдем с вами на Альби…» У многих партизан были в городе семьи; они разбрелись по домам. Ночь была горячей, темной и шумной – пели, кричали, поздравляли друг друга.
В мэрии командир отряда Ноэль и Полина обсуждали, как овладеть казармами.
– Сколько у тебя винтовок? – спросила Полина.
– Двадцать восемь, два автомата, сорок три револьвера, тридцать шесть ручных гранат. У большинства партизан нет ничего, кроме ножей. Здесь что-нибудь имеется?
– У AS целый арсенал. Мы устроили координационное собрание, но они не хотят и слышать. А у нас мой автомат и семнадцать револьверов. Все.
В одиннадцать часов вечера фельдфебель Краус подал капитану фон Герлаху запечатанный пакет. Капитан прочитал:
«Как вам известно, город и весь район находятся под нашим контролем. Завтра к нам присоединяется партизанский полк майора Леже с артиллерией и отряд „Либертэ“. Во избежание бесцельного кровопролития настоящим предлагаю вам капитулировать. Все немецкие офицеры и солдаты будут содержаться согласно правилам международных конвенций. Ответ должен быть дан не позднее 6 часов утра 17 июля 1944 года.
Капитан Ноэль».
Фон Герлах вскочил с дивана; он даже забыл о том, что болен… Какой ужас, война кончается, а я здесь погибну! Почему я не в Нормандии? Там все куда проще… Если бы здесь были американцы, я не задумываясь сдался бы… Но нельзя сдаться террористам, они начнут сводить счеты… Я хотел жить в мире с французами, а они даже меня заставляют воевать…
В полночь партизаны, охранявшие мэрию, задержали немецкого солдата. Его провели в кабинет мэра. Полина сидела в кресле. Ноэль спал, подложив под голову свод законов. Немец сразу сказал:
– Я австриец.
Ноэль вскочил и, ничего не соображая со сна, крикнул:
– Автомат есть?
– Нет.
– Чего же ты прилез, если у тебя нет автомата?
– Я вам сказал, что я австриец. Я не хочу больше воевать. Все это зашло слишком далеко, теперь ясно, что немцев расколотят. А я австриец. Там еще есть один поляк, он тоже решил дезертировать. Вы только не думайте, что они сдадутся. Капитан фон Герлах вызывал коменданта Альби. А сейчас лейтенант Шмидт объявил, что мы должны держаться, так как на заре прибудет отряд из Альби с танками…
Ноэль раздраженно сказал:
– Ладно. Убирайся и достань автомат, без этого ты нам не нужен.
Когда немец ушел, Ноэль сказал Полине:
– Дело дрянь. В Альби у них много войск. Придется уйти, не то мы окажемся в ловушке.
– Я попробую еще раз поговорить с Легланом, – сказала Жозет. – У них две сотни автоматов и несколько пулеметов, я это твердо знаю – один из наших был на площадке, когда они принимали…
До войны стоило заглянуть в кафе «Коммерс», чтобы обязательно увидеть там нотариуса Леглана. Он никогда не играл в карты, как другие завсегдатаи кафе, он рассуждал – о прошедших кантональных выборах или о предстоящих парламентских, критиковал кабинет, предсказывал кризис, возмущался то Ватиканом, то Москвой; был он социалистом, потом радикалом, потом снова социалистом, говоря о политике, именовал своего собеседника, будь то старый приятель, не иначе как «гражданином», хватал его за пуговицу пиджака и обдавал брызгами слюны. В сороковом году он вдруг заявил: «Политика мне опротивела, у меня семья, я не авантюрист и не мальчишка». Он тогда сильно трусил, чуть было не выступил с прославлением Петэна, удержала его жена: «Зачем тебе снова путаться в эти грязные дела?..» Теперь Леглан говорил, что уже в сороковом он выполнял какие-то таинственные поручения генерала де Голля. Хотя никто не относился к нему серьезно, он стал руководителем местных AS, даже делегатом лондонского BCRA; все понимали, что без Леглана не обойтись, ведь до войны он был заместителем мэра, председателем городского отделения «Лиги прав человека» и душой «Союза ревнителей светского образования департамента Тарн».
Жозет долго звонила. Было два часа ночи. Госпожа Леглан решила: это немцы пришли за мужем. Увидев Полину, она так обрадовалась, что чуть ее не расцеловала. Леглан был в плаще, который он надел поверх полосатой пижамы.
– Они вызвали отряд из Альби, – сказала Жозет, – если нам не удастся вооружить хотя бы всех партизан, мы пропали…
Леглан зевнул, но сделал вид, что вздыхает:
– Я вас предупреждал, гражданка Полина, что это бессмысленная авантюра…
– Все может измениться, если вы предоставите нам оружие…
– Я вам удивляюсь, вы общественный деятель, представительница FTP, а рассуждаете, как ребенок. Я могу вам предоставить мой дом, мой револьвер, мою жизнь. Нас спаяла совместная работа, опасность… Но оружие – это не моя собственность, это собственность республики. Нам его дали не для мальчишеских авантюр, а для «дня J».
– Всю весну вы говорили, что «день J» это высадка союзников. Прошло шесть недель…
– Вы меня не так поняли, «день J» может растянуться на несколько месяцев. Мы выступим, когда из Лондона объявят о всеобщем восстании.
– Но восстание началось.
– Преждевременно. Восстание будет происходить по зонам в зависимости от приближения союзных войск. Вы руководствуетесь интересами одной партии, одного класса, а мы думаем о нации. Наша цель – облегчить союзным войскам освобождение Франции. А союзные войска еще в Нормандии, значит от них до нас свыше тысячи километров.
Жозет встала.
– Я не понимаю – кто вы? Французы? Или, может быть, представители «Интеллидженс сервис», квартирмейстеры американцев?
Самообладание покинуло Леглана, он подбежал к Жозет и, обрызгав ее слюной, выкрикнул:
– Мы – французы со дня рождения, а вы стали французами по приказу – двадцать второго июня сорок первого. Ясно?
Жозет задумчиво, тихо, как будто говорила сама с собой, ответила:
– Я это уже слышала – в тридцать девятом, когда вы сажали нас в тюрьмы и готовились к капитуляции. Вы и теперь боитесь не немцев, а рабочих. До свидания, господин Леглан, простите, что я напрасно вас потревожила.
Было еще темно, когда партизаны оставили город. С ними ушло много шахтеров. Ушли и семьи руководителей забастовки. Ноэль приказал разбиться на небольшие группы. Они должны были встретиться возле перевала: туда немцы не сунутся. Жозет вела группу семейных шахтеров. Возле Катррут они увидели немцев. Немцы закричали: «Стой!» Это было в долине, покрытой большими камнями и серой колючей травой. Увидев, что несколько человек исчезли за камнями, немцы начали стрелять. Жозет крикнула:
– Уходите!
Она легла у камня и дала очередь. Два немца упали; остальные залегли и открыли огонь. Шахтеры, женщины, дети были уже в безопасности: они успели доползти до склона горы с узкими, глубокими расселинами.
Немцы двинулись дальше: спешили в город. Когда шахтеры подбежали к Жозет, она лежала, обхватив камень руками. Лицо ее выражало напряжение, не ослабленное смертью, казалось, она все еще стреляет. Шахтеры понесли тело Жозет наверх. Ее похоронили возле перевала под широким вязом. Никто не знал, как ее настоящее имя, знали только, что она родилась в Пикардии в семье горняка. И товарищи написали на ее могиле:
«Полина. Дочь шахтера, дочь народа. 17 июля 1944».
Лейтенант Шмидт восторженно размахивал руками:
– Террористы убрались восвояси!..
– Я не понимаю, чему вы радуетесь, – сказал фон Герлах. – Сегодня ушли, завтра они снова появятся…
И капитан фон Герлах подумал: вот если б я мог отсюда уйти, взять Буше и уйти в Швальбах. Нет, кажется, я не выберусь… Хорошо быть таким идиотом, как Шмидт, – он воображает, что теперь сороковой год… И фон Герлах свалился в изнеможении на диван…
– Скажите, чтобы меня больше не беспокоили.
Старый вяз стоял, как часовой, над могилой Жозет.
В этих местах мало лесов; деревья живут одиноко и сосредоточенно; их хорошо знают все жители окрестных деревень, говорят: «я отдохнул под ясенем мельницы», «мы встретились с Мари там, где старый клен», «приходите к платану у ручья». Партизаны обсуждали новый поход на город, и товарищ, приехавший из Альби, передал Ноэлю: «Встретимся под старым вязом». Ноэль ждал его и вспоминал Полину: сколько силы было у этой маленькой женщины!.. Потом Ноэль прислушался к несмолкаемому шелесту листвы, подумал: шумит, а о чем, непонятно… Язык дерева был прост и загадочен, как та музыка, которую любила Жозет.
9
Мамуля – молодец, какие она письма пишет, – говорил себе с укором Минаев, когда на него находила тоска четвертого года войны. А Мария Михайловна за последнее время начала сдавать; конечно, ни за что не написала бы она об этом Мите. Днем она еще крепилась, но стоило прилечь, как все начинало болеть. Она и прежде любила спать, подложив под голову несколько подушек; а теперь среди ночи подымалась, сидела в темноте с раскрытыми глазами и думала – о Мите, о соседях, о войне: мысли от усталости путались, но сон не шел.
Многое переменилось в жизни коммунальной квартиры, которую Минаев называл «ковчегом». В комнату Паршиных въехала чета Казаковых: потом вернулись из Барнаула Паршины; Казаковы не хотели выезжать; райжилотдел говорил, что Паршины не внесли во-время квартирной платы, райпрокурор взял их сторону; тяжба длилась четыре месяца, наконец Паршины въехали. Мужа Шурочки тяжело ранили прошлой осенью возле Гомеля; он приехал без ноги, стучал костылями, говорил Шурочке: «Я тебе обуза», она отвечала: «Неправда, люблю больше прежнего, и брось думать, как-нибудь проживем…» Сын Ирины Петровны Ковалевой снова отличился; весной он приезжал в отпуск, получил орден в Кремле; он заполнил квартиру топотом, матросскими словечками, рассказами о далеком северном море. Дочь Ирины Петровны, Наташа, вышла замуж. Из Алма-Аты возвратилась жена Кацмана и, войдя в квартиру, громко расплакалась: все здесь напоминало ей Гришу. Война давно ушла от подмосковных дач в Польшу, на Карпаты, к границам Германии. Людям стало легче, и может быть от этого им стало тяжелее. Ирина Петровна прежде не замечала житейских трудностей; теперь она огорчалась, что не отоварили карточки или что выключили свет. За три года все переработались, изнервничались. Вдруг Ирина Петровна поссорилась с Паршиной из-за какой-то кастрюльки, и ей самой стало стыдно: как будто война кончилась… Глядя на улицы Москвы, можно было забыть про войну – много машин, народу, кажется, больше, чем до войны; говорят о билетах в театр, о комнатах, о пайках, абонементах. Этот облик был обманчивым. Конечно, к войне привыкли: привыкаешь ко всему, привыкли к победам, говорили: «Сегодня два салюта, один за Псков, второй я пропустила…» Привыкли к разлуке. Но за этим внешним спокойствием таились тревога, горе о потерянных, надежда на близкую встречу.
Когда Кацман глядел вечером на небо, расцвеченное зелеными и красными огнями, он особенно остро чувствовал, что никогда уж не вбежит в комнату Гриша с криком: «Папа, выиграли динамовцы со счетом три – один…» И когда диктор повторял «вечная слава героям», Давид Григорьевич вспоминал первый год войны. Тогда не было ни ракет, ни торжественных залпов…
Мария Михайловна теперь больше прежнего боялась за Митю. Женился, тут бы им тихо пожить, а они оба воюют… Ночью она прислушивалась: то стучали костыли Волкова, то из комнаты Кацманов доносился приглушенный плач – Анна Борисовна плакала только по ночам, когда муж уходил в газету. И Марии Михайловне становилось страшно, она вынимала из комода письма Мити, фото своей новой невестки, карточку сына, снятую с удостоверения, глядела на них, подносила к губам, сжимала в руке, будто хотела защитить от смерти хрупкое счастье.
Был горячий июльский день. Мария Михайловна шила, когда ее окликнул Кацман:
– Посмотрите в окно…
По Садовой вели пленных немцев. Постучался Волков – попросил разрешения поглядеть – его окно выходило на двор.
Внизу на тротуаре толпились люди; не было ни криков, ни смеха. На немцев глядели молча: это молчание было тяжелым; и некоторые немцы не выдерживали взглядов женщин – отворачивались.
Никогда Мария Михайловна не могла себе представить, как выглядят люди, которые причинили всем столько зла, убили Гришу, искалечили Волкова. Она глядела на немцев, стараясь понять что-то очень важное.
Впереди шли генералы; и, взглянув на одного, Мария Михайловна покачала головой; старый человек – и не стыдно такому?.. Потом показались офицеры. Среди них было тоже много пожилых. Колонна остановилась. Глаза Марии Михайловны встретились с глазами одного офицера; все в ней похолодело – столько злобы было в его взгляде. Она тихо сказала:
– Настоящие убийцы…
Волков проворчал:
– Нагляделся я на них…
Он ушел к себе. А Кацман больше не глядел в окно, он сел на кровать, и был у него такой удрученный вид, что Мария Михайловна села рядом.
– Поймали их, пусть города строят, окаянные, людей им не воскресить…
Кацман сказал:
– Вам показалось – убийцы, а я даже этого не почувствовал. Идут самые обыкновенные, если их переодеть, никогда не скажешь… Жуют что-то, разговаривают, смеются. А они живых детей закапывали… Вот это самое страшное – из людей можно сделать все. Ведь и эти были маленькими… А Гриша…
Он не договорил. Мария Михайловна его обняла:
– Рождаются все одинаковые, это правда, а вот что вдохнуть в человека… Я о душе говорю… Давид Григорьевич, вы вот о чем подумайте – победил Гриша…
Среди пленных шагал и Ширке. Он с любопытством разглядывал город, людей. Большие дома, как в Берлине, и рядом избушки. Слишком много народу… Ширке ждал, что русские будут ругаться, может быть кидать камни, но русские молчали, и он с отвращением подумал: Восток… Нельзя было поручать Риббентропу переговоры с Англией. Лучше было бы тогда уступить англичанам, расположить к себе американцев и раздавить этих… Вряд ли мы теперь выиграем войну. Придется отложить все на двадцать лет… Интересно, будут ли нам регулярно выдавать папиросы?.. Держался он осторожно, обдумывал – стоит ли присоединиться к тем офицерам, которые выступают против фюрера? Если считать, что мы проиграем, нужно присоединиться – сохранить себя для будущего. Рано или поздно американцы и англичане подерутся с красными, тогда придет наш час… Какие невыразительные лица у русских! Вот в окне старик и старуха, тупо глазеют, не чувствуется даже злобы…
Рядом с Ширке шел какой-то капитан. Он сказал:
– Это ужасно!.. Они на нас смотрят, как будто мы не люди… Лучше бы ругались…
Ширке пожал плечами. Вот из-за таких мы гибнем – капитан, а раскис… Вокруг фюрера много трусов, двурушников. Говорят, что красные уже недалеко от границы… Все равно, свое мы возьмем. Ганс пройдет по улицам Москвы не так, как я, он пройдет победителем…
Вдруг какой-то малыш показал на Ширке пальцем и крикнул:
– Мама, фриц какой страшный!..
Мать улыбнулась:
– Глупый, чего ты боишься, он теперь в наморднике…
Вечером Мария Михайловна написала сыну:
«Дорогой Митенька!
Сегодня провели убийц по Москве, потом мыли мостовую, а я все думала, легче камень отмыть, чем таких, как их ни мой, добела все равно не отмоешь. Мы потом долго разговаривали с Давидом Григорьевичем, он правду сказал, что можно из человека все сделать, я только не могу понять, как они понаделали столько подлецов? Один шел, я даже не понимаю, как удалось его поймать – настоящий рецидивист. Письма твои веселые, но я ведь знаю, что ты смеешься, когда у тебя кошки скребут на сердце. Напиши, как здоровье, и про Оленьку напиши побольше. Теперь скоро все кончится, когда вели, я изумилась – может быть, сто тысяч было, не знаю. А за меня не волнуйся – здорова, работаю и терпеливо жду, когда вы приедете, мои дорогие».
Она долго сидела, не раздеваясь, из глаз тихо текли слезы. Потом она вздрогнула: чего я расплакалась? И сама себе ответила: людей жалко…
10
Генерал фон Зальмут сказал: «Полковник Габлер трус, такого следует разжаловать». А несколько дней спустя генерал поздравлял Габлера: «Вы во-время выскользнули из петли. Это блистательный маневр…» Габлер усмехнулся: вот до чего докатились – отступление уже представляется победой…
Дивизия, которой командовал Габлер, избежала участи других частей, входивших в девятую армию. Трудно сказать, что спасло Габлера – его хладнокровие или паника, овладевшая солдатами, вероятно, и то и другое – видя, как настроены люди, Габлер, наперекор приказу, поспешно отвел дивизию назад.
Об опасности, которая грозила их дивизии, Рихтер узнал от полковника. Правда, и раньше он слышал страшные рассказы о Минске, о бобруйском котле, но он давно понял, что ничему нельзя верить – один говорит, что американцев скинули в море, другой рассказывает, что красные ворвались в Восточную Пруссию, третий уверяет, что «фау» уничтожили начисто Лондон, и потом все это оказывается баснями. В газете ничего не найдешь – заклинания с восклицательными знаками или мелкие боевые эпизоды. Говорят, будто у фюрера припрятано новое секретное оружие, которое решит все; может быть, и это выдумки…
Хорошо, что нам дали передохнуть, помылись, выспались, появилось нечто человеческое. Я, например, вспомнил, что есть Гильда. Это интереснее, чем «фау»… Только, кто ее знает, что она теперь делает? Наверно, нежничает со своим итальянцем… Во всяком случае, приятно, что я снова могу об этом думать…
Никогда Рихтер не видел полковника Габлера в таком возбужденном состоянии. Он грыз погасшую сигару, стучал ладонью о стол. Рихтер подумал: уж не попали ли мы в новый котел?
Габлер сам заговорил о катастрофе:
– Может быть, это менее эффективно, чем Сталинград. Траура не объявили… Но для нас удар еще страшнее. От Центральной группы остались клочья. И это не на Волге… Вы знаете, где мы с вами? В Польше.
Рихтер сказал:
– Я был в этой деревушке перед самой войной. Отсюда мы начали…
– Не могу вас поздравить с таким возвращением. Я знаю, что вы не виноваты. Наши солдаты сражались замечательно. Но что вы хотите… Если до сорок второго мы побеждали, то не благодаря этим крикунам, а вопреки им, они и тогда ставили палки в колеса. Теперь, когда Германия накануне гибели, они сводят свои счеты с армией…
Рихтер решил, что у Габлера неприятности по службе – фельдфебель Энгель рассказывал: полковника обвиняют в малодушии. И Рихтер осмелился сказать:
– Когда дело дойдет до фюрера, он поймет, что вы спасли нашу дивизию.
Габлер невесело улыбнулся, показав длинные редкие зубы. Раздался телефонный звонок. Полковник взял трубку и тотчас в раздражении ее отбросил. Он крикнул Рихтеру:
– Можете итти! – И, опомнившись, протянул руку: – Простите, но я очень занят…
Рихтер ушел в смятении: тревога полковника передалась ему. Он хотел рассказать своему новому приятелю, фельдфебелю Энгелю, что у полковника, видимо, много недоброжелателей, но Энгель не дал ему раскрыть рот:
– Что ты скажешь? Как, полковник тебе не сказал? Два часа назад объявили… В фюрера бросили бомбу, но он невредим.
Это было настолько неожиданно, что Рихтер спросил:
– Кто бросил? Англичане?
Энгель фыркнул:
– При чем тут англичане! Немецкий офицер. Замешан генерал-полковник Бек…
– Ничего не понимаю…
– Никто ничего не понимает. Но спрашивать не советую – можно взорваться без всякой бомбы…
Вот почему Габлер был в таком состоянии. Возмутительно – красные подходят к границам Германии, а какие-то подлецы сводят свои счеты с фюрером! Хотят повторить восемнадцатый год… Неужели генерал-полковник мог спутаться с коммунистами? Непонятно…
Рихтер вскоре отвлекся от высокой политики: пришла почта. Гильда писала, что в Вернигроде «ужасное настроение», но она старается не поддаваться пессимизму, играет в теннис с «одним скромным архитектором» и ждет приезда Курта. Рихтер ругался: что она называет «теннисом»? Хотел бы я поглядеть на наглую морду этого скромного архитектора! Лучше уж итальянец, или банкир, или землекоп. Должна быть примитивная порядочность: жена архитектора не смеет изменять мужу с архитектором…
Они долго оставались в этой нищей деревушке. Рихтер невольно вспоминал прошлое, июньскую ночь, наивные глаза Клеппера, силуэт Марабу. Никого не осталось из прежних. Клеппер погиб, когда они удирали из-под Москвы. Было холодно и паршиво на душе – никто еще не представлял себе, что такое настоящее поражение. Клеппер был хвастунишкой, но не плохим парнем. Он мечтал жениться на какой-то девчонке, показывал фотографию. У него был в Гамбурге хороший дом. Наверно, и дома теперь нет… В ту зиму убили унтера Бауэра. Это был тихий, скромный человек, Марабу уверял, что Бауэр скрытый предатель – он слишком мягко разговаривал с русскими. А убил его русский… Где же тут логика! Бедняга Марабу, он много читал, но он думал абстрактно, такой человек не создан для жизни. Он погиб, когда мы наступали на Курск, верил, что мы пройдем… Это был ужасный бой в траншее. Русские рассвирепели. Странный народ русский – в общем добряки, а если его разозлить, он ничего больше не помнит… Переводчик Браун говорил, что Эдип когда-то решал загадку: кто победит, русский или чорт, и Эдип ответил: «Зависит от того, какой чорт – русский или прусский, если русский, то может победить чорт»… Брауна убили в Ржеве, он сидел и писал докладную записку «О моральном состоянии русских», а тут разорвалась мина… Когда удирали от Десны, погиб Таракан. Вспоминаешь и как будто идешь по кладбищу…. Рыжий Карл еще недавно кричал, что осин хватит для всех красных и вот нет Карла, он пропал при последнем отступлении вместе с обер-лейтенантом Газе.
Рихтер предавался печальным воспоминаниям, когда прибежал фельдфебель Энгель, чрезвычайно возбужденный:
– Полковника Габлера арестовали. Из штаба прибыл генерал Гельвитц и принял командование дивизией…
Энгель был единственным человеком, которому Рихтер доверял, он сказал:
– Но ведь это ужасно! Полковник нас вывел из котла. За Ржев он получил благодарность от фюрера. Скажи, ты что-нибудь понимаешь?..
Энгель поглядел на Рихтера маленькими хитрыми глазками:
– Здесь можно или ничего не понимать, или понимать слишком много, а это опасно…
– Но все-таки… Ты допускаешь, что полковник замешан?..
– Сейчас я тебе все объясню, как будто я работаю три года в РК. Старые военные это реакционеры. Они считают, что положение критическое, и хотят договориться с плутократами. Ведь не с большевиками им разговаривать… Ну, а для таких переговоров нужна соответствующая обстановка. Вот они и решили убрать неподходящих. Ясно, что это предатели, и Габлер предатель…
Рихтер понимал, что Энгель в душе сочувствует полковнику, но боится признаться. Дело не в Энгеле… Значит, Габлер был с заговорщиками, вот почему он так волновался… Это хороший военный, типичный представитель старой Германии. Он был прав – американцы могут разговаривать с военными, с духовенством, с Брюнингом, но не с наци… А положение отвратительное, даже из газет видно. Американцы заняли Бретань, наверно, они пойдут на Париж, а красные у Вислы. И этот сумасшедший вешает немецких генералов. Рихтер вздрогнул оттого, что в мыслях назвал фюрера сумасшедшим; но тотчас поддержал себя: я так думал уже в тридцать восьмом. Тогда мальчишки восторгались, а я говорил Гильде, что это плохо кончится. Слава богу, я не наци. Меня заставили воевать… А я хотел мирно жить, строить дома и только… Позавчера сообщили, что в заговоре замешан полковник Вильке. Естественно – разведчики знают больше других. Впрочем, Вильке ничего не знал, накануне войны он говорил о «полумирном проникновении». Война это игра в кости… Теперь самое главное уцелеть, было бы слишком глупо погибнуть за пропащее дело.
С этого дня Рихтер стал мучительно думать об одном: как выбраться из пекла. Рождались самые странные планы: нечаянно ранить себя в присутствии офицера, чтобы не могли обвинить, заявить, что у него важные данные об измене Габлера, но он может их раскрыть только в Берлине, разыскав там старый дневник, дезертировать и упросить какую-нибудь польку, чтобы она его спрятала до конца войны. Он понимал, что все это вздор. Энгель, который был до войны владельцем обувного магазина в Шарлотенбурге, как-то сказал:
– В общем, мы недалеко от дома…
И Рихтер размечтался: вдруг все кончится благополучно – будем отступать, отступать, и неожиданно я увижу Гильду. Пусть целуется с тем архитектором, наплевать, лишь бы до нее добраться…








