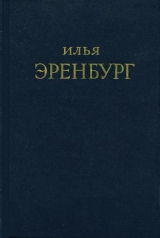
Текст книги "Буря"
Автор книги: Илья Эренбург
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 63 страниц)
16
В долгие бессонные ночи Валя много передумала. Она посмеивалась над собой: хочу понять все. На самом деле, она начала понимать себя. Глядя на прежнюю Валю, она видела, что жила не так, как хотелось, мечты о кино были детскими и случайными – она тянулась к искусству, потому что у нее не было личной жизни; чувства, не нашедшие выражения, уводили ее в мир вымысла. А когда она встретила Сергея, все переменилось; она остыла к своей давней мечте, могла бы сидеть в учреждении, как Рая или Галочка, и быть счастливой. Она не успела переделать свою жизнь – ведь женой Сергея она стала за два месяца до войны, не успела даже сказать Сереже, как ей хочется ребенка.
Почему она пошла на литерный завод? Конечно, она понимала, что время грозное, самолеты важнее кино; но одного сознания было мало, чтобы Валя, которую мать называла «сонной», привыкшая жить в призрачном мире, очутилась у токарного станка. Сергей не удивился, он был настолько поглощен войной, что это показалось ему естественным. Его удивило бы, если бы он узнал, что Валя может целую неделю не читать газет, не слушать радио. Она то по сто раз повторяла себе слова сводки, то, желая понять сущность войны, переставала за нею следить, не знала, где проходит линия фронта, не представляла себе, что такое «артподготовка» или «пикировщики», о которых ей писал Сергей.
Валя, как и другие, была потрясена общим несчастьем; но, думая о происходящем, она неизменно возвращалась к своей личной судьбе: она нашла жизнь как раз перед тем, как жизнь у всех отняли… Работу на заводе она выбрала как самое далекое от того, чем жила прежде, – хотела оттолкнуться от прошлого. Работа была трудной, и она этому радовалась: физическая усталость мешала думать (Валя себе говорила: так лучше не распускаешься).
После расставания с Сергеем она не жила, а ждала жизни, вначале горестно и вдохновенно, потом, почти год, терпеливо, а последнее время с отчаяньем. Это не сказывалось на работе; товарищи не замечали происшедшей в ней перемены. А Валя уже не могла сосредоточиться, вспомнить связно прошлое, написать Сергею нежное, но спокойное письмо.
Валя прежде не видела жизни, не различала людей, жила среди выдуманных ею персонажей. Когда она читала о подвигах партизан, ей казалось, что это написано про отца. Может быть, и он взрывает поезда?.. Она ничего не знала о судьбе своих киевских друзей; но когда заговаривали о Киеве, ей становилось невыразимо грустно, мерещились печальные сады, крутые подъемы. Внезапно раскрывающаяся туманная даль, зеленый, смуглый, смутный город.
Наташа написала, что у нее сын, от Васи по-прежнему нет известий. Валя проплакала ночь – жалко было Васю, Наташу и страшно – что с Сережей?.. Нина Георгиевна звала Валю к себе: «Работать сможешь и здесь, а вдвоем легче…» Валя не поехала, боялась, что с матерью Сережи будет еще тяжелее – даст волю тоске. Здесь она была одинока, хотя и было у нее много знакомств: как всегда, она была приветлива, помогала товарищам, слыла отзывчивой. Она затаилась, стала суеверной, загадывала – если увижу девушку в зеленом берете, будет письмо, если завтра в смене окажется Шумов, кончится благополучно… Она сердилась на себя: как старая бабка, так легко сойти с ума!.. Но страх перед судьбою был сильнее. Она пробовала читать, брала книгу и вскоре ее откладывала: сложные коллизии романа казались ей ничтожными по сравнению с действительностью.
Только письма Сергея ее поддерживали. А он писал нерегулярно: то пишет три дня подряд, то пропускает несколько недель, вдруг прорвется в одной строке любовь, и Валя оживает, приподымается, а потом – сухой рассказ о военных буднях или три слова: «Здоров. Пиши. Целую».
Перечитывая одно из последних писем, Валя вдруг догадалась, где Сергей. Она долго стояла возле забора, на котором был наклеен старый, разодранный номер «Красной звезды», – там она увидала корреспонденцию из Сталинграда. Когда Валя прочитала: «мир, сколько он стоит, не знал таких боев, как эти», она поняла – там ад, настоящий ад, нельзя пробыть и минуту… А Сережа там…
В ней смешивались восторг перед мужеством Сергея и ужас, тот темный ужас, от которого хочется кричать.
То, что переживала Валя, было уделом многих; но у других были лекарства – увлечение работой, заботы о домочадцах, разговоры о мировых событиях, о приезде в Москву Черчилля, о втором фронте, о борьбе партизан Югославии, трудности повседневного существования – появление или исчезновение молока, экспедиции за мешком картошки, поиски дров перед надвигающейся зимой, доклад о военном положении или премьера пьесы «Русские люди». Валя относилась безразлично к быту, не замечала, что дают в столовке, не мечтала об обновках; когда изредка шла в театр, с трудом заставляла себя сосредоточиться и следить за действием. Все ее мысли, все чувства были заняты одним: что с Сережей? Неуравновешенная натура, богатое воображение, обостренная чувствительность, которые прежде приводили ее к искусству, теперь увеличивали терзания. Слыша рассказы про фронт, про поле с воронками от снарядов или про минометный обстрел, она представляла себе безжизненный пейзаж луны, с кратерами и озерами, гигантские леса из проволоки, мир, изъеденный кислотой, покрашенный медянкой, молнии, которые поражают онемевших, оглохших, бесчувственных людей. Кошмары, мучавшие по ночам матерей, жен, невест, преследовали ее и наяву. Она носила на себе маленькую фотографию Сергея, снятую с удостоверения, чтобы выдуманный облик позеленевшего и мертвого не заслонил бы живого – минутами она не могла вспомнить лицо Сергея.
С середины октября на заводе стали готовиться к торжественному вечеру. Товарищи знали, что Валя училась в киноинституте, между собой называли ее «актрисой» – иногда ласково, иногда пренебрежительно. Парторг Жолтяков сказал ей: «Ты нас выручи, из театра приедут, но сказали, чтоб и свои выступили…» Валя долго отказывалась: «Я это давно бросила… Не смогу…» Суеверно она боялась, хотя бы на час, вернуться к прошлому. Но Жолтяков настаивал, и пришлось согласиться.
В большом бараке, где помещалась столовая, было туманно, лампы расплывались. Люди стояли в проходах, в раскрытых дверях, забрались на эстраду. Валя должна была прочитать три стихотворения, все про войну, боялась – вдруг забуду? – как будто она и не зналась с искусством.
Читала она хорошо, и волнение, несколько раз прерывавшее ритм стиха, усиливало впечатление: сказались тоска, страх за Сергея, те ужасные картины, которые стояли перед глазами; она вкладывала в слова другое, только ей понятное содержание. Особенно хорошо прочитала она:
И между сабель, шпор, сапог,
До пояса не доставая,
Внизу, как тихий василек,
Бродила девочка чужая…
Это были стихи о ребенке среди непонятной, страшной битвы. Читая их, Валя растерянно улыбнулась, и как всегда, когда она улыбалась, лицо ее стало необъяснимо привлекательным. Все вдруг увидели ту самую девочку с голубыми глазами на поле боя… Когда она кончила, долго не смолкали аплодисменты. А она стояла, очень бледная, с той же смутной улыбкой.
К ней протискался военный:
– Разрешите фронтовику пожать руку. Выразили… За душу хватает…
Актер Орловский, который должен был выступить вслед за Валей, засмеялся:
– Убили, после вас нельзя выступать… Нет, я это серьезно говорю, настоящий талант, необходимо учиться…
Орловский не кривил душой: Валя действительно его тронула. Он любил искусство, как может его любить одинокий актер, измученный халтурой, знающий, что есть игра, которая заставляет сухих людей плакать, ломать руки, вспоминать обеты верности, итти на смерть. Валя ничего ему не ответила. А Жолтяков с гордостью сказал: – Она у нас актриса, до войны уже училась…
И Жолтяков, поздравив Валю, добавил:
– Орловскому понравилось…
Будь это прежде, Валя расцвела бы: значит, что-то во мне есть, буду актрисой… А теперь, глядя на Орловского, она подумала: какие у него грустные глаза, наверно, тоже мучается, как все…
Пела певица. Люди шумели. Падал первый снег. А Валя шла домой как завороженная – перед нею снова было зеленое лунное поле, ночь, смерть. Она тихо сказала: «Сережа»… Никто не отозвался. Его нет, он в Сталинграде…
17
Это был обыкновенный день, так же, как накануне и как неделю назад, били минометы, так же пошли восемь немецких танков на артиллеристов Шилейко, так же Левин оперировал раненых и так же с левого берега на правый шли тяжелые баржи. Зонин, ругаясь, брился, зеркала не было, и он все время водил рукой по щекам, проверял, где колется; ему хотелось выглядеть понаряднее. Первый он поздравил Сергея и сам усмехнулся:
– Похоже на все, что хочешь, только не на праздник…
Зонин стал вслух припоминать, как встречал он праздник в сороковом – перед войной. Это была длинная история, где все смешивалось: парад, два билета в театр, Козловский, ужин у брата и Маруся. Сергей плохо слушал – хотелось спать. Хоть бы раз как следует выспаться!.. В Париже было запрещено ночью сигналить, Лансье объяснял, что гудки вредно действуют на нервную систему, сокращают продолжительность жизни. Оказывается, можно жить и здесь… Это никогда не кончится: правее мы не можем перейти на правый берег, левее немцы не могут нас скинуть на левый, десять метров возьмут, потом мы отберем… Метров мало, много жертв. Полковник обещал пополнение…
Принесли армейскую газету, красные цифры – XXV. Ему было семь лет… Он помнит, как дребезжали тарелки на буфете, мама не позволяла подойти к окну, а очень хотелось. Пришел отец, у него была красная повязка на рукаве, сказал: «Нина, поздравляю, юнкера сдались…» До августовской бомбежки здесь было много детей. Что они вспомнят через четверть века?.. Наверно, все покажется другим, нас приоденут, наваксят сапоги, заставят говорить историческими фразами. Не приводить же в школьных книгах ругань саперов!.. Двадцать пять лет, это полжизни человека… За границей думали – два года, ну пять, и перебесятся. Может быть, они и теперь считают, что долго не протянем. А мы протянем. Самое страшное было в августе… Выспаться, тогда можно все начать сначала… Скоро на Волге покажется лед… Говорят, что человек – это нечто очень хрупкое. Вертер умер из-за несчастной любви. А приведи сюда бегемота, он не выдержит и дня… Зонин говорит, а я не слушаю, он рассердится…
– Маруся любит МХАТ, а мне нравится, когда в театре не как в жизни…
Разве Зонин не хрупкий? Все хрупкие, а немцы ничего не могут поделать. Может быть, это действительно войдет в историю, как Царицын?.. Я слышал Сталина в тридцать восьмом, он говорил спокойно, не торопился, шутил. Сегодня он выступит, нет, он уже выступал вчера, сегодня узнаем – нельзя было слушать – били по переправе… Наверно, говорил спокойно, это наше счастье, что он умеет быть спокойным…
– Слушай, Сергей, – говорит Зонин, – когда ты давеча уходил, здесь один связист нарвался на фрицев, троих убил, еле выбрался. Стоит, жутко ругается. Я подошел, спрашиваю, в чем дело, он мне объясняет: «Щипцы оставил…» А что на немцев нарвался, не говорит…
Сергей смеется:
– Я только что думал, как будут разговаривать люди Сталинграда через двадцать лет в каком-нибудь классическом романе. «Волга… Богатыри… На нас смотрит история…» А вот тебе настоящая историческая фраза: «Щипцы оставил…»
Это не Нивель… Почему у нас так боятся громких слов? Даже я. Люблю, когда французы впадают в пафос – каждый – Гюго, и вдруг неловко, хочется дернуть за рукав… Мадо про себя сказала: «Я тоже – немая Джульетта…» Что с Мадо? Она не успокоилась – у нее волнение не от того, что кругом, от себя…
Почему мы не перешли той черты, которая отделяет мечту от жизни? Не хотели – ни она, ни я. Как два подростка… Понимали, что нельзя… Мадо сказала, что у каждого будет своя жизнь.
– «Жизель», – вспоминает вслух Зарубин, – танцовала Уланова. Марусе не понравилось, а, по-моему, хорошо. Как сон…
Я никогда не забуду Мадо, думает Сергей. Жить этим нельзя, но это нужно, чтобы жить…
Зонин зевает.
– Спать хочется…
– Ты думаешь, мне не хочется?
– Смешно – с одной стороны вся Европа, с другой клочок земли. И держимся…
– Почему «вся Европа»?
– Ну, почти вся… Вот посмотри, я подобрал в землянке… Заглавие я разобрал – Анатоль Франс, роман. Какой-то фриц почитывал… Я тебе говорю – Европа!
– Если посол подымает флаг над домом, значит там его государство, так полагается… Европа теперь здесь, можем поднять флаг над этой землянкой. Или ты думаешь, что Анатоль Франс с фрицами?..
– Я его не читал. Маруся, наверно, читала. В театры я довольно часто ходил, а читал мало. Сидишь над чертежами – голова пухнет, хочется куда-нибудь выйти… Я балет особенно люблю… Маруся много читала, смеялась, что мне нравится все фантастическое. Ей самой нравится, только скрывает, почему-то решила, что если учится на врача, не годится… А ты погляди, какая она веселая…
Зонин показывает фотографию: Маруся снята с котенком, у нее лицо озорной девчонки, чуть раскосая.
– Это – перед войной в Луге… Последнее письмо от третьего октября, больше месяца.
Сергей сел писать Вале; хотел передать страсть, тоску, нежность, но не вышло; он в ужасе подумал – еще месяц-другой, разучусь говорить…
Зонин раздирающе зевал.
– Ты поспи, – сказал Сергей. – А я пойду к майору – они, наверно, приняли доклад.
Зонин сидел на бревне. Он спал с открытыми глазами. Все путалось: Маруся, баржа, флаг Европы, Жизель, щипцы… Потом Маруся пригнула его голову, начала целовать. Было тихо – полчаса, может быть дольше.
Снаряд разорвался возле землянки. Зонин очнулся в санбате, начал вспоминать: что случилось?.. Кажется, я спал. Сергей ушел к майору…
– Сталин говорил?
– Тебе нельзя разговаривать, – ответил Сергей.
– Что он сказал?
– Что будет праздник и на нашей улице…
Но Зонин не слышал: снова погрузился в забытье.
Медсестра Катя выписала в книжечку все дни до нового года; каждый вечер она вычеркивала одну цифру; сейчас, вынув книжку, она с удовольствием зачеркнула «7».
– Пятьдесят четыре дня осталось.
– До чего?
– До конца года.
Левин грустно улыбнулся:
– А потом напишешь триста шестьдесят пять новых?..
– Может быть, и не напишу, – ответила Катя. – Как он… – Она показала рукой на Зонина.
Сергей сидел и молча глядел на друга. Снова тихо… Если бы я не пошел к майору… Глупая игра!.. А фрицы выдыхаются, не то что месяц назад… Сталин знает общее положение, если он сказал, значит будет… Но когда? Для Зонина слишком поздно… А может быть, нет, Левин говорит, что есть надежда… Его жена, кажется, в Ярославле. Им хуже, чем нам. Это, наверно, ужасно – представить себе такое…
Он хотел написать Вале другое письмо, но позвали на переправу. Больше он не думал ни о жене, ни о Зонине, ни об исходе сражения – работал.
18
– Я вас умоляю, дорогой друг, оставьте мою нервную систему в покое и подумайте о судьбе «Рош-энэ»! Руа может каждую минуту вытащить Альпера… А после смерти Жозефа у меня нет там руки. Мне нужен, человек, который хорош с немцами…
– С ними все хороши, – ответил Морило. – Особенно Руа…
Лансье упрекнул себя: зачем я говорю об этом Морило? Ему лишь бы посмеяться…
А Морило его выручил: свел с Жеромом Пино.
В Пино не было ни блистательности Берти, ни размаха. Он не вносил в дела азарта. Лет десять назад, когда еще все было спокойно, он говорил: «Хочется застраховать себя даже от землетрясения, хотя мы не в Японии…» Жил он скромно, редко принимал гостей, не швырялся деньгами. Старшую дочь Полину он выдал за лионского коммерсанта, господина Пенсона, младшую – Анриет – за молодого, но подававшего надежды адвоката Вэрней. Пино понимал, что политика связана с налогами, с заказами, с биржевыми курсами, и внимательно следил за парламентскими комбинациями, коммунистов он ненавидел, социалистов звал «дурачками», а про крайне правых говорил: «Эти хирурги заодно с отростком вырежут все кишки».
Когда началась война, Пино быстро пошел в гору; здесь не было ничего удивительного: естественно, что завод, изготовлявший радиаторы, может изготовлять минометы, и столь же естественно, что, когда на дворе война, минометы расхватывают, «как плюшки» (любимое определение Пино); сначала покупали французы, потом немцы. Разумеется, Пино был потрясен событиями сорокового года, даже похудел, костюмы на нем висели. Но дела оставались делами; и, увидев, что дела идут хорошо, он забыл про гражданские огорчения. Никогда прежде он так не зарабатывал. С немцами он был сдержан; на них производила благоприятное впечатление его осанка – было в нем нечто торжественное и скорбное, он разговаривал громким шопотом и сморкался, как на похоронах.
Пино увлекся биржевыми операциями; стал владельцем большой типографии, купил за бесценок дом, принадлежавший одному еврею. Он говорил жене: «Время, конечно, тяжелое, но грех роптать, живем, да и дети устроены, и Полина и Анриет сделали хорошую партию…» Вэрней изменял Анриет, это знали все, кроме нее, но с нею он был нежен, ни в чем ей не отказывал. «Такой не пропадет», – говорил Пино. Три года назад Вэрнея считали чуть ли не «красным», а теперь он был на прекрасном счету у немцев, писал в газетах, не брезгал коммерческим посредничеством. Муж Полины, Пенсон, когда началась война, продал свои склады и купил гостиницу в Женеве; за несколько недель до разгрома он уехал с женой и с ребенком в Швейцарию. Говорили, что он придерживается английской ориентации. Пино как-то представил себе встречу Пенсона с Вэрней – вот была бы драка!.. А Пино был далек от крайностей, работал с немцами, но ничего не имел против победы союзников.
Когда Морило рассказал об угрозе, нависшей над «Рош-энэ», Пино не удивился:
– С немцами можно работать, но таких шакалов, как Руа, я не люблю. Теперь в финансовом и промышленном мире слишком много выскочек… Что же, я готов встретиться с Лансье…
Пино предложил Лансье свою помощь. Лансье понимал, что Пино может спасти «Рош-энэ», – немцы не посмеют его тронуть… Притом Пино хочет вложить в дело капитал. Но Лансье не хотелось связываться с чужим – достаточно он пострадал и на Лео и на Руа…
Начались переговоры. Пино относился к Лансье покровительственно: считал, что для делового человека не подходит ни обстановка «Корбей», ни легкомысленные манеры; но, посмеиваясь про себя над «чудаком», Пино щадил его самолюбие; говорил с ним так, как будто Лансье создал «Рош-энэ».
Лансье пригласил Пино с супругой на обед. Переговоры продвигались вперед; шутя Морис сказал Марте: «Сегодня почти помолвка. Может быть, скоро будет свадьба…» Он позвал и Морило, назвав его «сватом». Был ноябрьский мутный день, с утра в доме горело электричество. Все чихали, кашляли. Марта понравилась чете Пино простотой, домовитостью; они оживленно беседовали, вспоминали довоенное время. А Лансье волновался: куда пропал Морило? Ведь барашек пережарится, это не шутка…
Они сели за стол, не дождавшись доктора. Лансье сердился. Пино его успокаивал:
– Вы ведь знаете, какой характер у Морило… Наверно, побежал через весь город к какому-нибудь больному. Да еще бесплатно… Вот кому бы поставить памятник. У нас не умели ценить честных тружеников, был культ аферистов, интриганов. Это одна из причин разгрома…
– Немцы нас многому научили, – ответил Лансье. – Но все-таки тяжело зависеть от чужих… Как вы думаете, господин Пино, это когда-нибудь кончится?..
Марта с укором посмотрела на Мориса: зачем говорить такие вещи?.. Конечно, Пино производит благоприятное впечатление, но за кого теперь можно поручиться?.. Лансье понял, что значит взгляд жены, однако не пожалел о сказанном: ему предстоит работать с Пино, лучше знать заранее все, чтобы не было сюрпризов…
– В конце концов немцы уйдут, – ответил Пино. – Я не могу на них пожаловаться, они ведут себя корректно, но я француз, и я вас понимаю… Вэрней мне говорил, что немцы после победы очистят всю Францию, да и другие страны… Они только поставят правительства, приемлемые для них…
– Пока маршал жив, никто не посмеет его спихнуть.
– Маршал это декорация. Немцы предпочитают Деа Лавалю, а Лаваля Дарлану. Здесь есть свои оттенки. Я лично думаю, что на двадцать – тридцать лет Европа будет немецкой…
Вошел, запыхавшись, доктор Морило. Марта начала ему ласково выговаривать:
– Вы сами себя наказали, придется кушать разогретое…
Доктор Морило долго молчал, ел суп и лукаво посматривал то на Лансье, то на Пино; потом, вытерев рот салфеткой, он по своему обыкновению очень громко рассмеялся:
– Вэрней сегодня не будет спать. Я могу ему прописать веронал… Вы не знаете? Американцы и англичане высадились в Алжире.
Пино не мог скрыть волнения. Конечно, этого можно было ждать, но мало ли чего ждешь, а потом это кажется неожиданным?.. Он часто говорил себе, что если одержат верх союзники, он первый будет их приветствовать. Кто посмеет бросить в него камень? Где эти чистоплюи? Пенсону легко быть непримиримым – он в Женеве. Но тот же Пенсон признает, что его тесть честный француз… И все-таки Пино стало неуютно. Начнутся расследования: откуда типография, как он купил дом, почему завод при немцах работал в три смены? Завистники найдутся. Повылезают коммунисты, как в тридцать шестом… Невесело!
– Вы, кажется, огорчены, господин Пино? – спросил доктор.
Чего только не позволял себе этот старый циник! Марта поняла неделикатность вопроса и, прежде чем Пино успел ответить, сказала:
– Я не понимаю, почему нужно за обедом обязательно говорить о политике?
Пино решил, что она права, и занялся сочной грушей.
А Лансье улыбался. Высадились!.. Может быть, вернется довоенное счастье? Марселину никто не воскресит, но он поедет с Мартой в «Желинот»… Да, я написал некролог Берти, немного погорячился, так и скажу – погорячился, не взвесил слов… Что из того? Берти, как-никак, был моим зятем. При чем тут политика? Я не Пино, меня немцы преследовали. Луи уехал в Англию, наверно, и Мадо там. Вот какое воспитание я дал детям!.. Интересно, скоро ли союзники высадятся в Марселе? От Алжира недалеко… В Марселе их встретит маршал. Представляю, как он сейчас радуется!.. И Лансье продолжал улыбаться. Он понимал, что при Пино не стоит откровенничать, – Марта будет недовольна, и попытался объяснить свою улыбку:
– Давно я не ел такой ароматной груши…
Морило весь забрызгался и соком, и слюной – он все еще смеялся, довольный произведенным эффектом. Потом он сказал:
– Ну и высадились. Ничего в этом нет потрясающего. Забирают наши колонии… Если бы они хотели воевать с немцами по-настоящему, они выбрали бы другое место…
Когда гости ушли, Лансье задумался над событиями и решил, что не стоит связываться с Пино. Война приближается к развязке. Пино себя скомпрометировал с немцами. Теперь у меня неприятности оттого, что Лео – еврей. А выгонят немцев и начнут мучить: почему с вами Пино? Кстати, он захватил дом одного еврея… Лучше без компаньонов, отвечаешь только за себя… Лансье сказал Марте: – Ты знаешь, как я был предан Марселине. Судьба меня сделала вдовцом. И судьба мне послала тебя. Я благословляю судьбу: приятно связать свое сердце с другим… В делах не так – счастливы одинокие. Пино – порядочный человек, он не лезет вперед, как покойный Берти. Я надеюсь, что после нашей победы у него не будет никаких неприятностей. Но все же лучше с ним не связываться…
Два дня спустя Лансье узнал, что немцы перешли демаркационную линию, заняли Лион, Марсель. Значит, они думают всерьез защищаться, укрепляют юг, как побережье океана. А Морило правильно говорил: союзники не торопятся. Рано мыши хоронили кота. Может быть, англосаксы когда-нибудь победят, но до этого Руа успеет отслужить по мне панихиду.
Несколько дней Лансье терзался и, наконец, решил принять предложение Пино.
– Ты понимаешь, Марта, я тогда погорячился. Немцы – огромная сила. Морило доволен тем, что сотня русских запряталась в погребах Сталинграда. Но это мелочь… Между Алжиром и Марселем море. Приходится считаться с фактами. Пино сумеет отстоять «Рош-энэ». Тем более, что его зять, Вэрней, редкий прохвост, мне говорили, что он запросто бывает у Абетца…
Когда Пино и Лансье закончили деловую часть разговора, они начали беседовать о политике. За десять дней все изменилось – в Алжире союзники, в Марселе немцы.
– Я никогда не думал, что Дарлан предаст маршала, – сказал Лансье.
– Я не осуждаю Дарлана. Что ему было делать?.. Он спас много жизней. Вы убеждены, что маршал не послал его туда с этой целью?..
Лансье растерялся: Пино рассуждает, как я… Ну да, Пино – француз, как я, как маршал…
– Дорогой господин Пино, события такие сложные, что теряешь голову. Я доверяю маршалу…
– Маршал это декорация. А люди, его окружающие, хотят спасти Францию от анархии. Самое страшное – коммунизм. Можно быть против «сотрудничества», но приветствовать отправку «легионеров» на Восточный фронт. Борьба против большевиков – долг каждого француза. Здесь я абсолютно согласен с Лавалем.
– Лаваль поехал в Мюнхен к Гитлеру. Вы не думаете, что это чересчур?..
– Ничуть. Это его долг. Как долг Дарлана договориться с американцами… Мы должны предвидеть все возможности. Есть наша, французская политика… Я очень рад, что американцы взяли Дарлана и Жиро. Коммунисты теперь увидят, что им нечего ждать от победы союзников…
Лансье был потрясен. Он считал Пино торгашом. Оказывается, это философ, он ведет игру, и крупную…
В тот же вечер Лансье пошел к Морило: хотел поделиться своим открытием. Морило сидел грустный в темной комнате. Жены его не было дома. Лансье был так поглощен своими мыслями, что не заметил, в каком состоянии доктор. Он сразу закричал:
– Оказывается, Пино не только делец, это политик, патриот. Он сформулировал так: нужно все предвидеть…
– Еще бы! У него даже дочки работают в двух направлениях. Можете быть спокойны, Морис, с ним вы не пропадете. Это выдержанный подлец. Конечно, он не Дарлан, но на «Рош-энэ» его хватит.
– Вы считаете, что Дарлан подлец?
– Зависит от того, что называется подлостью. В общем лакей не обязан быть верным хозяину. Дарлан переменил место… Все они друг друга стоят – Лаваль, Дарлан, маршал…
Только сейчас Лансье заметил, что Морило сам не свой – ни разу не засмеялся…
– Вы себя плохо чувствуете? – спросил Лансье.
– Я?.. Какое это имеет значение в нашем возрасте? Тянем – и то хорошо. Молодые гибнут… Пино или Дарлан гадают – на кого поставить: на американского, покровителя или на немецкого вышибалу? А молодые тем временем гибнут…
– Вы знаете, где Рене?
– Был на юге… Может быть, немцы его уже взяли…
Лансье знал, что старший сын доктора, Рене, не поладил с немцами – после студенческой демонстрации убежал в «свободную зону».
– Я вас понимаю, дорогой друг. Я сам мучаюсь: что с Луи? Может быть, он в Алжире, а может быть, погиб. Не знаю, где Мадо… Пожалуй, лучше всего вашему Пьеру – противно быть в плену, зато он вне игры. Кончится война, и он вернется…
– Не знаю… Вчера у меня был товарищ Пьера, они вместе были в «сталаге», этого немцы отпустили – туберкулез в последней стадии. Он мне рассказывал, как они живут – суп из картофельных очисток, нетопленый барак, тяжелая работа. И они еще в лучших условиях, чем русские. Там рядом с ними – русские девушки умирают от голода, от дизентерии, надзирательницы их бьют, чорт знает что, варварство!.. Этот юноша мне рассказал, что Пьер подружился с одной русской, они друг другу помогают, она веселая, старается его утешить. Пьер слаб, с трудом подымает тяжести… Я боюсь, что не дотянет, у него ведь слабые легкие…
Лансье впервые увидел в глазах Морило слезы. Доктор отвернулся и сказал:
– Вы видите, что я был прав насчет Сталинграда? Это вам не дипломатия. Читали «Пари суар»? Немцы пишут: «Германская армия готова ко всем неожиданностям…» Странный язык для победителей… Знаете, Морис, я вряд ли дотяну до развязки, да я и не очень мечтаю дотянуть. У меня нет иллюзий. Чем больше все меняется, тем больше все остается по-прежнему. Но сейчас мне приятно, что русские их остановили. Приятно, что Пино боится, что Дарлан ищет американцев, что американцы ищут Дарлана…
«Ужасный характер, – подумал Лансье, – ему приятно, что у других неприятности. А молодых жалко, это правда – и Луи, и Рене, и Пьера. Что с Мадо?..»








