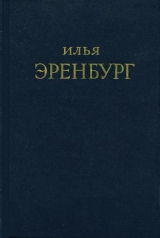
Текст книги "Буря"
Автор книги: Илья Эренбург
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 63 страниц)
25
Весной особенной жизнью зажил этот лес, как все леса Франции; не только куковали кукушки и на сотни голосов свистели, верещали различные пичуги – леса наполнились человеческими голосами. К тем героям, которые пришли сюда в темные годы, теперь каждый день прибавлялись сотни и тысячи новых. В городах было уж по-летнему жарко, шумели грозы, люди шушукались о близком десанте, о том, как немцы будут расправляться с мирным населением. Маленькие листовки на заборах казались приказами о мобилизации. И по тропинкам, которые вели в мак и , подымались рабочие и лавочники, врачи и землемеры, виноделы и студенты.
Отряд, которым командовал Деде, с апреля готовился к решительным дням: из центра передали, что после сигнала о начале высадки нужно парализовать транспорт немцев. Деде и Медведь наметили около тридцати наиболее уязвимых пунктов. Взвесив все, Воронов сказал: «Скорее чем за неделю фрицы этого не восстановят».
Партизаны весь май наступали, они освободили в Лимузэне сотню населенных пунктов. Как прежде, задержка была в одном: мало оружия.
Николь вернулась с новостями и хорошими и дурными:
– Высадка будет в ближайшие дни. Гюстав дал мне условленный сигнал. Передадут по радио из Лондона. Мы должны попытаться помешать переброске войск. С оружием плохо… Гюстав сказал, что так повсюду. Военный комитет обратился к населению – прямо говорят, что лондонцы не дают оружия партизанам. Гюстав считает, что это на самом верху… Представитель американской разведки Чарли заявил Вобану: «Вам дадим, но не ФТП – у них слишком много коммунистов»…
Деде усмехнулся:
– Вобана я знаю, учитель в коллеже, социалист. Все более или менее ясно. Очевидно, боши доживают последние дни, раз эти господа разоткровенничались… Так или иначе, мы должны сделать все. AS их не выручат, даже если американцы им подарят сотню танков…
Мадо хорошо помнит тот вечер. Пока Деде разговаривал с Медведем, она сидела на маленькой поляне, ела первую землянику, бледную и кислую. Потом пришел Медведь. Они давно подружились. Медведь теперь бойко говорил по-французски. Мадо его часто расспрашивала про Россию, он рассказывал с увлечением, чувствовал, что она не пропускает ни слова. Может быть, потому, что наступала развязка, он вспомнил сейчас самое трудное – лето сорок второго, Дон, разговор с Сергеем – где наведут мост, когда пойдут назад… Много раз до того он рассказывал Франс про отступление, но теперь впервые упомянул о Сергее, сказал «капитан Влахов». Мадо сдержалась, не вскрикнула, только спросила:
– Как его зовут?
– Сергей.
Волнуясь, она теребила травинку.
– Какой он с виду?
Воронов рассмеялся:
– Не знаю, как ответить. Женский вопрос… Красивый, высокий, волосы у него светлые… А почему ты спрашиваешь?..
– Погоди… Ты мне сначала ответь – он или не он? Он, когда волнуется, откидывает голову и смотрит вот так – видишь?..
– Точно. Значит, ты его знаешь? Удивительно!..
– Ничего нет удивительного, он ведь приезжал в Париж. Познакомились…
– Он про Париж восторженно говорил, город ему понравился.
– Какой он теперь? Постарел?
– Смешная ты, Франс. Как же я могу на это ответить? Ведь я его до войны не знал. Молодой, моложе меня… Жена у него, это он говорил, а детей нет… Прекрасный командир и товарищ хороший…
Медведь так и не понял, почему Мадо вдруг стала необычно веселой, смеялась, дурачилась, прикрепила ромашку к его пилотке, говорила:
– Медведь с цветочком!..
Его позвал Деде: они поехали в группу Артура, которой было поручено взорвать железнодорожный мост.
Мадо продолжала улыбаться. Чудо, настоящее чудо! Я чувствовала, что он жив… (Ей не приходило в голову, что его могли убить после того, как с ним расстался Медведь, что были Сталинград, Курская дуга, наступление. Нет, ей казалось, что не позже чем вчера он послал ей телеграмму.) Нежно улыбаясь, она думала о нем. Другая у него жизнь. Он далеко, очень далеко. Но до чего он близкий, родной! Ближе, чем когда они сидели на скамейке под каштаном… Она не испытывала ни ревности, ни боли от этого слова «женился». На минуту задумалась – какая у него жена? Наверно, хорошая… И тотчас ее мысли вернулись к Сергею. Он вспоминал Париж в горькое время, когда шел с Медведем по степи. И она, Мадо, для него стала частью далекого города – как старая уличка в Ситэ, или как карусель ярмарки, или как мальчишки, которые пускают в Люксембургском саду игрушечные кораблики. Удивительно, до чего бессильно время! Да и пространство… Вот разлучили, наверно никогда не встретимся, я и не знаю, нужно ли нам встретиться, наверное нет, но я с ним сейчас встретилась, обнимаю его, веду по лесу, говорю: это не каштаны – дубы, и не то лето, и не та Мадо. Меня зовут Франс. Я давно не видела кистей и мольберта. Я стреляю. Говорят, что я неплохо воюю… Но все это неважно. Я – Мадо. И неважно, что я тогда была художницей. Важно, что мы встретились, открыли друг друга. Это больше, чем открыть звезды или остров. Сергей, того, что было, не вычеркнешь. Ты меня спас. Может быть, не ты – ты уехал, любовь к тебе, но это то же самое… Ты меня привел в этот лес… Никогда я от этого не отрекусь, это – чудо, как чудо, что Медведь вдруг заговорил о тебе, он мог ничего не сказать, ведь он ничего не говорил полгода. Он мог попасть в другой отряд… Чудо! Чудо, что ты есть, милый! И ромашки твои, все ромашки. Я больше не гадаю, знаю все без гадания. Если рассуждать грубо, по-житейски, счастья не будет, а на самом деле оно было, есть, будет всегда, самое большое, горькое, тяжелое, чистое… Сергей!..
Деде и Медведь вернулись, когда уже начало темнеть. Радистка поджидала Деде:
– Передали: «В зеленом саду большое дерево».
Деде распорядился:
– Передать на все пункты – взорвать пути и мосты. Начать с Артура. Объявить всем, чтобы были готовы…
Он прилег на траву, сказал Медведю:
– Завтра высадятся… В общем пора…
В отряде все уже знали о боевой тревоге. Мадо улыбалась: день чудес!.. Какое сегодня число? Кажется, пятое. Нужно запомнить…
Мики послали к Артуру. И Мики, уходя, пел в черном лесу:
Мы жить с тобой бы рады,
Но наш удел таков,
Что умереть нам надо
До первых петухов.
Другие встретят солнце
И будут петь и пить
И, может быть, не вспомнят,
Как нам хотелось жить…
Снизу из долины, еще прикрытой плотным предрассветным туманом, донесся слабый грохот, как будто где-то далеко гроза: это взлетел мост на линии Тулуза – Париж.
Утром пришел Артур. Он один выбрался – их окружили немцы.
– Мики застрелил троих. Потом его убили… А моста нет.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
1
Ганс Ширке на террасе монтабанского кафе пил горько-сладкий вермут, когда прибежал унтершарфюрер Зайдель.
– Началось, – крикнул он. – Можешь попрощаться с дачной жизнью – нас отправляют в Шербур.
Ганс Ширке провел во Франции почти полтора года; вначале жизнь была действительно дачной – он гулял под аркадами Ля Рошелли, купался в море; было много винограда, морской рыбы, коньяку. Ганс загорел, возмужал; он писал отцу, что «готов вступить в поединок с судьбой». В идиллию вмешалось неприятное происшествие. Как-то вечером Ганс шел темной уличкой и увидел девушку, он посветил фонариком, убедился, что девушка недурна собой, и сказал: «Мадемуазель, я хочу вас проводить, нехорошо гулять так поздно одной». Он вежливо взял девушку под руку; та вырвалась и с криком убежала. Неизвестно откуда повысыпали люди. Расталкивая всех, Ганс пошел дальше. К нему подошла девушка, сказала: «Не обращай внимания на эту дуру. Ты слишком хорош для нее». Ганс снова посветил фонариком и увидел, что он в выигрыше. Девушка привела его к себе в жалкую хибарку. Ганс, впрочем, не глядел на обстановку: его пленила красотка. Уходя, он хотел ей заплатить, она отказалась: «Я сама хотела бы тебе сделать подарок…» Он засмеялся: «Что ты можешь мне подарить, разве что французское королевство…» Потом он долго бродил по узким улицам старого города: хотел найти гадюку, она его вправду одарила – месяц он провалялся в лазарете. А сразу после этого полк «Фюрер» отправили в гористую Дордонь: там появились банды террористов. Когда под рождество убили Вальтера, Ганс Ширке поклялся отомстить «лягушатникам» – так называл он французов. Ворвавшись в один дом, он пристрелил всех и среди трупов оставил грудного ребенка – пусть гаденыш попищит – не скоро сюда заглянут…
Всю зиму и весну эсэсовцы воевали с партизанами. Хороша дачная жизнь!.. Но, конечно, в Нормандии будет пожарче. Здесь по крайней мере можно было посидеть в кафе, выпить, посмеяться…
Оберштурмфюрер Швабе думал, что они будут в Лиможе к вечеру, а они потеряли два дня – террористы окончательно разнуздались: возле Крессенака напали на колонну, пришлось выдержать настоящий бой. Мост у Гролейрака оказался взорванным. Третья задержка приключилась в Руффиньяке – около сотни эсэсовцев были убиты или ранены. Ганс вспоминал письма отца. Да, но в России это понятно – там люди привыкли жить в лесах, как дикари. А эти «лягушатники» способны только изготовлять духи и быть метрдотелями. Откуда они набрались прыти?.. И в лад его мыслям унтершарфюрер Зайдель говорил:
– Я был в Сербии, там что ни человек, то бандит, мы это знали заранее, жгли все деревни. Я был в России, возле Ленинграда. Там одна девчонка убила двух наших. Мы ее повесили за ноги. Мы там жгли деревни с людьми, так и говорили – ни домов, ни клопов, все, и детей туда же… А здесь мы сами виноваты, четыре года с ними нянчились. Когда я в Тулузе стукнул одну стерву, меня посадили на гауптвахту. Вот и результаты… Нет, с ними нужно разговаривать по-другому. В Тюлле наши повесили полтораста французиков, и правильно… Если мы хотим сбросить американцев, нам нужен крепкий тыл.
На следующее утро их снова обстреляли, смертельно ранили унтершарфюрера Зайделя, участника балканской и русской кампаний. Все были подавлены. Оберштурмфюрер Швабе сказал, что поговорит с начальником: нужны решительные меры. Не гоняться же за террористами по лесам – это бесполезная трата и людей и времени…
Был хороший летний день. Маленький городок Орадур-сюр-Глан казался преисполненным глубокого мира. Зеленели вокруг луга, и с древним спокойствием пятнистые коровы окунали свои морды в яркий изумруд. У маленькой речки Глан сидели терпеливые рыболовы. Клонились к воде ивы, а тополя стояли задумчиво, как одинокие мечтатели. Городок этот был оазисом – вокруг не было ни лесов с партизанами, ни заводов, которые могли бы вызвать бомбежки. Здесь приютились беженцы из Парижа, из далекой Лотарингии, из Бордо; нашли работу испанские семьи, покинувшие родину после разгрома республики. Местные жители скрывали нескольких евреев – здесь спасались от печей Освенцима уроженка Калиша Сарра Якубович, парикмахер из Будапешта по фамилии Канцлер, Маргарита Симон из Парижа. Несмотря на то, что в Нормандии уже пятый день шли большие бои, люди здесь сохраняли спокойствие. Был субботний день, и некоторое оживление объяснялось отнюдь не военными причинами: в школах должен был состояться медицинский осмотр, из окрестных деревень приехали крестьяне – было объявлено, что по июньским карточкам будут выдавать табак; приехали и жители Лиможа, чтобы провести на свежем воздухе воскресный отдых, а заодно раздобыть фунт масла или немного зелени.
Был обеденный перерыв. Госпожа Авриль, старая хозяйка харчевни, шопотом говорила своим пансионерам, среди которых были и парижанка с детьми, и отставной военный ветеринар из Реймса, и служащий мэрии: «Сегодня я приготовила утку с репой…» Ветеринар рассказывал последние новости: «Десант не скинули…» В гостинице «Милорд» столовались две молоденькие учительницы, присланные на практику, они волновались, что опаздывают в школу, ушли, не кончив обеда. А в кафе «Глоб» старые крестьяне пили кислое легкое вино и рассказывали: «Говорят, что партизаны завалили туннель…»
Часы на церкви показывали два часа десять минут. На колокольне, как на всех колокольнях Франции, красовался маленький петушок. В небе плыли легкие облака. Парикмахер Брюяр мылил щеки краснолицего фермера.
Аптекарь Паско объяснял старухе, что лекарство нужно принимать не до еды, а после. Приехавшая из Лиможа молоденькая машинистка Кутюрье, забыв о том, что хотела достать масло, сидела под деревом и мечтала о счастье. В школах верещали разыгравшиеся дети, и госпожа Руссо говорила: «Тише, ребята, вы так и не поняли правила процентов…» Нотариус Монтазо читал газету. Доктор Дезурто, осмотрев новорожденного, бормотал: «Хорош!..» Тогда подъехала к городу первая машина с немцами; в ней сидел Ганс Ширке. Прочитав надпись «Орадур-сюр-Глан», он подумал: слишком длинное название для такого маленького города… – Он зевнул: мы чертовски устали за эти четыре дня, а впереди вместо отдыха Нормандия…
Немцы приказали всем жителям города собраться на базарной площади. Один старик ответил Гансу:
– Я болен, я не могу встать, я три года лежу…
Ганс засмеялся:
– А может быть, я доктор?..
Он сбросил старика с кровати и разбил ему голову прикладом.
На площади было много народу. Женщины прижимали к себе детей. Дети плакали. Привели несколько стариков и старух: их поддерживали внуки. Здесь были башмачник Совья, швея Зеллер, студентка Рузо, кузнец Реноден, булочник Рено, перчаточница Мерсье, ткач Леблан, колесник Лепара, священник Лорик, плотник Дютре, землекоп Дуар, трубочист Ито, токарь Джианино, кондитер Бюиссон, учительница Кути, портной Бишо, почтальон Буисьер, мельник Пусса, каменщик Лашо, механик Бобрей, водитель Путаро, санитарка Эбра, упаковщик Жуо, счетовод Тессо, маляр Бертелеми, полировщик Тессо, здесь была крестьянская семья Тома, состоявшая из четырнадцати душ. Здесь было все население Орадура. Пришли и дети из двух школ; они смеялись, шалили – немцы сказали им, что на площади будут всех фотографировать. Но, увидев злые лица немцев, дети притихли.
Немцы тем временем оцепили городок; они рыскали по окрестным полям, проверяли, не спрятался ли кто-нибудь в траве. Часы показывали три. Все были в сборе. Эсэсовцы отделили женщин и детей; повели их в церковь.
Мужчин небольшими группами отводили в сараи и в гаражи. Потом немцы приступили к работе: поджигали сараи и гаражи. Всех, кто пытался вырваться из горящих построек, они убивали. Женщин и детей заперли в церкви. Кругом стояли эсэсовцы с пулеметами. Когда подожгли церковь, какая-то женщина, обезумев, выбросила из узкого оконца ребенка. Ширке не прозевал: он подобрал младенца и швырнул его в огонь.
Покончив с людьми, немцы начали выносить из домов все ценное, нашли шелк, ящики с вином, столовое серебро, продовольствие; все это они погрузили на машины. Потом они облили дома горючим и сожгли город. Ротенфюрер Клоц сказал:
– В России лучше горело, там много дерева…
Оберштурмфюрер Швабе посмотрел на часы:
– Без пяти десять, а мы приехали в два. Восемь часов это совсем недолго – все-таки целый город…
Орадура-сюр-Глан больше не было. Из города удалось уйти восемнадцати жителям. Все остальные погибли.
Вино, вывезенное из Орадура, эсэсовцы распили в соседних деревнях; они смеялись, пели солдатские песни, и крестьяне думали, что они справляют победу над союзниками. Ганс Ширке испытывал душевное облегчение: наконец-то он рассчитался с этими «лягушатниками»!.. Вспоминая, как кричала женщина, когда он бросил ребенка в огонь, Ширке ухмылялся: это им за Вальтера, за взорванный мост, за все мои мытарства…
На следующий день Ганс послал отцу письмо, он писал:
«Дорогой отец!
Все последние дни я душою особенно остро ощущаю твою близость. Террористы хотят нанести нам удар в спину, но это не удается. Вчера мы уничтожили настоящее осиное гнездо. Ты можешь быть спокоен – твой сын не сдастся и не раскиснет. От мамы я получил два письма, она, естественно, волнуется и за меня и за тебя. С нетерпением жду известий о войне на Востоке, впечатление, что вам удалось повсюду остановить красных. Целую тебя крепко. Гейль Гитлер!
Твой сын Ганс».
Старика, которого убил Ганс Ширке, звали Арманд Клаво, ему было восемьдесят два года, он помнил франко-прусскую войну. Ганс Ширке бросил в огонь Мишель Алиоти, ей еще не было двух месяцев – она родилась четырнадцатого апреля.
Полк «Фюрер» двигался на Пуатье. Ганс Ширке пел свою любимую песню:
Простая фиалка
Цветет на пути,
Сорвать ее жалко
И жалко уйти…
Дорога петлила среди дубового леса. Вдруг затрещали пулеметы; видимо, террористы были на верхушке горы. Эсэсовцы остановились, открыли огонь из орудий. Оберштурмфюрер Швабе сказал:
– Неслыханная наглость, но я думаю…
Никто не узнал, что именно он думал: на дороге разорвался снаряд, осколком был убит оберштурмфюрер. Партизаны теперь стреляли из немецкой противотанковой пушки. Бой длился четыре часа. Потом эсэсовцы повернули назад к Эймутье: надвигалась ночь, ехать лесом было бы неразумно.
На грузовик положили убитых; клали их второпях, и голова Ганса Ширке свешивалась вниз; его рот был приоткрыт; когда грузовик на ухабах подпрыгивал, голова Ганса Ширке тряслась, казалось, что он возмущен и кого-то проклинает.
Деде сказал:
– Вышло как будто неплохо. Что ты думаешь, Медведь?
Воронов рассмеялся:
– Совсем неплохо. Если их будут так встречать дальше, они могут опоздать к представлению…
Воронов думал о каменщике Хосе, который погиб в этом бою. Вчера он сказал Воронову: «Скажи, Медведь, я увижу мою Барселону?..» И еще Воронов подумал: может быть, вернусь в Ленинград и никого не найду из старых друзей?.. А может быть, проще – не вернусь?..
Поднялся ветер: и всю ночь шумели дубы, шумели торжественно, как будто они понимали, что чувствуют люди, как будто эти старые деревья знали, что для таких чувств у людей нет и не может быть слов.
2
«Ты чересчур логичен», – сказал Осипу Лео, когда они встретились в Киеве и поспорили о счастье; Осип тогда удивился: «Как можно быть чересчур логичным?» С детства он любил ясность; может быть, поэтому так трудно далась ему наука сердца, где вместо теорем – головоломки и где исключения опровергают правила. Он и на войне старался соблюсти точность, порядок («аккуратно» дразнил его Минаев). Кадровые командиры пришли на фронт с готовыми представлениями о военных операциях, вначале они терялись от несоответствия между курсами, академией и тем, что увидели. Осип начал войну, плохо разбираясь в военном деле; хаотичность первых месяцев показалась ему естественной. Он научился воевать, воюя; как в каждом самоучке, в нем жило двойственное чувство – гордости тяжело доставшимся умением и благоговения перед наукой. Он восхищался мастерством, смелостью замыслов командования, говорил себе: чувствуется почерк Сталина… Однако еще год назад случайность, непредвиденная мелочь часто мешали проведению операции. Теперь выполнение было достойно идеи.
Такой артиллерийской подготовки Осип еще не видел. Он усмехался: газеты писали, что немцы изобрели самолет-снаряд – пускают на Лондон. Верны себе – ищут психологического эффекта, как будто весь мир это дамочка, готовая упасть в обморок. Наша артиллерия вернее: знают, куда кладут… С восторгом Осип глядел на развороченные доты. Чистая работа! Каждый снаряд спас много наших. Поэтому и наступать легко…
Они шли лесом, болотами; шли по тридцать, по сорок километров в день; душевный подъем помогал преодолевать усталость. Все понимали, что нужно перерезать немцам путь. Впереди шли танки. Их было много. Танкисты, проезжая, шутили. И солдаты думали: теперь фрицы увидят, что это такое, когда у тебя танк позади и танк впереди… Генерал Зыков, смеясь, сказал Осипу:
– Прошу авиацию, а Семушкин отвечает: «Не поспеваем за пехотой – аэродромы отстают…»
Генерал Семушкин прибеднялся: авиация работала замечательно. С первых дней сражения «илы» уничтожили радиостанции противника. Немцы лишились связи, и двенадцать дивизий превратились в множество растерянных офицеров и солдат, которые блуждали по лесам, тщетно разыскивая лазейку.
Шли вперед, не задумываясь над судьбой немцев, оставшихся позади. Ощущение своей силы меняло людей – падая от усталости, они тотчас вскакивали; громче разговаривали, резче стали движения.
Пленный капитан сказал Осипу:
– Я здесь начал войну – возле Минска. Тогда мы шли вперед, как будто вас не было. А теперь произошло ужасное – вы идете вперед и не обращаете на нас внимания. Можно сказать, что мы поменялись ролями.
Осип усмехнулся:
– Роли у нас разные. Вы пришли как завоеватели, а мы освобождаем. Даже когда мы придем к вам, мы останемся освободителями – освободим ваших подчиненных от вас, и вас освободим от вашей тупости.
Солдаты называли окруженных немцев «бродячими фрицами». Бродили целые дивизии, с танками, с артиллерией, бродили и небольшие группы. Некоторые офицеры переодевались в гражданское платье. Рассказывали, что один немецкий генерал ходит по лесу с минометом, что фрицы, обезумев от голода, напали на хлебный завод возле Минска, что редактор армейской газеты вдруг увидел возле своего дома немцев с пулеметами, и дружными действиями сотрудников, включая поэта, корректора и наборщиков, немцы были отброшены. Пленных приводили обозники, крестьянки, даже дети; двенадцатилетний Алеша Сверчук приволок дюжину потных измученных немцев. Один из них рассказал, что они не знали, где проходит линия фронта, думали – стоит перейти дорогу, и окажутся у своих, а выглянув из леса, увидели нечто невероятное – шел поезд с русским машинистом. Этот немец, верный немецким обычаям, записал в своем походном дневничке: «Русские теперь восстанавливают железные дороги быстрее, чем мы отступаем».
Редактор дивизионной газеты Чалый достал немецкую бумагу, ленты для пишущей машинки, бутылку коньяку. Он написал статью «На этот раз мы не выдавливаем противника, мы его уничтожаем», подумал – пожалуй, чересчур глубокомысленно, лучше пошлю в центральную печать «от собкора». И стал сочинять раешник, который подписывал «Антон Толковый»: «Стою, братцы, и дивлюсь я – не уйти немцу из Белоруссии…»
А в Минске было столько цветов, столько слез радости, что Осип растерялся. Может быть, потому, что он слишком поздно понял язык сердца, он теперь был особенно чувствителен ко всему; и когда маленькая девочка с жидкой косицей, сунув ему букет васильков, скороговоркой сказала: «Привет Красной Армии» («р» она не выговаривала), он закусил губу, хотел ее расцеловать, а вместо этого махнул рукой и пошел дальше.
Раздался грохот. Осип поглядел – конец улицы был покрыт густым дымом. Немцы и в этом остались верны себе: бросили госпиталь с ранеными, но не позабыли заминировать новые дома. Глядя на развалины, солдаты ругались: враг не давал сердцу отойти ни на час.
Два дня спустя Осип снова увидел Минск – их повернули назад на Могилевское шоссе: большая группа окруженных немцев прорывалась на запад. Город был мрачный – как раз перед этим немецкая авиация бомбила уцелевшие кварталы. Из-под обломков вытащили мертвую девочку. Уж не та ли, что мне дала цветы? – подумал Осип. – Гады, издыхают, а еще жалят!..
Был знойный день. Они оказались в месте, хорошо известном минчанам. Военные не знали, что значит «Тростянец»; они только увидели то, что человеку трудно увидеть, даже если он провоевал три года, видел и смерть товарищей, и Сталинград, даже если накануне он видел Толочин, эту мешанину растерзанных туловищ, расплющенного железа, оторванных конечностей, искромсанного оружия… На пустыре лежали трупы, сложенные штабелями, как дрова; немцы, которые складывали трупы, соблюдали порядок – высокий, пониже, еще пониже, – дети лежали в конце каждого ряда. Трупы были обуглены: немцы подожгли и убежали. А рядом было поле обугленных костей. Каждый день из Минска сюда приходили герметически закрытые фургоны – людей душили газом в пути; дно фургона опускалось; немцы складывали удушенных штабелями и сжигали. Это продолжалось два года… И когда бойцы увидели Тростянец, стало так тихо, что слышно было, как в соседнем лесу кричала кукушка. Рядом с Осипом стоял ефрейтор Кудреватых, немолодой, спокойный человек; он вытер рукавом глаза.
Час спустя немцы, засевшие в лесу, открыли огонь: они хотели пройти через Тростянец. Ефрейтор Кудреватых вдруг крикнул:
– Что же вы стоите, ребята?.. А ну-ка, большевики!..
К вечеру все было кончено. Война на минуту встала в своей первоначальной простоте: здесь не было ни стратегии, ни расчета – только гнев, бой и смерть.
Мертвые немцы на солнце быстро почернели, съежились, заполнили все зловонием.
Ночевали в лесу. Под утро было свежо, даже холодно. Осип проспал три часа; проверил по карте маршрут; потом пошел к Минаеву; тот не спал, сидел на корточках и что-то внимательно разглядывал.
– Ты что нашел? – спросил Осип.
Минаев смутился:
– Ничего… Подъем?..
Было утро раннего лета, когда деревья, еще не узнав изнуряющей страсти августа, ярко-зеленые, шепчутся о своих лесных делах, и этот шопот кажется таинственным совещанием. Над ними светлое, очень далекое небо, под ними копошение жучков, букашек, бабочек. И только непоседливые пичуги, кружась среди частой листвы, вставляют в мудрое шушукание леса то нежные, то сварливые реплики.
Осип потянулся, сказал:
– Нас на север поворачивают – к Неману. Если так пойдет, скоро граница… Помнишь, ты в сорок втором говорил – кончится война, напишешь роман. Тогда и писать не о чем было – сидели на одном месте, а они долбали. Вот теперь материал, что ни день, то глава романа…
Минаев улыбнулся:
– Нет, Осип, роман кончен – на том кургане. Теперь множество событий, это правда. Каждый день берем новый город. Вчера Леонидзе генерала поймал, ничего, ручной, взял «Казбек» и расчувствовался. Мне какие-то итальянцы попались, говорят, что были на Додеканезских островах, не хотели больше воевать, ну немцы их и приволокли к Минску – пусть землю роют. Полная экзотика, не считая, что возле Березины я словил одного французика из «легиона», причем это не двенадцатый год – я думал, он маршал Ней, а он оказался владельцем ресторана «Цветок лилии», говорил: «Приезжайте, хорошо накормлю». Видишь, какая чепуха…
– Ну, а почему это для романа не годится?
Минаев задумался.
– Не знаю, как тебе объяснить… На курганчике все решалось. Там действие происходило внутри: кто выстоит – мы или они?.. А сейчас происходит классическая операция, будут разбирать во всех военных академиях. Приговор в общем уже вынесен, остается привести его в исполнение. Мы это сделаем, ясно… А я теперь часто думаю о том, что будет после победы. Может быть, это преждевременно, фрицы еще здорово дерутся, и я вовсе не убежден, что доживу до победы, – дело случая… И все-таки я думаю именно об этом – как будем жить, отстраивать города, что изменится, как все сложится и в мире и дома… Видишь, муравейник какой… Я нечаянно немного разорил – и вот, когда ты пришел, я глядел – удивительно, они сразу заметались, тащат прутики, трудятся, одни туда, другие сюда, озабочены, этакие черти!.. Может быть, я и не напишу романа про войну, а проживу еще лет тридцать или сорок и напишу интереснейший роман…
– Про что?
– Ни про что. Про обыкновенную жизнь…
Он встал, отряхнулся, спросил:
– Значит, к Неману? Экзотика! Наверно, сегодня мы освободим австралийца, который сражался на Соломоновых островах, на меньшее я не согласен.








