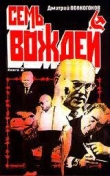Текст книги "Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая)"
Автор книги: Ханс Хенни Янн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 59 страниц)
– – – – – – – – – – – – – – – – – —
Мы поехали в город и купили все необходимое, чтобы заполнить лакуны в наших запасах. Аякс еще раньше решил, что у нас будет праздничный ужин быстрого приготовления.
– Главное – вино, – сказал он. – Оно как драгоценный камень, который может быть представлен по-разному; в тяжелой золотой оправе или удерживаемый лишь легким зажимом. Если есть хорошее вино, можно удовлетвориться и куском сыра.
Ну, в нашем случае куском сыра дело не обошлось.
– Будет телятина со сковороды, – сказал он. – В качестве гарнира – молодая фасоль, посыпанная петрушкой и перемешанная со сливочным маслом; соус – из оливкового масла и яиц. – Но сперва разные бутерброды; в том числе обязательно – с копченым окороком. К бутербродам можно сразу подать бургундское. – Под конец сыр: какая-нибудь разновидность бри или, по крайней мере, что-нибудь из лучших голландских сортов; и чуть позже – свежие засахаренные сливы, с коньяком или сбрызнутые киршем{148}.
Коляска заполнилась пакетами. Какие-то свертки Аяксу пришлось держать на коленях, потому что другого места для них не нашлось. Так мы и поехали домой. Это было утром. После полудня, пока Аякс хозяйничал на кухне, я чувствовал такой прилив сил, что смог завершить Andante – вторую часть сонаты. Радость все еще не угасла во мне; она, что бывает лишь изредка, спаслась, пронизав ночной сон. Как свидетельство этих вдохновенных часов передо мной лежали исписанные листы: композиция, задуманная в момент горячего порыва и быстро завершенная. Лучшего начала для праздничного дня и не придумаешь: теперь я смогу сыграть для гостей бóльшую часть произведения, которое вчера, когда Льен и Зелмер прощались со мной, не возвещало о своем скором появлении даже предчувствиями. Записав последний такт, я отправился на кухню к Аяксу, откупорил бутылку вина, налил ему и себе, сказал:
– Со вчерашнего дня я написал много хорошего. И ты послужил для этого поводом.
Он покраснел – думаю, от радости. Мы выпили за здоровье друг друга.
Едва мы успели опорожнить бокалы, как услышали шум подъезжающего автомобиля. Это приехал Льен со своими. Госпожа Льен первой вошла в кухню и поприветствовала нас на норвежский манер:
– Нет, все-таки день добрый!
Потом пожелала мне счастья и вручила большой кулек с шоколадными конфетами. Фон Ухри, которому она тоже протянула руку, назвал свое имя; она тотчас заверила молодого человека, что уже слышала о нем от мужа много хорошего. Теперь в дверях появился и Льен. Он держал в руках три бутылки шампанского в соломенной обвертке. И нерешительно произнес:
– Надеюсь, нам этого хватит…
Наконец Карл, гимназист, внес завернутый в газетную бумагу блок молочно-белого льда: кусок замерзшей прошлой зимой поверхности пруда или озера, который вплоть до этого дня хранился в опилках, – чтобы охладить им шампанское. Аякс принял все подарки, поблагодарил и хотел выпроводить нас из кухни; но тут госпожа Льен заметила открытую бутылку вина, показала на нее и с веселой алчностью запротестовала: «Нет, глядите-ка, они здесь пьют бургундское…»
Так что пришлось, прежде чем она вышла, поднести ей бокал. Льен тоже выпил; только Карл удовольствовался тем, что обратился к Аяксу с какими-то словами, которых тот не понял.
Наконец все поводы, чтобы оставаться на кухне, исчерпали себя. Шум светского общения переместился в гостиную. Вскоре прибыла, во взятом напрокат автомобиле, и семья Зелмера. Госпожу Зелмер я прежде видел только мельком. А с их сыном вообще не был знаком. Он ровесник Карла, то есть ему семнадцать или восемнадцать лет, и он тоже гимназист – учится в выпускном классе латинской школы. Равнодушие их обоих друг к другу, которое они так откровенно демонстрируют, наводит на мысль, что на самом деле они близкие приятели. (Я, впрочем, плохо разбираюсь в ритуалах подростков.)
Аякс предложил обществу, теперь собравшемуся в полном составе, первый сюрприз: коктейль, еще более огненный и изысканный, нежели тот, каким он угощал накануне Зелмера и меня. Госпожа Льен тотчас попробовала напиток, прищелкнула языком и сказала, прежде чем Аякс снова вышел:
– Нет, прежде я ничего подобного не пила; вы непременно должны поделиться со мной рецептом, дорогой господин Фон…
Зелмер-младший, его зовут Олаф, толкнул Карла Льена в бок и еще не окрепшим, но глубоким голосом предложил ему объединиться для общего дела: попросить добавки. Мальчики в самом деле вместе отправились на кухню и принялись уговаривать Аякса (по ходу дела выяснив, какой язык он понимает), чтобы он пошел навстречу их желанию. Аякс же был только рад отнестись к такой просьбе со всем вниманием; и исполнил ее, предложив каждому из гостей по второму бокалу.
– Нет, вы-таки расточительны! – выкрикнула на сей раз госпожа Льен.
– Мы вскоре на ногах стоять не сможем, – сказала очень довольная госпожа Зелмер. Она погрозила сыну пальцем; но в ее взгляде было столько любви и заботы, материнской преданности и понимания, что я, растрогавшись, невольно вспомнил о своей маме, уже умершей.
Зелмер испытующе оглядел накрытый стол. Он пересчитал тарелки и даже сумел обнаружить отдельное место Аякса. Выждав какое-то время или что-то обдумав, он, казалось, решил, что наступил подходящий момент для обещанного сюрприза. Он вытащил – я даже не заметил откуда – пачку газет и положил возле каждой тарелки по свернутому экземпляру. Про место Аякса тоже не забыл. Это был вечерний выпуск газеты, за сегодняшнее число. Что выяснилось чуть позже, когда мы уселись за стол. Заголовок, напечатанный на первой странице большими, будто вырезанными из фанеры, буквами, воспроизводил название моей симфонии; буквами помельче было напечатано мое имя и сообщалось, что это сочинение будет исполнено в Америке. И потом следовала набранная обычным шрифтом статья Зелмера обо мне и о нашем с ним разговоре. Он, наверное, так же как и я, добрую часть прошлой ночи провел за работой. Наверху каждого экземпляра значилось: НАПЕЧАТАНО ДЛЯ ГОСПОДИНА ВЕТЕРИНАРА АКСЕЛЯ ЛЬЕНА. НАПЕЧАТАНО ДЛЯ ГОСПОЖИ СУПРУГИ ВЕТЕРИНАРА ДОРОТЫ ЛЬЕН. НАПЕЧАТАНО ДЛЯ КАРЛА ЛЬЕНА. НАПЕЧАТАНО ДЛЯ ГОСПОЖИ СУПРУГИ РЕДАКТОРА ИНГЕР ЗЕЛМЕР. НАПЕЧАТАНО ДЛЯ ОЛАФА ЗЕЛМЕРА. НАПЕЧАТАНО ДЛЯ ГОСПОДИНА АЯКСА ФОН УХРИ. НАПЕЧАТАНО ДЛЯ ГОСПОДИНА АНИАСА ХОРНА. – Только для него самого не имелось специального оттиска.
Он сказал:
– Мое имя и так значится на обороте газетного листа.
Таким образом он определил порядок рассаживания за столом.
Госпожа Льен, воодушевившись, воскликнула: «Нет, подумать только!»; и потребовала, чтобы передовицу зачитали вслух. Она уговорила своего сына Карла, чтобы он взял на себя роль чтеца. Я попробовал протестовать, поскольку предчувствовал, что меня будут чрезмерно хвалить. Но моих возражений никто не слушал. «Это избавит кого-то из нас от необходимости произносить праздничную речь», – сказал Зелмер. Пока все лакомились бутербродами, Карл Льен поднялся и зачитал газетное сообщение о главной новости дня. Статья Зелмера была настоящим произведением искусства. Удивительно простыми словами он рассказывал, что видел партитуру – много сотен одухотворенных нотами листов. Далее, в нескольких строках, он сумел набросать впечатляющие образы оркестра и хоров. Ему хватило маленького абзаца, чтобы намекнуть на бескрайние пространства другого континента, на море домов в городе с миллионным населением – и на то, что и там люди чувствуют неискоренимую любовь к музыке. От тамошних широких ландшафтов, от дворцов из стали, камня и стекла он вернулся к родному острову и живо изобразил низкий дом из кирпича и дикого камня, притаившийся в лощине, среди скал и лесов. И сказал, что в этой уединенной глуши живет человек, который своими мыслями, воспламенившимися и ставшими звуком, проникает аж по ту сторону океана и воздействует на умы людей, как может воздействовать какое-нибудь религиозное учение или теория познания. – Далее следовал пересказ нашего разговора. Мои слова в передаче Зелмера были настолько лишены шлаков и прозрачны, что я почти испугался. Зелмер не совершил насилия над правдой; просто все запутанное распуталось, резкие перескоки от одного к другому и неловкие места в моих высказываниях были сглажены, лакуны удивительным образом заполнились, как будто волшебник превратил мои неотчетливые чувства в ясную речь.
Я слушал Карла Льена с восхищением и одновременно с тревогой. Отчетливее, чем когда-либо прежде, я сознавал, что Зелмер обладает способностью, которой сам я лишен. Во всем, чем бы я ни занимался – и моя музыка тут не исключение, – путь мне преграждают изобилие чувств и впечатлений, беспорядочное нагромождение неясностей, частностей, для которых, как правило, даже не подберешь имени: тени, которые не складываются в единую картину; воспоминания, уже не ассоциирующиеся с определенным обликом; симпатии и антипатии, обусловленные любовью и ненавистью, которые никогда не прояснятся, но выпирают из бессознательного, как торчат из моря обломки потерпевшего крушение судна{149}. – Мои мысли с незапамятных пор обладают той смущающей особенностью, что предвосхищают итог, к которому должны подвести{150}; то есть они как бы обращают вспять поток времени и по ходу этого рискованного предприятия с дикой несообразностью подбирают ни с чем не сообразные клочки воспоминаний и усвоенных знаний, используют догматы эстетики в качестве мостов – и потому, словно малые дети, способны лишь невнятно лепетать на языке общепринятых условностей. Запутанность последовательности всплывающих в сознании понятий и категорий… как и заторы в продвижении умственной работы, возникающие из-за далеких от нее чувств, приводят к результату, имеющему большое сходство с леностью мышления… В это мгновение, когда Карл Льен дочитал статью до конца (и сел на место), мною овладело постыдное чувство зависти. Я понял, что, воспитывая себя, что-то упустил – даже не осознав, каким образом мог бы приучить свой дух к более строгой дисциплине. Не исключено, что дело тут в некоем изначально присущем мне недостатке, который я не мог бы устранить никакими упражнениями.
Компания собравшихся за столом бурно проявляла восторг, одобряя статью Зелмера и выражая почтение ко мне. Льен сказал несколько слов о внутренней разорванности и простодушии великих людей: они, мол, не знают, кто они, не учатся на собственных ошибках и потому ищут скорее одиночества, нежели близости с людьми, которые хотели бы стать для них хорошими товарищами и помощниками в периоды душевных бурь… Упрек и любовь. Может, еще и толика пафоса, и желание вернуть прежние славные времена…. Я совсем забыл, в какие воображаемые пространства только что завлекала мои ощущения статья Зелмера. Я теперь видел себя и заключенные во мне образы как бы сквозь пелену. Я растроганно поблагодарил всех присутствующих; мой бокал звенел, соприкасаясь с их бокалами; Аякс тоже чокнулся со мной. Я был анонимной личностью, которая принимает почести, адресованные, собственно, не самой этой личности, а некоему произведению. Мне этот час – и то, что он принес, – представлялся чем-то невероятным. Чтобы понять себя, я должен был бы услышать слово из уст Тутайна. Я думал, пока подносил бокал к губам: «Как входит в меня это вино, так же вошла в меня его кровь». Эта мысль меня утешила. Я выпил за здоровье собравшихся. Проглотил последние капли. И почувствовал, как черный лед во мне тает. Я наслаждался тем, что Льен, когда говорил о всех своевольных, мятежных, одержимых людях, нашел извинения для них, а значит, и для меня. Моя зависть к Зелмеру совершенно растаяла. Он другой человек, чем я. Все здесь присутствующие – другие. У каждого, для его персональных нужд, имеются своя душа и свои внутренности. И разве дело не обстоит так, что внутренности Олафа и Карла в нынешний год особенно сильны и требовательны – сильнее, чем воля этих мальчиков и чем воля окружающих людей? Но разве юношеский дух двух гимназистов из-за этого менее ценен или активен? Разве мальчики, напротив, не ведут себя сейчас непосредственнее и человечнее, потому что еще не сломлены профессиональной деятельностью и привычкой оглядываться на других?.. В эту секунду я впервые за вечер почувствовал пронизывающие меня шлиры старения. Но печалился я лишь несколько секунд. А потом на меня потоком устремилась радость других.
Госпожа Льен сказала:
– Нет, ну какое же счастье вы, должно быть, испытываете, ощущая себя знаменитостью!
Карл инквизиторским тоном спросил:
– Действительно ли сочинять музыку так трудно, как это представляют себе непрофессионалы?
– Ох, – ответил я, – порой это труднее, чем иметь дело со всеми сомнениями нашего духа, вместе взятыми, – а иногда так же легко, как полное отсутствие мыслей. Вчера ночью я сочинил почти две части новой сонаты. Пока я их записывал, мне казалось, что это не требует напряжения. Потом, правда, я чувствовал себя опустошенным… Но такие удачные часы – редкость… После ужина вы должны послушать, что у меня получилось.
После такого моего заявления последовал маленький бунт. Новость сочли весьма необычной. Все хотели узнать подробности; и уже готовы были прервать ужин, чтобы услышать сонату тотчас же. Но тут Аякс внес блюдо с «телятиной со сковороды». Мясо выглядело так роскошно и в носы ударил столь дивный запах, что требовательные голоса сразу смолкли; все сошлись на том, что сонату послушают «позже».
Теперь наступил момент, когда всеобщее внимание переключилось с меня на Аякса фон Ухри. Мои скупые слова – что идея новой сонаты пришла мне в голову, когда Аякс попросил меня для него поиграть, – по времени столь недалеко отстояли от его появления в дверях, с дымящимся жарким на подносе, что это вкуснейшее блюдо показалось всем непосредственным продолжением присущего Аяксу дара: дарить людям вдохновение. Теперь гости могли думать о сонате и одновременно восхвалять яичный соус, с удовольствием жевать мясо, рассуждая о моей музыке и о влиянии на нее Аякса. О нем-то, в общем, и шел разговор, потому что пробил его звездный час. Он сидел один за своим столом, но все глаза были устремлены на него. Госпожа Льен хотела получить рецепт и этого соуса, как прежде – рецепт коктейля. Госпожа Зелмер решительно задала вопрос, обучался ли Аякс специально поварскому искусству. Льен заметил, что я правильно поступил, взяв к себе в дом столь замечательного человека. Он даже назвал такой шаг спасением от грозившего мне упадка. Зелмер – между двумя глотками вина – объявил, что не представляет себе, как это я из года в год обходился без присутствия в доме второго человеческого существа.
Опустошив бокал, он повернулся к Аяксу и обратился к нему:
– Теперь у вас есть достойная задача. Вы можете содействовать тому, чтобы наш друг щедро одаривал нас плодами своей духовной работы. (Он говорил на родном для меня и Аякса языке.)
Госпожа Льен сочла этот призыв слишком патетическим; но она тоже прошептала мне на ухо свое мнение об Аяксе:
– Нет, что за человек, и какой скромный! Я прямо-таки влюбилась в него.
Она еще прежде пыталась убедить Аякса пересесть за наш стол. Теперь она повторила попытку. И опять неудачно. Но на сей раз все-таки добилась того, что Аякс к ней подошел и с ней чокнулся, пожелав ей всяческого благополучия. Он оказался достаточно любезен, чтобы доставить аналогичное удовольствие также и госпоже Зелмер.
Пока он подавал сыр, Олаф и Карл переместились от большого стола к маленькому. Их естественное желание присоединиться к Аяксу причинило мне боль, которая мало-помалу усиливалась. Что они молоды, это мои глаза видели. Моя память о Тутайне была не такого рода, чтобы именно матрос второго ранга, юный убийца, оставался во мне самым живым и ярким мысленным образом; воспоминания той поры поблекли за долгие годы нашего с ним совместного проживания. Эти гимназисты, со своим едва завершившимся созреванием, не могли бы оказаться на его месте. Но они почувствовали влечение к Аяксу, а он в их компании словно помолодел, теперь совершенно уподобившись матросу второго ранга Тутайну. Эти трое вместе образовали поколенческое единство – своего рода сообщество молодых. Разговоры за маленьким столом отличались от тех, что велись за столом большим. Внутренности у этих юношей были сильнее и здоровее, чем у нас. А их дух – более живым, менее отягощенным жизненным опытом и в меньшей степени израсходованным. Они всё еще пребывали в преддверии любви, хотя уже поняли ее механику и верили, что исступленность – их подруга. (Есть ли такое заблуждение, которое в юности не принимается за истину? И что может знать об исступлении подросток, который каждое утро просыпается новым человеком? Он еще растет, его кости и мышцы расширяются, звук его голоса становится чище с каждой порцией питательной еды.) Итак, произошло таинственное разделение. Я оказался вытолкнутым. Эти трое, за маленьким столиком, рванули к себе Тутайна, который тоже моложе меня, потому что в последнее время – почти целых десять лет – я продолжал шагать дальше, тогда как он оставался в неподвижности. Да, эти трое уже завлекли четвертого в свою компанию. Все они имели передо мной преимущество – отличались большей непринужденностью и веселостью. Они говорили на языке, который, может, и является повторением моего собственного давнишнего языка, но который я сейчас не понимаю, который забыл. Я сидел за одним столом с матерями и отцами. Сам я был человеческим телом, зачатым много десятилетий назад – когда они, эти молодые, еще пребывали где-то во тьме. Теперь на первый план выдвинулись их чувства, их любовь, их масштабы. Мир стал их миром. Почему же я вздыхал, думая, что Аякс, еще даже не осознанный мною как постоянная часть моей жизни, в очередной раз изменился? Разве я так плохо подготовлен к собственному неминуемому исчезновению? Разве не ясно, что моя жизнь идет на убыль? Разве мои надежды, уже давно, не представляют собой чаяния преждевременно постаревшего? – Я чувствовал новое одиночество, еще большее: быть для него чужаком. Я попытался справиться с потрясением. С Кастором мне было бы приятнее иметь дело. Но Кастор умер. Я видел, что собравшиеся у меня родители обрели счастье в своих сыновьях. В то время как мною овладела печаль, их лица светились радостью. Я поднялся, прошел в соседнюю комнату. И сыграл уже завершенные части сонаты. Только доиграв до конца, я заметил, что Аякс стоит у меня за спиной.
– Получилось красивее, чем вчера, – сказал он. – Кое-что изменено.
– Да, – подтвердил я, – за ночь мои мысли получили более широкое пространство, форма выкристаллизовалась; чувства, связанные с конкретным моментом, утихомирились; наступил другой час, пришло иное время, и теперь это уже стало воспоминанием.
Он спросил меня:
– А что с третьей частью?
– Она будет иметь еще меньше общего с теми минутами вчерашнего дня. Я сам уже стал другим. Дух не бывает дважды одним и тем же, потому что телу это тоже не свойственно.
Исполнение сонаты необычайно меня утешило, я теперь снова ощущал самого себя. Внезапное появление рядом со мной Аякса отодвинуло то недавнее впечатление в область неизменного, вызывающего печаль. Связи, которые могут существовать независимо от возрастной разницы, притяжения и переплетения, которые никогда не обнажаются полностью в результате деятельности духа, – все это снова восстановилось; инстинктивное желание жить, существовать здесь, опять проснулось; раскрылась гигантская сцена борьбы за самосохранение: влечения, которые соблазняют нас, домогаясь чего-то; чувственные ощущения, которые преображают очевидное, вся неправдоподобная нереальность фибриллярной машины, представляющей для нас единственную правду, нашу единственную нерушимую веру, к которой нас отсылают любая боль и любое наслаждение, даже любая активность духа, наши грехи и наше воодушевление; здоровье и внутренняя уравновешенность собственного организма есть единственное, чего мы – на глубинном уровне – желаем, к чему стремимся со всеми нашими заблуждениями и обретенными ценой тяжелого опыта свободами. Это неотделимое от нас, неотвратимое—до тех пор, пока мы не сойдем в могилу. А даже и тогда?.. – Она опять присутствовала здесь, моя жизнь, потому что нашла выражение вне меня, в сонате. И она была сильнее случайной причины, колдовским образом заключившей ее в это звучащее событие. Пусть Аякс и способствовал возникновению новой композиции – ее инициатором он не был. Илок могла бы исторгнуть из моей души похожие высказывания, как это и случалось раньше. Даже одиночество или треск потолочной балки могли бы сходным образом воздействовать на мой дух. Я – вопреки всему, что окружало меня в настоящем, – черпал из великой сокровищницы прошлого. Я еще не сделался добычей смерти. Я еще сохранял мою речь, мой неспокойный нрав; никакая капитуляция пока меня не сломила. Я еще хотел продолжения своего прошлого, хотел завершить то, что завистливое время оставило неготовым. – – —
Теперь все гости прошли через дверь ко мне. И стали выражать удивление по поводу того, что только что услышанное еще вчера не было записано и даже продумано. Я мог бы намекнуть им на неограниченную власть Времени, которое, как непостижимая для нас среда, окружает и пронизывает все предметы, которое есть судьба всех форм, всезнающе знающая наперед о предстоящих им изменениях, – потому что распознает эти формы, в их совокупности, как некое единство. – То же можно сказать и о гравитации. – Время никакая не река. Оно море. То, что мы принимаем за неудержимое иссякновение времени, есть лишь колеблющееся движение приливов и отливов. Оно возвращается, оно всегда присутствует здесь – это Время. Просто мы со своим несовершенным рождением еще недостаточно отдалились от берега. Мы – прибрежные странники, а не утонувшие в его глубинах. Время знает, что я, как ребенок, был таким же, что и в прошлую ночь. Это я ни тогда не знал, ни теперь не знаю, каким многообразным, каким наполненным прозрениями и воспоминаниями существом я был и остаюсь в процессе своего роста. Я думаю, что становлюсь собой только в последовательности разных стадий – а для Времени я являюсь всеми этими стадиями сразу. Для него нет разницы между вчера и сегодня. То, что я сыграл сегодня, Время слышало с самого начала, всегда. Что же касается завтрашнего дня: Время знает мою судьбу, ведь она изначально присутствовала здесь, скрытая только от меня, пока я не умею распознавать ее иначе как в виде последовательности разных стадий. —
Я сказал:
– Это и для меня удивительно.
Зелмер похвалил мое сочинение:
– Оно не как одна ночь, оно как целое лето. Кажется, что видишь небесный свет над земным ландшафтом и тени под ветвями деревьев.
– Музыка не имеет точных соответствий, – возразил я. – Логические понятия отскакивают от нее; ее краски остаются безымянными; ее чувственность не приводит к оплодотворению; печальному в ней не предшествует ничья смерть; плоть, человеческая плоть в ее замках превращается в меланхолию…
– Вы мастер, настоящий мастер, – подытожил Льен, явно убежденный в справедливости своих слов.
Аякс вышел, чтобы подать нам засахаренные сливы, залитые киршем.
– Нам бы выпить теперь шампанского, – сказала госпожа Льен.
– Господин фон Ухри наверняка знает, когда наступит подходящий момент, – успокоил ее ветеринар.
– Как темно стало, – произнесла, будто выныривая из сна, госпожа Зелмер.
Казалось, не хватало только этих слов, чтобы гости и сам я вернулись в гостиную. Аякс принес лампу. Льен зажег стоявшие наготове свечи. Зелмер опорожнил свой остававшийся на столе, все еще наполненный бокал. Оба гимназиста вышли из комнаты – вероятно, чтобы справить естественную нужду. Чуть позже все голоса превратились в воодушевленные возгласы по поводу фруктов, сбрызнутых алкогольной настойкой на диких вишнях. Никто не заметил, как атмосфера сдержанности, характерная для начала праздничного застолья, разрядилась. Теперь оба ученика-латиниста громко обращались к Аяксу на чужом для них языке. Госпожа Льен все больше воспламенялась симпатией к молодому матросу. (Это не было отблеском настоящей любви, а просто – выраженным в таком причудливом стиле признанием его достижений.)
Она крикнула молодым людям:
– Хорошо, что вы разговариваете по-иностранному, но старайтесь говорить без ошибок!
Зелмер пожаловался:
– Я хочу, чтобы наступил момент, когда я не должен буду один писать всю газету. Сейчас я раб черной типографской краски.
Льен спросил меня:
– Не испытываете ли вы большого удовлетворения, настоящего счастья?
А госпожа Зелмер:
– В самом ли деле мы – единственные, с кем вы делите свою радость?
Позже настал момент, который Аякс счел подходящим, чтобы предложить нам шампанское, принесенное Льеном. И опять на первый план выдвинулось то, что послужило поводом для нашего маленького праздника. Чуть позже явился шофер наемного автомобиля, заказанного, чтобы отвезти домой семейство Зелмер. Аякс со всей возможной поспешностью занялся приготовлением кофе. Потому что отъезд гостей можно было задержать, но не отменить. Наступила эта, увы, последняя четверть часа нашего пребывания-вместе.
Гости уехали; для Аякса и меня начались те несравненно-прекрасные минуты после шумной вечеринки в собственном доме, когда кажется, что все потоки событий остановились, когда уже подступившая усталость еще раз уступает место зоркому бодрствованию, когда благодарность гостям за то, что они пришли, смешивается с умиротворением от того, что их уже нет. Ты знаешь, что они сейчас едут по дороге, и не завидуешь им, потому что чувствуешь себя более защищенным. Ты смотришь назад, в пустоту. Задаешь беззвучные вопросы и получаешь приглушенные ответы. Ты видишь под собой пространство, полное звезд, и все-таки веришь, что не можешь провалиться туда.
Аякс спросил:
– Вы сегодня ночью будете писать третью часть сонаты?
– Возможно, – ответил я, уже зная, что не хочу этого и не могу.
Он, однако, быстро поднялся, надеясь, что я сейчас этим займусь.
Я же решил, что продолжу записывание «Свидетельства».
* * *
В течение последней недели этого месяца я закончил фортепьянную сонату. Работа давалась мне уже не так легко, как вначале. Несколько десятков тактов Adagio теперь, как вступление, предшествуют первой части. Заключительное Allegretto стало причудливее, чем та импровизация, которую я играл доя Аякса. В завершенном виде это произведение наполняет меня удовлетворением – не меньшим, чем доставляла мне любая другая работа. Аякс хотел слушать сонату вновь и вновь. Он ее рассматривает немножко как свою собственность. Чтобы порадовать его, я посвятил сонату ему.
Имя Тутайна, имеющего больше прав на меня, не предваряет ни одну из моих композиций. Упомянутое посвящение есть нечто необычное в моей практике: одна из вех на пути нашего с Аяксом неудержимого сближения. Мы мчимся вперед на большой скорости. Аякс теперь тоже обращается ко мне, прибегая к доверительному «ты». Я поменял имя и зовусь теперь, как и три десятилетия назад, Густав. Аниас – так меня называл Тутайн. Для Эллены я был Густавом. И снова стал им – после многих авантюр – доя Аякса.
Он, всеми силами тела и души, пытается заботиться обо мне. Наутро после вечеринки появился возле моей постели и предложил сделать массаж. Это, мол, освежит меня, ведь он владеет этим искусством. Аякс стал расхваливать, как случалось и прежде, исходящие от него магнетические излучения: целительные потоки, посылаемые его нервами… Три дня сопротивлялся я его домогательствам; на четвертый ослаб и согласился. Я немного стыдился перед ним; но моя кожа была для него кожей друга… а мышцы – как мышцы любого человека, развивавшегося в соответствии с планом Мироздания. Он мог бы сказать: «Так выглядит человек, достигший пятидесятилетнего возраста». Он, однако, сказал: «Вы смотритесь очень молодо».
Он мог бы выразить, пусть и нерешительно, свое отвращение; но он продолжил так: «У вас тело почти без волос, как у негра».
Он мог бы просто сослаться на безразличие к нам Природы, но предпочел обвинить ее: «Она довольствуется скудными вспомогательными средствами. Она и мужчине дает соски. А когда решила, что скаты и акулы должны откладывать яйца в похожих на пергамент скорлупах, то забыла создать для самцов орган оплодотворения, – потому что рыбы, как правило, не совокупляются, а только, покачиваясь, трутся друг о друга. Чтобы восполнить этот пробел, один из брюшных плавников – у скатов и акул – был преобразован в орган оплодотворения{151}. Она не последовательна в своих действиях и не практична, эта Природа; она жестока и заставляет каждое живое существо отвечать за ошибки, которые сама же и совершила. Какие горести обрушиваются на уродов от рождения, на калек!»
Разве не мог бы так рассуждать и Тутайн? Разве это не была строфа из Книги жалоб, проговариваемой отщепенцами?
Я ответил:
– То, что видят наши глаза, выглядит не лучше.
– Мы, человек, – сказал он{152}, – заблуждаемся потому, что существует лишь лабиринт для блужданий.
– Мы не можем быть лучше того великого театра, что назван нами Природой, – сказал я.
– Музыка лучше, чем Природа, – сказал он.
– Это один из способов отвлечь свои мысли от плоти, – уточнил я. – Человек ищет утешения во многих местах. Например, пытается думать, что на самом деле он не существует или что его подлинное Я – по ту сторону всех пространств – освободится от законов Природы. Но его мысли об этом очень несовершенны. Какую бы форму они ни принимали, они всегда подпитываются кровью. Говорят, будто тело и кровь Спасителя приносят людям избавление, вот люди и пожирают это тело при каждом богослужении. Люди в христианских странах настолько привыкли к такого рода пище, что это привело их к отупению. Они порой пугаются, когда находят один из рассеянных по земле квадров: гигантских каменных блоков, происходящих от Этеменанки{153}, сиречь Вавилонской башни, сооружения, которое должно было достичь неба, – образчик материала, из коего построены все человеческие религии. – Люди прислушиваются к сказкам, вырастающим из земли. Сказки эти многочисленны, как могут быть многочисленны мысли. Все мыслимые превращения случаются в них: превращения, коим противится Природа. В них вершится чудовищное таинство таинственного{154}. В них присутствуют страх перед мертвыми, страх перед жуткими местами, страх перед непредвиденной встречей. В них мы сталкиваемся с сообщениями и высказываниями неодушевленных предметов. Которые выдают нам какие-то тайны, обнажают взаимосвязи. Деревья говорят{155}, зарытые в землю кости вновь одеваются плотью. Кровяная колбаса кричит Ливерной колбасе: «Добраться бы до тебя, я ведь тебя хотела!»{156} Раздувшийся свиной пузырь заглатывает детей, родителей, жнецов и целый полк солдат. – Люди глазеют на жертвенники, которые на протяжении тысячелетий омывались кровью и молоком. И передают из уст в уста странные предания: в Лундском соборе, мол, стоит великан Финн и охраняет источник{157}… Когда под Нидаросом извлекли из могилы святого Олафа, на этом месте забил источник. Теперь этот источник заключен в одну из колонн октогональной церкви, и из него черпают пасхальную воду{158}… В сосновом бору под Сундвиком расхаживает человек без головы{159}… На Эр Маньё пророчествовал черный конь из девяти дубовых дубинок{160}… В Остерхайне некогда стояла башня, где хранились копья и другое оружие; в башне жила женщина, для которой приносили пищу голуби… – На все страны наброшена сеть таинственных мест. Мы, люди, вероятно, и не могли бы жить, если бы она бесследно исчезла. Потому что у нас не получится полагаться только на Бога или только на Разум: они оба недостаточны, неподручны: их обоих нет, если ты в них не веришь. Мы нуждаемся в нереальной форме реальности{161}. Привычную для нас модель восприятия мы должны время от времени ломать. Мы грезим и говорим: «Здесь стоял дом. Здесь стоял замок. Здесь стояла церковь. Здесь стояла башня». – Мы таким образом возрождаем их и думаем, что внутри и рядом с существующими сооружениями нашей человеческой жизни находится то, что для нас всегда будет оставаться закрытым – кроме тех случаев, когда сгнившие кости превращаются в привидения, потому что их обладатели когда-то были чрезмерно греховными или чрезмерно святыми. Чем был бы любой город без башен? Таинственное уже улетучилось из большинства соборов; только негасимая лампада горит в них, как красный глаз. Но в балочных потолочных перекрытиях, в высоких этажах, рядом с голосом сохранившегося в неприкосновенности бронзового колокола тайна еще живет. Над городами. Число башен уменьшается от века к веку. Если посмотреть на старые гравюры с изображениями городов, видно, как города повсеместно хватаются башнями за небо. Будто мало того, что церкви имеют башни, городские ворота тоже врастают в воздух и бастионы возвышаются над стенами своими могучими округлыми телами из камня. Само время, войны, бедность и равнодушие городских жителей мало-помалу уничтожали этот каменный лес. Колокола раскалывались, их отправляли на переплавку. Города становились всё более голыми. Большинство людей уже и не помнят, что значат башни. Они просто смотрят вверх, чтобы прочитать с циферблата время. Башни – свидетели нашей неугомонной фантазии. Кое-кто видит в них могучие фаллосы, указующие на небо. Но пирамиды, зиккураты, пагоды все же скорее можно сравнить с горами. Теми горами, где обитает Дух – не приносящий пользы Дух тайны, которая никогда не раскроется. Все сказки полнятся башнями и замками. (Говорят, что в языческие времена на круглых башнях горели негасимые костры.) Покои, где вершатся справедливость, несправедливость и колдовство, уединенны и пребывают высоко над повседневностью. Девочка спускает из окна длинные косы, достающие до земли, ведьма взбирается по ним вверх, день за днем, и злоупотребляет доверием едва начавшего взрослеть ребенка, который спасется лишь после того, как рыцарь, случайно оказавшийся в этих местах, тоже воспользуется редкостной висячей лестницей{162}. – Можно ли представить себе богатого и могущественного Жиля де Рэ, маршала Франции, который убил более ста сорока мальчиков, без замка и башни? Он был красив, как только может быть красив мужчина, обходителен, известен своими благодеяниями. Он бегло говорил на латыни. Он любил музыку, отличался благочестием и почитал Бога в богато украшенной церкви, возведенной на его средства, – с помощью инструментальной музыки и певческих хоров. Когда Жанна д’Арк привела французского короля для коронации в Реймс{163}, Жилю де Рэ поручили доставить священный сосуд с елеем{164}. Но позже он увлекся мистическими изысканиями. Он заклинал демонов Баррона, Ориента, Вельзевула, Сатану и Велиала. Один клирик из Италии{165} пообещал привести к нему этих демонов. Разве мог бы Жиль де Рэ, не имей он сказочного замка в нантских лесах, заманивать к себе целые орды мальчишек, чтобы превращать их кровь, опоганенную им, в рубины и золото? Разве это место не полнилось ужасной вонью? После того как маршал попал в тюремное заключение, там в одной только бочке были обнаружены кости сорока мальчиков. Тамошние сортиры воняли разложившейся плотью. В замке не оставалось ни одного уголка, который не был бы запачкан кровью. Наверняка зловоние чувствовалось и в окрестностях замка. – Впрочем, места проживания людей воняли на протяжении всего средневековья. Воняли города. Париж вонял хуже, чем куча дерьма. Нант тоже весь провонял: неглубокие могилы на тесных переполненных кладбищах, церкви с едва-едва замурованными склепами… – В 1440-м, поколебавшись сколько-то времени, против Жиля де Рэ возбудили судебный процесс. Ему едва исполнилось тридцать шесть, когда его казнили. Судьи неоднократно осеняли себя крестом, пока слушали его показания; они так и не узнали ни причин этого конфликта с Универсумом, ни мыслей преступника. Такое никогда не узнаешь. Протокол, составленный тогда, достаточно откровенен во всем, что касается деталей преступления; но он совершенно умалчивает о самом преступнике как человеке. Жуткий эксперимент, осуществленный этим человеком, оказался напрасным. Все исступления души напрасны. Они не дают новых знаний о человечестве. Человек способен на всё, потому что его инстинкты загублены верой. Верой в добро и зло. В Бога и в дьявола. В одном закоулке своей души человек перестал быть животным. Он выносит суждения. И втягивает в этот процесс весь Универсум. Человек – плохой судья. Он всегда судил плохо и фальшиво. Наказания, которых он требует, всегда превосходили жестокостью само преступление. Ибо наказания исходят от власти, преступления же – от бедности, сомнений и влечений. На суде всегда узнают только о технике преступлений. – И УПОМЯНУТЫЙ ГОСПОДИН ПОЛУЧАЛ ГОРАЗДО БОЛЬШЕЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, КОГДА ПЕРЕРЕЗАЛ ИМ ГОРЛО ИЛИ НАБЛЮДАЛ, КАК ИМ ПЕРЕРЕЗАЮТ ГОРЛО, НЕЖЕЛИ КОГДА…… ОН ВЕЛЕЛ ПЕРЕРЕЗАТЬ ИМ ГОРЛО СЗАДИ, СО СТОРОНЫ ЗАТЫЛКА, ЧТОБЫ МУЧЕНИЯ ДЛИЛИСЬ ДОЛЬШЕ{166}. – У него были помощники. Только Анрие, его слуга, за несколько лет доставил ему сорок детей. Одна старая женщина ходила от деревни к деревне, дарила небольшие подарки мальчикам, которые просили милостыню или пасли скот, и заманивала их в замок маршала. Когда все закончилось – жизнь этих детей и жизнь их убийцы – сама жуть происшедшего осталась и продолжала извергать из себя сотни легенд, сотни вариантов описания непостижимой деятельности маршала. Он, наверное, верил в Бога, потому что неверующий не может стать на сторону Зла. (Он вновь и вновь повторял на допросах, что приносил многие жертвы дьяволу, чтобы быть с ним на дружеской ноге, – но никогда не жертвовал свою жизнь и свою душу, принадлежащие Богу.) Он создал непреодолимую дистанцию между собой и другими людьми. Нет: химия его жизни подготавливала возникновение такой дистанции с того самого момента, когда он начал дышать. Он был сумасшедшим, но знал, что совершает преступления.