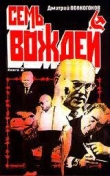Текст книги "Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая)"
Автор книги: Ханс Хенни Янн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 59 страниц)
– Ты, выходит, ничего, практически ничего не хочешь для меня сделать, – нетерпеливо перебил он.
– Я не хочу делить с тобой мое состояние, – продолжил я. – Человек меняется, вступив в брак. Буду ли я что-то значить для тебя, когда ты сможешь называть Оливу своей собственностью, своей узаконенной подругой… когда у вас появятся дети, общее хозяйство? Ты захочешь обеспечить себе нормальную бюргерскую жизнь, начнешь заниматься каким-то ремеслом, приобретешь земельный участок, или пивную, или не знаю что. По-другому не бывает. Мне же нужно обеспечить свою жизнь, потому что я не знаю ни одного человека, которого мог бы попросить взять меня к себе, если со мной вдруг случится что-то плохое…
– Я ведь говорил, – прервал он меня, – что никогда тебя не оставлю, что не собираюсь заниматься никаким ремеслом, не хочу приобретать ни земельный участок, ни пивную…
– Я верю, что не хочешь, – ответил я, – но причины такой позиции не вижу. В наших отношениях должна оставаться свобода, чтобы мы, если захотим, могли расстаться!
– Я обычно не меняю своих планов, – сказал он.
– Значит, дело во мне, – сказал я. – Твое присутствие стало необходимым, и для меня мучительна сама мысль, что ты можешь уйти. Но я уже распознаю некоторые трудности, ожидающие нас. Я больше не радуюсь будущему, скорее испытываю страх. Я готов дать согласие, чтобы Олива после свадьбы жила с нами, в этом доме…
– Это лишнее. Такой вариант не имеет смысла, – сказал он. – Здесь для нас нет места. И это не пошло бы на пользу твоей работе. Детский плач… ты слишком не молод и слишком музыкален, чтобы привыкнуть к нему. Что тебе за дело до наших детей? Нет, Олива может, как и прежде, жить у своего брата Зассера. Дом на берегу достаточно просторный. И мне там всегда рады. Зассер пока не собирается совершать глупости на собственный страх и риск. Мы с ним все обговорили. Для моей семейной жизни это подходящее гнездышко.
– Но путь отсюда до Крогедурена неблизкий, – возразил я.
– Неблизкий или близкий, – сказал он, – а семейная жизнь не станет хуже, если будет периодической. Моряки, отправляющиеся в дальние рейсы, тоже имеют жен и невест. Слуга должен заниматься своим делом.
– Звучит очень разумно, – сказал я, – но разум всегда слабее, чем желание, даже если под желанием понимать всего лишь стремление к удобству. Я не могу в таком деле похвалиться собственным опытом; но я слышал, что правовые категории сохраняются дольше, чем склонности. Наше с тобой товарищество уже достигло максимального уровня. Было бы безответственно полагать, будто оно лучше, чем твоя любовь.
– Ты ошибаешься, если думаешь, что можешь так легко от меня отделаться. – Пока он произносил эту фразу, глаза его были прикрыты.
– Я не хочу от тебя отделаться, – разволновался я. – Я просто хочу устранить недоразумения: по крайней мере, одно из них – что ты считаешь меня более состоятельным, чем я есть. Я бы не хотел навлечь на себя упрек, что разочаровал тебя в решающий момент твоей жизни. Я готов, на время, повысить твое жалованье, потому что в данный момент получаю хорошие гонорары. Но позже, когда мой мозг станет залежным полем… или меня настигнет какое-то другое несчастье, ты не должен рассчитывать на большее, чем половина моих доходов. Ты никогда не получишь больше половины…
Он снова прикрыл глаза и спросил:
– И сколько это будет, половина?
– Меньше, чем твоя нынешняя плата, – сказал я.
– Что ж, если так, то ты поистине живешь не по средствам, – произнес он насмешливым тоном, которого я никогда прежде от него не слышал. – Я бы посоветовал тебе продать лошадь и коляску, чтобы получить небольшой дополнительный капитал. Ведь понятно, что ты очень редко пользуешься этим объедающим тебя транспортным средством.
Когда я услышал эти слова, мною овладело столь сильное возбуждение, что возразить что-то я сумел лишь с запинками, на повышенных тонах. Инстинктивно я поднес руку к липу, чтобы Аякс не увидел, как оно дергается.
– Моего друга – моего единственного друга продать? – Илок – ни разу от меня не отвернувшуюся? – Единственное живое существо, которое сохранило мне верность? – Ты, выходит, совершенно меня не знаешь. Я в самом деле такого не ждал – таких твоих слов. – Уж лучше нам расстаться…
– Об этом поздно думать, – сказал он холодно.
– Поздно, чтобы я тебя уволил? – продолжал я кричать. – Как это? – Как прикажешь тебя понимать? – Ты что, мне угрожаешь?
– Мы должны урегулировать кое-какие мелочи, – перебил он. – Твое отношение к лошади меня не касается. Ты хочешь увеличить мне месячное жалованье. Хорошо. На какую сумму?
На мгновение я почувствовал себя оглушенным. Потом, напрягшись, попытался сообразить, как вообще дело дошло до такого. Я боролся с разными представлениями в моей голове. Я пошел на попятную.
Я сказал:
– Я хотел сделать тебя уже не слугой, а домоправителем. – И попытался улыбнуться; но не сумел. – Я бы прибавил пятьдесят крон…
– Я требую сто, – сказал он, и бровью не поведя. – Сотню сверх прежнего.
– Хорошо: на зимний период, – согласился я малодушно, – то есть до первого мая. – А потом мне придется сделать перерасчет. Но я бы хотел… уже сейчас сказать… объяснить… что, наверное, будет лучше, если мы… – Я не закончил фразу: не решился выговорить, что потом уволю его. Я услышал, как он возобновил свою речь.
– Ты, похоже, забыл, что должен мне еще кое-что. Ениус за ночную морскую прогулку получил недавно две сотни крон. За бензин ему пришлось выложить десять крон; и пять часов работы тоже стоят десять крон, по хорошим расценкам. Итак, в качестве взятки он получил сто восемьдесят крон. Это неплохая сумма – щедрый подарок за транспортировку ящика с малиновым шнапсом.
– Но ты ведь сам это предложил, – сказал я, чувствуя, как сердце заколотилось от тягостного предчувствия.
– Конечно, – согласился Аякс. – Я думал, что ты состоятельнее, чем теперь готов признать. На колодец без воды ты выкинул уж не знаю сколько денег. Я ждал, что ты и меня как-нибудь отблагодаришь…
Я опять начал запинаться, пот выступил у меня на лбу:
– Я твою помощь… принял. – Я думал… что это… что я принял ее как дружескую услугу. – Ты ведь… это был твой план… ты сам договаривался с Ениусом Зассером…
– Твой план был другим, – перебил он меня, – ты-то хотел замуровать ящик.
– Откуда ты знаешь… как ты можешь такое знать?!! – крикнул я.
– Все было написано у тебя на лбу, – сказал он. – Только внезапно, по непонятной причине, этот колодец без воды показался тебе непригодным. Мне пришлось помочь тебе изобрести новый план.
Я попытался опровергнуть сказанное. Я лгал. Я спорил, прибегая к безудержной лжи. Я выкрикнул Аяксу в лицо: «Неправда!» Он только передернул плечами и уставился в угол комнаты.
– Пусть так, – сказал он. – Но в любом случае я тебе помог избавиться от трупа. И тариф за такое дело наверняка должен быть выше, чем за то, чтобы облегчить умирающему боль, сделав ему инъекцию морфина…
– Ты всё неправильно понял, – сказал я, вернувшись к спокойным интонациям. – Я не совершил ничего такого, что могло бы сделать меня подходящим объектом для вымогательств.
– Напротив, мой план даже слишком хорош, – сказал он с печалью в голосе.
– Ты ведь не видел мертвеца, – возразил я с дурацким самодовольством.
– Зато я видел гроб, – ответил он, хитро усмехнувшись. – Льен тоже видел гроб, и Зелмер, и Ениус Зассер. О, Ениус Зассер превосходный свидетель!
Я утратил всякую уверенность. Мне не пришло в голову, что тут можно возразить. Аякс возобновил свою речь, прежде чем я собрался с мыслями.
– Сообщнику, которому не желают плохого, обычно стараются хорошо заплатить, – сказал он. – Бетонная могила обошлась бы тебе по меньшей мере в тысячу крон. – Большего я не прошу – поскольку отношения между нами товарищеские… и потому что ты богатей лишь наполовину.
Теперь мой мозг заработал так быстро, как бывает только во сне. Страх перед полицейским расследованием вылился в одно-единственное видéние, в котором эпизоды допроса, тюрьмы, пыток, виселицы и плахи налагались друг на друга, сополагались, образовывали ряды, так что одно просвечивало сквозь другое; но я с неслыханной четкостью воспринимал прежде всего саму пластику вложенных рамочных конструкций из похожего на стекло пестрого материала – и еще беспорядочное нагромождение бессчетных человеческих лиц, голов в касках, торсов, обтянутых форменной одеждой… судей в биреттах и таларах{255}; я видел протянутый к моему лбу крест в руке какого-то фанатика, рядом со мной; видел упирающегося руками мне в грудь загорелого нагого палача с кудрявыми волосами; и – все человечество, которое в конце времен превращается в россыпь газетных литер… Я непостижимо быстро уступил вымогательству. Я счел нормальным, что неимущему Аяксу – теперь, когда он собрался жениться, – достанется какая-то сумма из состояния, которым сам я завладел отнюдь не честным путем. Я упрекал себя, что довел дело до такого: что Аяксу пришлось угрожать мне, чтобы чего-то достичь. Я за считаные секунды стал другим человеком, уже не помнящим собственные недавние соображения.
Я сказал, мягко:
– Не хочу отставать от твоего прежнего хозяина. Ты действительно оказал мне большую услугу. Ты требуешь тысячу. Я даю, сверх того, еще одну…
Внезапно силы оставили меня, и все фантазии – тоже. Резкая перемена намерения – то, что всего несколько минут назад я хотел прогнать Аякса, а теперь решил одарить его денежной суммой, достаточно большой, чтобы дать повод для подозрений, – действовала внутри меня как разрушительный фактор. Нервы мои отказали. Я начал плакать. Точнее, безудержно разрыдался.
Уже давно я наблюдаю за собой и отмечаю некое изменение духовной структуры, которое, кажется, день ото дня усиливается и уже привело к очень странным следствиям: что моя память о ближайшем прошлом теряет остроту непосредственного переживания – что даже большие душевные волнения не оставляют во мне следа – что разговоры, которые я веду с Аяксом, часто уже через несколько минут становятся для меня не поддающимися распутыванию. Тревожный феномен, и я уже описывал его на этих страницах… В последнее время он стал повторяться так часто, что я не мог не замечать его, не мог не испытывать страха. – Внезапно, непонятно почему, у меня из памяти выпадают слова, которые были крайне важны для какого-то недавнего разговора; эти слова я уже не могу найти, и сам разговор становится призрачным, отодвигается в бесконечную даль. Или я вставляю в свой отчет неправильное слово. Слово, о котором я знаю, что оно неправильное, что в ходе беседы оно не произносилось; но я не могу удержаться, чтобы не вставить его, хотя понимаю, что тем самым искажаю смысл и обесцениваю сохранившиеся части воспоминаний. Но еще больше, чем такие очевидные лакуны и искажения, меня расстраивает общая расплывчатость моего восприятия. Как мои глаза теряют острогу зрения, когда я перевожу их с дальнего ландшафта на книгу или на лист писчей бумаги, – точно так же, кажется, и мои внутренние глаза, внутренние уши, сила воображения, фантазия, логическое мышление, инстинкт начинают страдать от немощности, которая делает меня слепым по отношению к определенным взаимосвязям и манифестациям… или, по крайней мере, ухудшает мою способность их различать. Уже то обстоятельство, что я редко могу истолковать выражение лица Аякса, что это лицо как бы ускользает от меня, что я его вновь и вновь забываю, негативно сказывается на неподкупности моего восприятия и на правильности моих выводов. – Уловки Аякса ошеломляют меня, в течение каких-то секунд я чувствую себя оглушенным; а когда вновь собираюсь с мыслями и думаю о только что предпринятой им атаке, мне начинает казаться, что ее вовсе не было… или, по крайней мере, что она была ненамеренной. Я нисколько не сомневался, что Аякс совершил попытку шантажа; но дистанции в несколько минут, какого-то образа, мелькнувшего у меня в голове, ощущения собственной вины, гуманного истолкования его побуждений хватило, чтобы первая моя интерпретация изменилась, а значит, чтобы исказился – в моем представлении – и характер Аякса.
Я перечитал, почти без пользы для себя, последние абзацы «Свидетельства». Я вижу здесь описание ссоры, несколько заостренное; но сами факты вырисовываются в моей голове не столь четко: я не могу охватить взглядом развитие событий. Раны вчерашнего и позавчерашнего дня зарубцевались. Эксцессы, имевшие место две или три недели назад, уже не воспринимаются как реальность. Да, эта совсем недавняя реальность обрела признаки сновидения. Едва проснувшись, человек еще помнит все подробности сна. И хочет удержать их в памяти. Одно-единственное запомнившееся слово вновь вызывает, как по мановению волшебной палочки, сновидческую сцену со всей ее глубиной: людей, пейзажи, улицы, дома и непостижимые, исполненные значения тени… Но час спустя это слово куда-то проваливается, сон блекнет, его воздействие на деятельную душу прекращается.
Аякс, может, и вымогатель, но эта его роль моим сознанием сводится на нет – потому, что мое состояние тоже не было приобретено честным путем. Еще сильнее, чем признание такого факта, воздействует на меня сама личность Аякса, физическое излучение заключенной в нем субстанции: ведь он берет под защиту – под крыло своего мировидения – неупорядоченность моего бытия, и ни одно из его разветвленных предположений меня не обесценивает. Помощь, оказанная им при устранении гроба, была безусловной поддержкой моих намерений. Он не спрашивает открытым текстом, кто я; но он не отвергнет меня, кем бы я ни был. – Такое медленно нарастающее доверие ко мне, такая неутомимая готовность идти навстречу… желание быть мне приятным даже в момент ссоры – мною все это воспринимается как смесь из муштры и любви, как нечто непостижимое, наподобие родительской власти. Пронзительная навязчивая непостижимость, над которой остается лишь плакать…
Он освободил меня от пелены слез: привлек мою голову к своей груди, погладил по волосам и спел колыбельную.
– Ничего плохого не произошло. Мы будем все больше привыкать друг к другу. Ты уже не можешь без меня обойтись. Ты еще противишься. Но тебе теперь нечего бояться. Я узнал все, что ты хотел скрыть. Разве это повредило тебе? – Это лишь показало, каким образом мы поладим друг с другом. Ты немножко поступишься гордостью, я же выиграю толику равноправия… – Он своей рукой отер мне слезы.
Потом и эти слова отошли в прошлое. Аякс вспомнил, что он все-таки мой слуга. Он встал навытяжку, как матрос перед капитаном.
– Прошу прощения, что я сегодня так поздно вернулся, – сказал он. – Семейная жизнь быстро усмирит эксцессы любви. Ты не должен бояться, что так будет продолжаться и дальше…
Разговоры этого утра истончаются, улетучиваются, как если бы они были дымом. Остались только мои слезы: боевые знамена…
* * *
Мы на время нашли прибежище в физической работе. Стен Кьярвал навестил меня и спросил, нет ли для него какого-нибудь поручения: например, перепахать поле или привезти из лесу дрова, он, дескать, припоминает, что там с весны осталось сколько-то кубометров; получилось так, что в ближайшую неделю ему нечем заняться на своем хуторе; собирать же урожай свеклы пока рановато. – Тут-то мне и пришло в голову, что мы могли бы продолжить работу над созданием каменного ограждения вокруг выгона, а если повезет, то и завершить эту стену.
Теперь Стен Кьярвал от четырехугольной каменной насыпи, расположенной возле колодезной шахты, перевозит самые большие обломки сюда. Аякс помогает ему грузить их на повозку-бестарку или на санки для перевозки камней. Оба они идут пешком вслед за лошадьми: спускаются с пустынного плоскогорья в низину. Я взял на себя роль строителя: орудую железным ломом, выкладываю фундамент, слежу за прямизной линий. Камни средней величины поднимаю и укладываю на место сам, а с более крупными мне помогает Аякс; самые большие должны служить цоколем, и тут уж Стен Кьярвал приходит нам на помощь. Физическое напряжение порой бывает столь велико, что все мускулы у меня дрожат; пот выступает на лбу, в подмышечных впадинах, на груди, на спине и на ляжках. Дни опять стали теплыми. Солнечный свет перемешан с туманом; оттого он кажется золотистым и мягким. Верхушки деревьев – как остроконечные церковные башни. Ржаво-красная листва скоро опадет. Восхитительное ощущение: когда ты прислоняешься, выбившись из сил, к каменной стене. Я чувствую, что улыбаюсь. Слышу, как стучит мое сердце. Думаю, и Аякс радуется этой работе. Он сильнее меня. И делает все очень ловко. Блузу он, как правило, сбрасывает на траву, рукава рубашки у него закатаны аж до плеч, а круглый вырез на шее – воротничка он не носит – расширен, поскольку верхняя пуговица отскочила. Когда Аякс поднимает камень и его руки оказываются близко от моих, я могу спокойно наблюдать вблизи игру мускулов на этих руках. Приятно смотреть, как молодой человек совершает естественную, будничную работу: обрабатывает поле, шагая вслед за лошадьми и бороной, или пересыпает лопатой зерно, или собирает созревшую свеклу, или садовым ножом подрезает кусты… или, как мне довелось наблюдать в эти дни, ворочает камни… используя железные рычаги и рычаги своих рук. Я не люблю крестьян, постоянно высчитывающих возможную выгоду (среди них не много найдется тех, кто способен на что-то лучшее); но я люблю батраков и лошадей, тянущих по полям сельскохозяйственные орудия. У нас есть хлеб, потому что существуют батраки и лошади. О них, правда, не принято вспоминать, когда мы сидим за столом, едим и насыщаемся. – Даже в моменты предельного напряжения сил, когда приходится поднимать тяжеленные камни, лицо Аякса не искажается. Я только вижу, как разбухают его предплечья, как проступают жилы на шее и как он подставляет бедро и живот под строптивую тяжесть камня… В самый первый день я проявил неловкость или оплошность: когда мы с Аяксом корячились, чтобы поместить на нужное место гранитный порог, я слишком рано ослабил хватку и каменный блок резко опустился, придавив Аяксу палец. Аякс не закричал. Лишь по его лицу я понял, что случилось что-то плохое. Каким-то особенным, хитрым движением – толкнув камень грудью – он освободил палец. Не знаю, считает ли он меня виновным в этом несчастном случае; я сам толком не знаю, виновен ли я. Он поднял указательный палец высоко к небу, переступил с ноги на ногу и скорчил гримасу. Кровь из ранки стекала вниз по ладони. Внезапно Аякс поднес эту руку к моему лицу, сунул пораненный палец мне в рот, сказал резко: «Оближи! В таких случаях надо слизывать кровь. Собаки тоже так поступают. Я не переношу вкус собственной крови». Я очень испугался. И даже почувствовал угрызения совести при мысли, что на мои губы попадет его кровь. Но я послушался, проглотил ее. Я принялся успокаивать боль, облизывая рану языком, насколько умел. Через две или три минуты Аякс решил, что этого достаточно. «Теперь твои губы обагрены кровью, как дверные косяки еврейского дома в канун Пасхи», – засмеялся он. О боли, казалось, он совершенно забыл. Мы обмотали палец носовым платком. И продолжили работу.
Стена и на сей раз останется незаконченной. Но, в любом случае, Стен Кьярвал перевез добрую треть камней и ограждение будет длиннее на пятнадцать метров. Мы установили большой гранитный столб и поставили себе цель: не прекращать работу, пока возводимая каменная стена не достигнет его.
Странно, сколь немногими скудными словами мы с Аяксом теперь заполняем вечера. В наших отношениях нет ни напряженности, ни глупых поводов для волнений. Мы работали, мы чувствуем усталость. Мы не теряли времени: хлеб, который мы едим, достался нам не задаром; мысли нас почти не отягощают. Физический труд – великая благодать. Но я понимаю также, что он приучает человека не церемониться: ты прижимаешься взмокшей от пота кожей к камню или к такому же взмокшему от пота телу. Стен Кьярвал, даже не отходя в сторону, пускает струю мочи прямо в колесо повозки. Лошади, пофыркивая, едят из привязанных к их шеям мешков. Трое мужчин подносят к губам горлышко одной и той же бутылки, и шнапс с клокотанием обрушивается в их глотки. Мы могли бы спать все вместе, в соломе.
Эти осенние дни, так щедро наполненные золотом и легким туманом, драгоценны. Мы таскаем камни. Две лошади тянут телегу. Илок безмятежно пасется поблизости. Эли сладострастно приподнял морду; ноздри у него влажные и черные. Он наслаждается воздухом. Все это производит на меня глубокое впечатление – впечатление чего-то сверхъестественного. Я отчетливо понимаю, что в последнее время мне выпало слишком много испытаний. Я бы хотел выкарабкаться из страхов. Это детское желание, очень наивное. Тебя не для того швыряют куда-то вниз, чтобы ты с закрытыми – или с опьяненными – глазами получил утешение; скрытый за этим жестокий умысел рассчитан на более длительный срок; он может сохранять свою действенность очень долго. Кто стоит в конце траектории твоего падения? В чьи распростертые руки должны мы себя отдать?{256} По правде говоря, я не способен придумать какой-нибудь способ защиты. Но я, в любом случае, постараюсь избежать жесткого удара. Я размеренно и трусливо работаю, чтобы к вечеру наверняка выбиться из сил… и все еще завидую тем, для кого работа есть нечто повседневное: повседневный хлеб, повседневная усталость, повседневный сон, повседневная безалаберность. Я по натуре несколько легкомыслен; и потому не справляюсь с трудными задачами: для меня они тотчас вырождаются в бедствие и унижение – что-то такое, из чего мне не удается выпутаться. Я говорю себе, что должен с терпением и усердием пытаться устранить это препятствие: эту размолвку с Аяксом. Наша с ним совместная работа на лугу стала для меня целительным, укрепляющим средством. Я теперь вижу – с непосредственно-близкого расстояния, без мешающих искажений, без каких-либо ложных теорий, – что Аякс – это обычный человек, что-то очень реальное, телесное. Я определенно должен упрекнуть себя в том, что придавал слишком большое значение мозгам под черепной коробкой; ведь, по правде говоря, дело вовсе не в каких-то соображениях, даже и не в морали – потому что тело, само по себе, обладает нерушимой нравственностью. И оно, тело, ведет себя лучше. Абстрактные слова всегда расплывчаты; мышление пребывает с ними чересчур долго, потому что не проходит больше через чувственное восприятие. Терпеливый пристальный взгляд нашей души – боюсь, что он всегда устремлен только в ночь, а ночью луга нераспознаваемы. Как же я могу – при такой плачевной неопределенности… при такой врожденной нечеловеческой неприспособленности к жизни… при такой слабости суждений – не изнемочь под воздействием беды? Или я держусь – пока – лишь потому, что обманываю себя? Неужели все мои надежды, как бы они ни звались, разрушены? – Любая жизнь полна кризисов; в конце концов, даже сильнейший периодически нуждается в отдыхе. Даже герои и святые в какой-то момент терпят поражение. Каждый человек знает минуты и дни, когда он как бы выскальзывает из собственного намерения, из заранее намеченной поведенческой колеи. Наше тяжелое тело может от нас ускользнуть. И душа может ускользнуть. Если бы мы всегда оставались уверенными в себе, мы бы, наверное, существовали без подлинной тайны, без достойных упоминания переживаний, без гнева и возмущения… были бы отбросами… хуже того: воплощенной скучищей.
* * *
Я не могу забыть, что он так мерзко высказался об Илок и посоветовал мне продать ее.
Инстинкт подсказывает ему, что он должен загладить вред, причиненный его странной выходкой. Теперь он не только говорит об Илок как о добрейшей и умнейшей из всех кобыл и приносит ей в конюшню целые буханки хлеба; он даже попытался обстоятельно мне объяснить, как дело дошло до столь чудовищного предложения с его стороны. Мол, его дух от усталости уподобился шутовской погремушке. Ночь полнилась дождем и бурей. Он лежал с Оливой между деревьями, в какой-то впадине, где-то в общинном лесу. Они так заранее договорились. Елки, в головах у них, охали. Поблизости – по крайней мере, отчетливо слышно для них – верхушки нескольких деревьев были сорваны ветром и с сетованиями, с криками упали на землю. Тьма превратила все вокруг в живые голоса. Мир полнился невидимыми мерзкими существами. Чудовищно раздутые твари, с пылающими глазами, и твари помельче, но ядовитые и кровожадные, давным-давно сгнившие великаны и драконы – все они восстали из мертвых
{257}. Они таились в темноте, но слышно было, как они со свистом бьют хвостами. Олива из-за этой ужасной близости тьмы испытывала страх. Она замерзла. Ему пришлось укрыть ее собственным телом. Вместо соития получилось целесообразное действие. Дождь сквозь одежду добирался до его спины и каплями сбегал по коже. Олива, под ним, заговорила о ребенке, которого она ждет, и о том, что нужно тщательнее, чем прежде, готовиться к свадьбе. Она пожаловалась, что вынуждена подвергать плод, растущий в ее чреве, воздействию таких ночей, смертельного страха и всяких опасностей. Она расплакалась. Он плакал вместе с ней. Они поняли, что их любовь подвергается испытанию. Они какое-то время надеялись, что выдержат все это; однако Природа вокруг них проявила могущество и показала, что цивилизованный человек – не зверь, который может найти для себя убежище вне человеческих домов. Они, волей-неволей, пришли к выводу, что нужно как можно скорее создавать собственный дом. Олива, наверное, думала только о кровати, столе и стуле, о колыбели и пеленках; в его же представлении все предметы обретали форму денег. Он должен достать деньги, и он решился обратиться ко мне. Он хотел заранее опровергнуть все мои возражения. И проявил излишнюю настойчивость. Потерял контроль над собой. Посягнул на мои очевидные права… Но ведь прежде он от той впадины в лесу прошагал до Крогедурена, провожая Оливу, и потом проделал весь путь в обратном направлении, чтобы вовремя оказаться возле моей кровати. Он все-таки опоздал. Силы внезапно оставили его. Им овладело уныние: потому что ночное торжественное обещание, которое он дал себе и Оливе, уменьшило жар его желания и, может, даже его любовь. Недавние тяготы и неуверенность в собственных намерениях соединились внутри его в ощущение холода. Единственное его осознанное желание состояло в том, чтобы выпить горячего глинтвейна. Но едва он искусственно взбодрился пуншем, как его задиристость, неуправляемость пришедших в негодность нервов, необоримая усталость заявили о себе. Все это соединилось с тоской по деньгам. – – —
Так он рассказывал; но я ему не верю. Он ведь не дал никакого вразумительного объяснения насчет того, почему его одежда была порвана. Когда на следующее утро он делал мне массаж, я заметил, что на предплечье у него глубокая рана, которую он – по крайней мере, в тот день – не перевязал. Из-за нежелания верить ему я даже не поинтересовался, как он получил эту рану. Нет, я не верю его рассказу. Думаю, он просто ревнует к Илок. Мне это больно, и меня это беспокоит. Потому что… потому что она по сравнению с ним лучший друг… и куда более беззащитное создание.
– – – – – – – – – – – – – – – – – —
Меня печалит, что, как и многое другое, память о Тутайне в моем сознании ослабла. Она почти угасает. Во всяком случае, периодически становится более разреженной. В моем мышлении образуются чудовищные пустоты. Часто мне требуются часы, чтобы сконцентрироваться для принятия незначительного решения или составить себе хотя бы слабое представление о чем-то. Моя память, похоже, продолжает контролировать только пространство сновидений. Но и в этом вневременном пространстве она ухудшается и перемешивается с элементами, которые забрасывает сюда какой-то предок или неведомое мне будущее. Уже то, что места, где мне встречается Тутайн, магически искажаются – улицы превращаются в комнаты, трапезы происходят в сортирах, земля ничего не несет на себе, а, наоборот, разверзается; что небо представляет собой черную купольную дыру, из которой свисают на цепях тысячи хрустальных ламп{258}; что древесные стволы расщепляются, выбрасывая из себя золотые монеты или странных зверей; что какие-то люди с седыми волосами, которых я никогда не видел, но которые называют себя моими родителями, бабушками и дедушками или тетушками, возмутительным образом вмешиваются в процесс моего восприятия, предъявляют мне упреки, чинят препятствия или предлагают нелепейшие объяснения происходящего, придуманные задним числом и потому опрокидывающие само понятие времени: уже такие вещи достаточно неприятны. Насколько же более тягостны превращения, которым подвергаемся мы с Тутайном! И ведь сила, которая ополчилась против меня, дурацкая: дурацкая, как постоянно возвращающаяся, все та же боль. Бесстыдное повторение одного и того же трюка – вот что у нас теперь на повестке дня. Мир психических явлений не находит нужным особо утруждаться ради меня. Он довольствуется давно устаревшими фокусами. К их числу относится и та сцена, что разыгрывается в Африке. Берег с двумя рядами раскачивающихся на ветру пальм, которые обрамляют дорогу. Из темноты – а здесь одновременно светло и темно – выступают они, обе фиолетовые возлюбленные{259}, на вид вполне телесно-осязаемые, но с грязными ошметками разложения на сверхкомплектных частях тела. В какое-то мгновение груди, а их может быть четыре на одном торсе, – сверкающие, подсвеченные всеми цветами солнца – оказываются в непосредственной близости от моих глаз, кичатся плотским великолепием давней юности, имеют лучшую форму, чем в любой действительности, и выглядят соблазнительнее, чем все, что я мог бы увидеть бодрствующими глазами; но уже в следующий миг серый туман отторгает этих дев, отрывает их от меня, так что остается лишь рана в виде трепещущего платка. Точно так же я могу внезапно почувствовать под своей рукой руку Тутайна – не видя его самого… или не видя отчетливо. Есть только его рука, но в этой руке воплощен он сам, целиком. Это дает мне уверенность, что груди фиолетовых дев еще вернутся. И это не самообман. Девы действительно идут нам навстречу, навстречу ему и мне. Каждому достается по невесте; и, само собой, любящие ложатся друг на друга, чтобы предаться радости. Точнее, радости предается Тень – некий Другой, мой Противник. Я лишь приблизительно могу это выразить. В таком сне Четыре могут слиться и стать Двумя, а в итоге останется Один. И всегда оказывается, что оставшийся – это я. От таких вещей голова может пойти кругом… Это ощущение, опущение-пустышка, что я исчезаю – уже исчез на три четверти, – не покидает меня, даже когда я бодрствую.