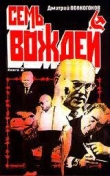Текст книги "Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая)"
Автор книги: Ханс Хенни Янн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 59 страниц)
– – – – – – – – – – – – – – – – – —
Несомненно, трех месяцев его присутствия хватило, чтобы расшатать мою память о Тутайне. Облик друга исчез из моего сознания. А теперь и сам Аякс, с первого дня своей не-зримости, убегает прочь от меня. Аромат увядших тропических цветов и запах подгорелой корочки окорока – вот важнейшие доказательства его существования.
Мое одиночество обогатилось новым измерением: память моя растекается, будто ее образы погрузились в лужу, поверхность которой колеблет ветер. Я поймал себя на том, что довольно громко произношу вслух: «Ты все еще ждешь его; но он не вернется».
Необычное ощущение безответственности – точнее, прекращения ответственности – переполняет меня. Все ошибки и заблуждения последних месяцев сгустились в эту новую особую ситуацию покинутости. Вкус моего забвения и моей памяти приправлен переживаниями последнего времени. Мой дух еле-еле тащится между длинными высокими стенами, загораживающими вид на ландшафты прошлого и будущего. Дух полон ожидания: что же откроется моим глазам, когда стены раскрошатся или станут прозрачными – когда другой час, чем этот, и другой, чем этот, день омоют своими волнами мою судьбу.
* * *
Я увидел автомобиль Льена: как он сквозь дымку дождя соскальзывает с холма и приближается. Сердце болезненно сжалось. Мозг уже начал подыскивать слова, произнести которые мне так или иначе придется. Я поспешил в кухню, чтобы вскипятить воду и приготовить чай.
Ром был крепким и ароматным, как всегда; поджаренный хлеб – безупречным; апельсиновый джем – прозрачным и желтым; чай – таким, какой нравится Льену: золотисто-коричневого цвета. Но Льен видел лишь то, что на стол накрываю я и что я положил только два прибора. Он неторопливо намазал кусок хлеба маслом и медом. Выпил первую чашку горячего чая. А потом прозвучал вопрос: «Где же Фон Ухри?»
Ответ я приготовил давно; но не сразу решился произнести.
– Его нет, – сказал я наконец.
– В такую погоду… – удивился ветеринар, – в проливной дождь?
Мой ответ так долго заставлял себя ждать, что его опередили новые вопросы:
– Он что же, отправился куда-то пешком? В город? Или на почту?
Из этой речи я понял одно: Льен ничего не знает о нашем с Аяксом разрыве.
– Понятия не имею, где он, – ответил я не очень уверенно. – Мне пришлось уволить его.
Ветеринар хмыкнул: он как раз откусил кусок бутерброда и, пока не справился с ним, не мог говорить; за эти секунды вынужденного молчания ответ, который он хотел дать мне, наверняка изменился. Когда ответ наконец прозвучал, голос Льена был холодно-вкрадчивым.
– Расскажите все-таки, как это произошло…
– Мы в свое время – когда Фон Ухри приехал сюда – договорились, что проведем вместе три месяца. Своего рода испытательный срок…
– Да-да, об этом я слышал, – рассеянно сказал Льен. – С тех пор вы узнали друг друга. Когда я в последний раз был здесь, речь об его отъезде не шла. Вы говорили, что Фон Ухри продолжил для вас работу, от которой отказался Тутайн. Эта работа… это была борьба с вашей меланхолией. Ваша неуступчивость победила и на сей раз… Вы ощущаете себя игрушкой слепых сил Мироздания, тогда как на самом деле вас назначили суверенным строительным мастером. Вы неблагодарны. Вы разбазариваете ценный строительный материал{367}…
– Три месяца истекли… – повторил я с неубедительным упорством.
– Вы его уволили? – Так вы выразились. – Но ведь должно же было что-то произойти… Фон Ухри даже не попрощался с нами. Ни словом не намекнул, что предстоит перемена.
Льен говорил тихо, но с едва скрываемым беспокойством. Он оглядывался по сторонам, будто все же надеялся где-то обнаружить Фон Ухри.
– Я мог бы заранее предположить что-то в этом роде, – сказал он, словно обращаясь к себе, когда так и не обнаружил Аякса. – Вы уже злоупотребили терпением одного преданного вам человека. Вы раздавили его грехом вашей врожденной неудовлетворенности.
– Все обстоит по-другому, – возразил я.
– У меня в памяти еще жив разговор, связанный с нашим последним визитом, – сказал Льен.
– Разговор свидетельствует против меня, это правда, – откликнулся я. – Но ведь и вы, Льен, в тот день – за моей спиной – скомпрометировали меня, в чем-то заподозрив… или даже обвинив.
– Мы действительно были не правы, когда стали, в ваше отсутствие, так яростно на вас нападать, – ответил Льен.
– Я, к несчастью, уловил тогда несколько слов, – сказал я, – вопреки… своему желанию. Я сделал вывод о вашем дружеском расположении ко мне – но и о том, что я для других неприятен… что меня окружает стена моей несостоятельности, отпугивающая окружающих… что моя неловкость, мой дух, отклоняющийся от обычных путей, нагоняют на людей холод…
Он смотрел на меня растерянно, испытующе, отчасти с состраданием, отчасти с презрением – мне, по крайней мере, казалось, что я читаю у него на лице эту двойственность.
Он сказал, когда понял, что я не собираюсь прерывать молчание:
– Ваш друг Альфред Тутайн тоже уехал очень поспешно: и ни с кем не простился. Он так и не написал мне ни слова. А ведь я не помню, чтобы чем-либо обидел его; я был к нему по-настоящему привязан.
– Откуда я могу знать, что им двигало? – выдавил я из себя.
– Вы этого не можете знать; да это и не ваше дело, – спокойно парировал Льен. – Много лет прошло с момента той ссоры; а вот Фон Ухри исчез всего несколько дней назад. Вы наверняка знаете, почему ему пришлось покинуть ваш дом. А может, знаете и место, где он сейчас находится.
– Ночью – в ночь на третье ноября – он вылез через окно, – сказал я.
– Значит, он вылез через окно, – повторил Льен торжествующе-ироничным тоном. – Вы что-то от меня скрываете. Вы упорно хотите что-то от меня скрыть.
Я не ответил.
– И где теперь Фон Ухри? Он все еще на острове? – спросил ветеринар.
– Я не знаю. Не знаю точно, – ответил я. – Но предполагаю, что он живет в Крогедурене – у брата своей невесты – недалеко отсюда.
– У Фон Ухри есть невеста? – быстро переспросил Льен. – Я этого не знал.
– По словам Фон Ухри, он и его любимая собираются в скором времени сыграть свадьбу.
Лицо ветеринара просветлело. Даже губы его изогнулись в подобие улыбки.
– Ну что ж, ситуация несколько прояснилась, – сказал он.
Теперь я мог бы незаметно выровнять разговор; и действительно употребил одну минуту на такую попытку. Я сказал:
– Не исключено, что через две или три недели Фон Ухри вернется – когда свадебные торжества останутся позади.
Но потом на меня накатило горестное ощущение покинутости. Сознание нарисовало отпугивающий образ моей личности, которая с трудом, да и то лишь при абсурдных обстоятельствах, может пробудить симпатию в других людях. Я знал, что Льен меня уважает, сочувствует мне и в любой момент придет на помощь; но он не признает за мной ни одной из тех привилегий, которыми обладают, в его глазах, Тутайн и Аякс. Мне ничего не простят, потому что я – неприятный человек{368}. Тутайн стал моим настоящим другом только потому, что был убийцей: чутье подсказывало ему, что у него самого есть неслыханный недостаток, который – так ему казалось – нельзя компенсировать никакими телесными или душевными достоинствами. Фон Ухри, поскольку он любит деньги, был готов продать мне право на некоторую причастность к его телесности. Он настолько уверен в моей отвратительности, что даже обдумывал мысль: не толкнуть ли в мои объятия Оливу, которая, из-за беременности, защищена от разъедающего вторжения моей крови. – Внезапно, с отчетливостью, никогда прежде не возникавшей в волокнах моего мозга, я понял: все женщины, которых я желал и душой, и чувственным восприятием… и которые в конце концов становились моими, – все эти женщины в скором времени и без особых сожалений расставались со мной. Они (о некоторых я могу это только предполагать) находили себе лучшего партнера. Даже мой сын Николай мне не принадлежит. Я вынужден был уступить его более счастливому семейному сообществу. Чудовищная горечь переполняла меня. Я вдруг почувствовал ненависть ко всему человечеству, включая и самого себя. Но эта ненависть была тотчас парализована ситуацией беспросветного одиночества, в которой я оказался{369}. Я посмотрел на Льена и оценил его еще раз. Он не годится для правды, для моей правды. Потому что не сможет последовать за мной в обступившую меня тьму. Я не вправе признаться ему, что только одна звезда еще светит для меня в этом мраке: позолоченный сосок Аякса; и что все прочее, относящееся к человеческому телу, женскому или мужскому, в моем мозгу угасло. – Что мой Противник уже загнал смерть под крышку моего черепа: я больше не причастен к наслаждениям и ожидаю теперь только иссякновения способности страдать.
– Но я не приму его обратно, – вдруг ляпнул я. – Он мне не нравится. Он навязчив. Он меня тяготит. Потому я его и уволил. Приготовления к свадьбе тут ни при чем.
Мне надо было сказать то же самое другим тоном. Льен тотчас поднялся со стула. Его лицо стало невыразительным, пустым. Он пробормотал, что у него сейчас нет времени болтать со мной. Он, мол, заглянет как-нибудь в другой раз, и тогда мы сможем спокойно поговорить. Он не допил свой чай. Он направился к двери. Я последовал за ним. На пороге он остановился и спросил:
– Вы не верите в Бога?
– Я не верю в персонифицированного Бога, – сказал я. – Мои познавательные способности ограничены: они не позволяют ни охватить ЕГО мыслью, ни воспринимать посредством органов чувств. Словам же я не доверяю. Многие рассказы о Нем и Его деяниях я нахожу отвратительными. Я мало-помалу сделался одним из тех отщепенцев, которые, наблюдая за Мирозданием, рассматривают несправедливость как нечто неизбежное. Бедные и слабейшие – – им невозможно помочь. К этому надо привыкнуть – к тому, что такое существует. Я никогда не ожесточался, как ожесточаются настоящие богачи, – но я больше не чувствую себя ответственным. Я не понимаю разницы между мышью, на которую падает сверху ястреб-канюк, и человеком, которому выносят обвинительный приговор. Жизнь кита представляется мне более значимой – более продолжительной, – чем жизнь какого-нибудь коммерсанта.
– Выходит, для вас в жизни существуют только анималистические, грубые ценности, – сказал Льен.
– Ну почему же… Я работаю на совесть. Я стараюсь не препятствовать скромному счастью понятных мне животных. Я признаю гармоникальные силы, которые создают кристаллы, цветы и плоть. Я вижу мерзкое равнодушие Природы к ее творениям. Я испытываю отвращение к пчелам и муравьям. Я знаю некоторые хитрости, посредством которых Дух Протоплазмы накрепко соединяет в пещере материнского чрева мужское семя и яйцеклетку, чтобы поколения следовали одно за другим. При такой сложности, с учетом необозримого количества вариантов, существующих в пределах этого консервативного принципа, грубо-сладострастное соитие представляется мне просто нулем во времени. Такое удовольствие едва ли можно признать реальным. Оно длится недостаточно долго, чтобы считать его сомнительным или порочным. Оно – короткое и невинное. Об этом можно иногда прочитать в надписях, которые молодые парни оставляют на стенах сортиров: «Пять минут услады, потом пятнадцать лет семейного ада». – Я слишком совестливый человек, чтобы пытаться ответить на часто задаваемый вопрос: что есть добро и что – зло? Есть силы, которые способствуют процветанию, и есть силы уничтожения. Преступник, которого я намеренно не называю «грешником», или порочный человек, способный лишь на грубые чувства, – такой человек состоит на службе у худших исполнительных властей, но сам не несет вины. Он так же мало может снискать милость у своих незримых господ, как и его жертвы. Мы все – после совершенной нами работы – подвергаемся уничтожению. Тот, кого забивают, не решает, к какому месту его тела будет приставлен нож. Право сильнейшего самоочевидно. И обращаться к Богу перед лицом такого правосудия, которое всегда ополчается против слабого, кажется мне столь же бессмысленным, сколь бессмысленно – оказавшись в положении отщепенца – превращаться в преступника. Человек не становится плохим, когда перестает верить в Бога; он даже не начинает вести себя естественнее – а просто делается более осторожным в суждениях… и более терпимым по отношению к тягостным истинам.
Льен все еще стоял на пороге; и не закрывал дверь.
– Такие принципы не применимы к жизни, – сказал он.
– Еще как применимы! – возразил я. – Вооружившись ими, можно лучше понимать животных, которые, как известно, не молятся; можно чувствовать целительные и творческие силы. Можно узнать локальных духов, то есть старых богов. Можно распознавать самое нежное и утонченное: то, что совершенно беззащитно под взглядом смерти. – Вспомните хотя бы о Моцарте! Об ужасающих горестях последних лет его жизни: о больных отказывающих почках; о неодолимых припадках похоти; о серых пеленах страха; о постоянной нехватке денег; о детях, которые рождались и умирали; о жене, которая, несмотря на все это, умела побуждать его к непрестанному творчеству. Человек с телосложением карлика посреди равнодушного и непоколебимого мира… Но его дух – деликатнейшая часть этого нездорового тела, катализатор негодной плоти – создает волшебную музыку. Мозг думает, рука записывает. Ради какой награды? С какой надеждой?
– Вы так часто Говорите о Моцарте, так горячо его любите, – сказал Льен, – что, наверное, как я предполагаю, искажаете реальные факты и перепутываете взаимосвязи.
– Жоскена я люблю горячее, без всяких оговорок. И Букстехуде тоже ближе моему сердцу. Строгие произведения Шейдта, подобные неменяющемуся, широко раскинувшемуся ландшафту, под небом которого никогда не бушуют грозы, – эти луга, на которых вместо цветов растут кристаллы, – они больше соответствуют моему идеальному представлению о музыке, чем ветвление кровеносных сосудов в плоти какого-нибудь адажио, которое мог сочинить только Моцарт. – Отважусь признаться, что некоторые части в «Музыкальном приношении» и в «Искусстве фуги» Баха я нахожу неприятными, точнее: нахожу, что они звучат неприятно. И тем не менее они кажутся мне исполненными смысла – кажутся доказательствами того, что музыка, не отрекаясь от присущих ей выразительных средств, может допускать поверхностные эстетические недостатки… как поэзия, чтобы не сделаться не-правдивой, может описывать низкое или дурное… и как произведение изобразительного искусства, не становясь отталкивающим, может, например, сделать человеческое тело козлоногим. Я не знаю, понятно ли выражаюсь. Художник покидает сферу возвышенного – но оказывается на изнаночной стороне китча: там, где пребывают грязная серьезность Природы и трагическое нежелание хоть что-то скрывать. В сочинениях Моцарта тоже имеется много таких темных пятен… где музыка перестает звучать (не становясь шумом) и сквозь нее начинает просвечивать устройство земной материи: равнодушие Вечно-творящей руки, которая как бы намеренно гасит воодушевление усердной руки земного мастера, коему предстоит обратиться в прах. Я имею в виду дословно то самое, что только что сказал: БОГ (это одно из ваших слов) мешает воодушевлению земного творца – потому что тот не может рассчитывать на вечную жизнь и, следовательно, вынужден обращаться со своим временем как скупец. Ему злокозненно мешают. Гармония миров не подчинится ему, потому что он не всемогущ. Он неизбежно должен претерпеть унижение. Природа очень часто нас унижает. – Я полагаю, моя любовь к Моцарту оставалась бы весьма умеренной, если бы я не обнаруживал в его нотах – вновь и вновь – такого рода позорные пятна. Сам он отчетливо их чувствовал, потому что вокруг них обычно скапливается целое озеро слез. Как у людей вообще поворачивается язык называть его сочинения по преимуществу грациозными или легкими и прелестными? Только потому, что он каждый раз пытается отогнать страх?.. Как бы то ни было, его уничтожили, прежде чем он завершил свою работу. Силам судьбы, которые пользовались этой слабой машиной, показалось, что уже довольно. Мне в руки недавно попала книга одного писателя – не то чтобы значительного, но определенно порядочного, – который описывает эту смерть по-другому, чем большинство биографов. Если верить ему, то последние дни Моцарта были еще холоднее, непостижимее, чем мы привыкли думать. – Моцарт отвернулся от жизни, и никто не выказал по отношению к нему ни малейшей жалости. Он был вытолкнут из общества, еще при жизни. – Свидетели единогласно утверждают, что его лицо – уже через час после смерти – исказилось до неузнаваемости. Исхудалое тело разлагалось так быстро, как это может происходить, только если при жизни ему отказывали в какой бы то ни было заботе.
– Не все ли равно, раньше или позже процесс гниения распространится на все тело? – спросил Льен.
– Полагаю, что не все равно, – ответил я. – Кости такого человека – гения – заслуживают длительного покоя. Ведь они еще полны воспоминаний. Прежде чем какой-то бездарный врач распорядился, чтобы больному клали на лоб холодные компрессы, дух Моцарта полнился музыкой. И я не могу представить себе, что в момент наложения компресса весь этот музыкальный материал вдруг отлетел прочь, словно электрическая искра. Мол, просто стоящие вокруг этого не заметили… – Я надеюсь на милость, на какую-то малость милости для такого Приносимого-в-жертву… для обремененного тяжкой ношей, которого постепенно разрушил собственный гений{370}.
– О подобных вещах невозможно спорить, – сказал Льен.
– Я нигде не нахожу места для персонифицированного Бога, – продолжил я, – и мысль, что Бог принял образ человека, мне совершенно чужда. У него что же, в ближайшие столетия или тысячелетия сгниют и выпадут зубы мудрости?.. Нет-нет! Если бы люди остановились на том, чтобы уподобить Бога слону, юлу, тигру, жирафу, коню, ослу, быку, оленю, гусю, черепахе, дубу, пальме, горе, – то все такие сравнения можно было бы принимать как притчи о невыразимости Его облика. Но люди слишком заносчивы. – И я не хочу больше иметь ничего общего с их божественным кумиром. В гармоникальной системе ОН, то есть Первоначало, это ненаходимый НУЛЬ, который где-то, в недоступном подвале Мироздания, осуществляет власть Ничто – – и зашвыривает луч Случая в Неведомое. – Я верю, что существует гравитация: непосредственное соседство наших противоположностей, которые хотят побрататься с нами{371}; я также верю, что песнопение – любое песнопение – насквозь пронизывает материю и помогает строить ее из бесконечно малых частиц{372}. Однако мое сознание – которое заговаривает со мной как с человеком, имеющим определенное устройство, – не может заполнить дыру, которая предшествует, как бесконечность, моему рождению и столь же безгранично разверзнется после моей смерти. – Льен, я не знаю, вернемся ли мы. Я не верю, что «я», одетое моей шкурой, воскреснет. Я, уже много десятилетий, противлюсь дурацким человеческим утешениям. Бог никогда не произнес ни слова. Он никогда не выдал ни одной тайны. Никогда, никогда. Иудеи заслуживают доверия не больше, чем все другие, восхваляющие некое озарение. Зажигательные речи какого-нибудь пророка привлекают к нему учеников – этого я не отрицаю. В наши дни реклама тоже порождает мистическое мыло, мистические целительные средства, мистический хлеб, мистические земные государства с мистическими парламентами и мистическими министрами. Короли все еще называют себя правителями Божественной милостью; но их тем не менее свергают. Их с незапамятных пор свергали или убивали. Человеческий дух никогда не рассматривал реальность как нечто целостное. Хотя она существует одновременно во всех частях мира. Она уклоняется от нашего чувственного восприятия. Она есть нечто, пребывающее по ту сторону наших познавательных возможностей. И мистика, и сухой отчет о реальности (который всегда бывает сфальсифицированным; как сфальсифицирована любая газетная строчка) – это наивные способы описания непостижимой одновременности. Всегда длится день, и всегда длится ночь. Протоплазма непрерывно умирает и непрерывно рождается. Звезды – пусть даже их свету, который доходит до нас, уже тысяча лет – все-таки, как и мы, в каждое мгновение охвачены гравитацией и пронизаны ею. Я не знаю, в чем состоит задача человека здесь внизу. Возможно, он должен всего лишь сжечь, израсходовав на топливо, все засыпанные землей леса, чтобы новые леса могли расти лучше. Я нахожу, что человек справляется со своим делом из рук вон плохо. Его преступления столь велики, что города превращаются в костры, на которых живьем поджаривают их жителей. Однако победоносные государства назовут это справедливостью. Человек не знает стыда. – – – Если дело обстоит так, что животные не воскреснут, одетые собственной шкурой, – значит, и мы не воскреснем. В этом я уверен.
– Твои слова ужасны, – сказал Льен.
– Я мог бы и промолчать, – сказал я, – но как раз в данный момент у нас не минута молчания, равнозначного лжи.
– Выходит, смерть для тебя – уничтожение и только, – подытожил Льен.
– Не внезапное… а медленное уничтожение, – сказал я. – Старение – это его начало. Как становление человека есть нечто постепенное – процесс, растягивающийся на годы, – так же и память о сумме событий, для которых конкретное тело было местом действия, есть нечто такое, что разрушается медленно. Когда-то для каждого из нас время стояло неподвижно; течет же оно так долго, пока остается орудием нашей судьбы. Правда, я настолько убежден в наличии у духа какого-то материального измерения, что возможность сохранения памяти человека – даже после смерти – вполне укладывается в мою картину мира. Предусмотрительные люди (не исследователи) еще несколько тысячелетий назад предполагали, что память, вместе с другими существенными элементами, скапливается в костях. – Мы должны избегать сожжения костей, если не хотим их уничтожить: потому что огонь пожирает последние остатки личности.
– Это все можно опровергнуть, – сказал Льен.
– Этого нельзя опровергнуть, потому что необходимым для такого опровержения личным опытом не обладают даже мудрейшие из тех, кто воображает себя мудрецом, – ответил я. – Однако… почему мы обсуждаем подобные вещи столь неосновательно, в буквальном смысле на ходу?..
– Вы часто думаете о смерти, – сказал Льен. – Вы боитесь ее. У вас нет надежды.
– Наша жизнь со временем оскудевает надеждами. Почему мы должны хотеть, чтобы надежды сохранялись и в тот период нашего все-еще-бытия, который, на взгляд других людей, уже отмечен отвратительным разложением? Распад имеет свои законы – как и рост, то есть строительство организма. Кишки животных – незримый склеп, обеспечивающий дальнейшее существование, то есть возрождение, молодого или, во всяком случае, еще функционирующего тела. Корни деревьев уходят под землю. Ускоренное разложение в теплом брюхе – ужасное превращение растительных и животных тел в кал и кровяной сок – служит для поддержания формы по-другому устроенного существа. Можно считать такой принцип остроумным или пошлым. Но таково земное питание. Оно есть нечто рациональное. Оно есть часть реальности – той самой, протяженной и всеохватывающей. Человек, пока он живет, не может этому противиться. Здоровый, при всех обстоятельствах, пытается жить дальше. Сомневающийся тоже пытается: потому что в конце бытия всех ожидает один и тот же ужасный призрак… овеваемый испарениями клоак. Только тот, кто всеми помыслами предался Богу… в какой-то мере облегчает себе неизбежную встречу с ним.
Льен повторил:
– Вы, наверное, очень боитесь смерти.
Я ответил:
– Мне кажется, я чувствую, что все мы… что всякое живое существо рано или поздно достигает состояния, когда оно приветствует смерть или, по крайней мере, больше не противится ей. Старение – это такая же хитрость Природы, как… как и наша способность получать удовольствия. Припоминаю, что животы беременных казались мне – когда я был ребенком – похожими на кладбищенские надгробия. Это было, конечно, зловещим интуитивным прозрением.
– Вам нельзя помочь, – сказал Льен. – Из-за таких прозрений вокруг вас будет сгущаться тишина. В ваших мыслях нет места для Провидения. Лучшая, чем теперь, эпоха существования человечества представляется вам недостижимой.
– Я не вижу признаков прогресса, это правда, – сказал я. – И даже не знаю, прогресс в какой сфере был бы желателен. В любом случае, техника не может улучшить человека – она лишь сделает его еще менее пригодным для жизни. В человеческом обществе даже простые требования справедливости невыполнимы. Несправедливость никогда не прекратится. Суеверия не прекратятся. Притягательная сила зла не прекратится. По мере роста численности населения страдания будут умножаться (правда, и удовольствия тоже). Вспомните о пустынях больших городов! О живущих там полчищах врачей! О больницах, этих конвейерах умирания! (Совокупление в больших городах ни на секунду не прекращается.) Но все эти люди погибнут. Все они станут жертвами. Они уже жертвы. Ненависть, отсутствие правды, деловая активность, жажда власти, ужасающая нехватка сострадания – – —
– Я думал, ваши занятия музыкой уберегут вас от столь негативного мировидения, – сказал Льен.
– Я стою на тех позициях, которые занял уже давно, – сказал я, – и на которые меня привели мои чувственные переживания, мой жизненный опыт и возможности моего мышления. Я выполняю свой долг, не ожидая за это награды. Самки животных и растения тоже выполняют свой долг: они подвергаются оплодотворению; и все то, что не иссохло и не имеет серьезных изъянов, приносит в этот мир свои плоды. Но такой рост, как бы ни был он одержим стремлением вторгнуться в мир, все же не использует в борьбе стальное оружие, или взрывы, подобные вулканическим, или жестокость, темную веру, что это воля судьбы: чтобы ее господство осуществлялось силами одной-единственной – человеческой – формы. Человек нарушил какой-то порядок. Он поставил себя над животными – в нем Природа становится все более разреженной, – но он остается животным. Он и будет, целиком и полностью, оставаться животным; его воля – не быть таким – загоняет его в вырождение. Я, конечно, не хочу отнимать у человека слова и музыку, не хочу отнимать его дома, его корабли, те удивительные цели, которые он перед собой ставит: пусть отдаст только часть той земли, которую он опустошил и узурпировал, – потому что он не вправе быть единственным животным, единственным числом, которое что-то здесь значит! Меня могут упрекнуть, что я люблю животных, как какая-нибудь старая уродливая англичанка любит своих домашних котов. А между тем моя слабость заключается в том, что я их недостаточно люблю – люблю только своим ищущим правды разумом. Я отчетливо вижу, что животные могут иметь правовые притязания. Я понимаю, что они были рождены с привилегиями, которые потом человек у них отобрал. Могущественные насекомые с их необозримыми полчищами, чудовищные пространства морского глубоководья внушают мне ужас. Я их боюсь как чего-то угрожающе-чуждого. Но теплокровные животные, живущие в одно со мной время, – их участь кажется мне похожей на мою. Они испытывают ту же боль, что и мы. И они это знают, Льен! Их смерть не отличается от нашей. Их разложение – – Да – у меня тоже порой возникают желания, относящиеся ко времени после смерти – очень извращенные желания, как скажут многие люди. Я хочу не того, чтобы моя музыка сохранила сияние вечности и даже после моей кончины сопровождала людей будущего своим темным звучанием; и не того, чтобы я стал для потомков каким-то сказочным существом, не похожим на себя, облаченным в плащ из моих композиций: это, само по себе, произойдет или не произойдет… Много ли я сумел почерпнуть из звучащего пространства{373}, это так или иначе когда-нибудь обнаружится; – мое желание более простое и варварское – я хотел бы получить награду: случайное совпадение обстоятельств, знак, показывающий, что наше сокровеннейшее простое желание может тронуть силы добра и зла, – я хотел бы упокоиться в могиле глубоко под поверхностью земли; и чтобы это произошло именно тогда, когда и для моего друга, моей лошади, пробьет смертный час – – и чтобы мы с ней сгнивали друг в друга – мы, двое животных —
Льен твердо взглянул на меня. Он пожал мне руку – сердечно, растроганно, с состраданием. Но у него возникло какое-то возражение. Его верхняя губа приподнялась. Он не высказал то, что ему пришло на ум. Может быть, он стыдится этого возражения.
– Провидение, скорее всего, не проявит понимания к таким желаниям, – только и сказал он.
– Льен, во мне тоже время от времени рождается смирение, безусловное смирение, потому что я знаю, что мы об этом мире не знаем ничего. Мы его не знаем. Мы не знаем и другого мира, как бы сильно ни доверяли нашим снам, нашему религиозному инстинкту или тому фантастическому яду, который на какие-то мгновения преображает материальную часть нашей души{374}. – Мы, по правде говоря, не знаем ничего. – У меня, конечно, есть какие-то мысли, как и у любого другого, и они наверняка очень наивны, как и у других людей; но я порой вижу образ этого мира, который не могу ни забыть, ни истолковать{375}. – Когда полная луна стоит на небе – вам эта картина знакома не хуже, чем мне, – луга клубятся паром, во всех травах гнездится роса, кроны лиственных деревьев сияют темным блеском посреди моря из тонкой световой пряжи – и внезапно земля умолкает, – а поскольку она молчит, начинает гудеть тишина – тогда я чувствую, что пребываю в согласии со всем сущим: потому что воспринимаю эту реальность как обманчивый образ, как тень иного мира, из которого меня не изъять. (Я очень часто принимаю реальное за неудачную эпифанию.) Я понимаю: то, что я вижу, я уже видел раньше, невообразимо давно; только тогда оно было более впечатляющим, легче постижимым, неослабленным – то есть не искаженным жестокостью – жестокостью тварного мира – в отличие от теперешнего мгновения. Это меня очень удивляет. Это удивляет меня, снова и снова, потому что такое повторяется. Повторяется, что я приветствую мир как что-то с незапамятных пор родное, – и всякий головокружительный страх исчезает – – ведь фантом по ту сторону вещей, подлинно-значимое, странные пространства из свинца и света – все это останется со мной. – – Между тем это нехорошо, когда мы выставляем себя самих в качестве свидетелей: ведь мы ненадежны. Какая-нибудь маленькая неполадка в нашем организме, незначительное кровоизлияние в мозг – и вот мы уже лежим. Лежим, и никогда больше не поднимемся – – —
Когда Льен ушел, я почувствовал себя настолько опустошенным, будто завершил нечеловеческую работу. Я шагнул к открытой входной двери, прислонился к косяку. Лил затяжной дождь, с черными точками и серыми полосами. Дорога возле дома превратилась в жидкую грязь, простроченную отдельными ручейками. Автомобиль Льена исчез из виду, прежде чем добрался до вершины первого холма, – такой плотной была завеса, сотканная из струящейся воды. «Теперь он вернется нескоро, – сказал я себе, – ведь я не нравлюсь людям».