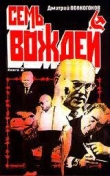Текст книги "Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая)"
Автор книги: Ханс Хенни Янн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 56 (всего у книги 59 страниц)
Бог
Все исходы вершит по промыслу своему,
Держит на крыльях орла,
Обгоняет в морях дельфина,
Высоколобого гнет,
А иным дарит нестареющую славу. <…>
Лучший удел —
богатство и счастье умения.
Удел этот – твой! <…>
Радуйся!
Как финикийский груз,
Через седую соль
Идет к тебе песня,
Касторова песня эолийских струн.
Прими ее охотно,
Вверь ее семиударной лире!
Будь, каков есть:
А ты знаешь, каков ты есть.
Песня, согласно Пиндару, приходит к поэту неизвестно откуда, как корабль, богато нагруженный – чем? – видимо, поэтической традицией, традицией Кастора. Но ведь и Хорн мучительно ждал именно этого Кастора, даже отправил ему письмо… а в результате появился, неведомо откуда, Аякс, нагруженный множеством пороков (свойственных, как потом выяснится, самому Хорну… но и человечеству в целом: «Человек способен на все», – многократно повторяет Янн). А дальше Пиндар говорит о том, как намеревается жить он сам (там же, с. 68–69; курсив мой. – Т. Б.):
Для мальчишек хороша и обезьяна —
Всегда хороша!
Но счастлив тот Радаманф,
В ком безущербен плод душевного сада… <…>
Глубоко утопает в море соленая снасть,
Но я, нетонущий, – под неводом на плаву. <…>
Я не дольщик бесстыдства!
Другом другу хочу я быть
И врагом врагу,
как волк, его застигая обходами здесь и там.
Кто словом прям,
Тот всякому надобен порядку —
Под царем, перед бурной толпой и меж правящих мудрецов. <…>
С легкостью нести принятое ярмо —
Благо;
А копытами бить против жала —
Скользкий путь!
Жить угодным хочу я меж добрыми.
В этой заключительной части Пиндар словно примеряет на себя различные возможные для поэта (и для человека вообще?) роли: обезьяны (у Янна в качестве нелепой «обезьяны» представлен Фалтин, но и Аякс однажды говорит: «…обезьяны бы от такого не отказались», Свидетельство II, с. 511); Радаманта, то есть справедливого царя, после смерти ставшего судьей в царстве мертвых, на Елисейских полях или Островах блаженных (как Хорн, на протяжении второй части «Свидетельства» пребывающий где-то в загробном мире); нетонущего, даже под сетью (Хорн в какой-то момент чувствует: «Мое отвращение всплыло на поверхность этого грязного потока. И мне подумалось: теперь оно уже не утонет», там же, с. 573); волка (как Аякс, а может, вместе с ним и сам Хорн); коня или кентавра (как Хорн и Аякс, неразрывно связанные: по мнению Хорна, Аякс хочет, «чтобы мы попеременно становились друг для друга собакой и ее хозяином», там же, с. 570).
Между прочим, история Иксиона была известна и этрускам; этот персонаж изображен на одном из этрусских зеркал, причем как демон (потому что он имеет крылья) и, видимо, в соседстве с галлюциногенным грибом.
Желание Хорна расстаться с Аяксом, по-видимому, обусловлено тем, что Аякс – во всех его разнообразных проявлениях – олицетворяет собой фигуру героя-хищника, а такая фигура опасна для современной цивилизации и должна быть заменена чем-то другим (см. выше, с. 776, комментарий к с. 623: С тех пор я пошел на убыль…).
Рассуждая о своей музыке, Хорн употребит выражение «золотисто-коричневый блеск моего спасения, во плоти и в духе» (Свидетельство II, с. 635), отсылающее к образам меда как целительного, примиряющего людей дара нимф или муз (см. выше, с. 862, 865–866). Такие образы очень часты и у Пиндара: «медвяное блаженство» (Пиндар, с. 12), «Текучий мой нектар, дарение Муз, / Сладостный плод сердца моего» (там же, с. 32) и т. д.
* * *
Эпизоды встреч Хорна с Тутайном и господином Дюменегульдом.В диалоге Плутарха «О лике, видимом на диске Луны» о периоде, непосредственно предшествующем возвращению из загробного – лунного – мира на землю, рассказывается (Луна, 26):
Некоторых, задумавших отплыть, задерживает божество, являющееся им, как людям знакомым и близким, не только в сновидениях и знамениях – многие наяву встречают видения и слышат голоса демонов. Сам Кронос спит, заточенный в глубокой пещере из златовидного камня, ибо Зевс вместо оков послал ему сон. <…> Обладая даром провидения, они многое сообщают и от себя, но наиболее важное и о наиболее важном они возвещают, как о сновидениях Кроноса. Ибо все, что только замысливает Зевс, является Кроносу в сновидении. Титанические страсти и движения души делают его напряженным, но сон опять восстанавливает его покой, и царственное и божественное становится само по себе чистым и невозмущенным.
* * *
Встреча Хорна с могильщиком из Остеркнуда (и, по совместительству, забойщиком свиней) Ларсом Сандагером. В романе описываются две встречи с этим человеком: в конце главы «5 ИЮЛЯ» и в конце главы «НОЯБРЬ, СНОВА»; то есть эти встречи как бы обрамляют пребывание Хорна на Фастахольме. В обоих случаях речь идет об усыновлении Хорном одного из детей Ларса: в первый раз Ларс отказывает, во второй раз от усыновления отказывается сам Хорн, но они договариваются, что новорождённый сын Ларса получит имя его (Хорна) деда, Роберта, и что Хорн завещает мальчику часть своего состояния.
Имя Ларс может быть шведской формой немецкого имени Лоренц, восходящего к латинскому Laurentius («венчанный лавровым венком»). Лавр считался деревом Аполлона, и лавровый венок был распространенной наградой победителю, триумфатору. С другой стороны, существовало этрусское имя Ларс с неизвестной этимологией.
Фамилию Сандагер можно попытаться истолковать, исходя из латинских корней sandix («красная минеральная краска, сурик») и ager («поле»): как «Красное поле». Тем более что название места, где он живет, Osterknud, образовано от общеевропейского корня, означающего «восток» (например, шведское Öster) или имя богини рассвета (греческое Эос, германское Эостра/Остара) и старошведского knot («узел»).
Больше того: поскольку место пребывания Хорна (во второй части «Свидетельства») стилизовано под Итаку, Ларса, появляющегося в самом начале и самом конце этой части, уместно сопоставить с двумя персонажами «Одиссеи»: «божественным свинопасом» Евмеем и отцом Одиссея Лаэртом (жена могильщика в романе, между прочим, охарактеризована латинским выражением Mater omnipotens et alma, «Матерь всемогущая и кормящая», Свидетельство II, с. 203). (Мать Одиссея, Антиклея, согласно Гомеру, умерла от тоски по сыну и встретилась с ним в Аиде, куда Одиссей спустился, чтобы узнать о своем будущем.) По одной из версий настоящим отцом Одиссея был не Лаэрт, а Сизиф (Гигин, 201):
Меркурий дал Автолику
<деду Одиссея/Улисса. – Т. Б.>, которого родила ему Хиона, такой дар, чтобы тот был лучшим из воров и не попадался на краже, потому что все похищенное им он мог превращать в какой угодно облик, из белого в черное и из черного в белое, из рогатого в безрогое и из безрогого в рогатое. Он постоянно воровал скот у Сизифа, и тот не мог уличить его, хотя понимал, что Автолик у него ворует, потому что скота у него становилось меньше, а у Автолика больше. Тогда, чтобы уличить его, он сделал отметки на копытах скота. Когда тот, по обыкновению, украл, Сизиф пришел к нему и нашел по копытам свой скот, уличив Автолика, что тот украл и увел его. Пока Сизиф был там, он сочетался с Антиклеей, дочерью Автолика, которую потом отдали в жены Лаэрту, и она родила Улисса, которого некоторые поэтому называют сизифовым. Оттого Улисс был хитрым.
Аллегорический смысл отождествления Ларса с Лаэртом, отцом Одиссея, проговаривает сам Хорн, вскоре после встречи с могильщиком (Свидетельство II, с. 662):
Я – больше по дурацкой добросовестности, нежели чувствуя такую потребность – описал в моей тетради и эту встречу. У меня достаточно жизненного опыта, чтобы знать: нужно проявлять особую осторожность, когда отец судьбы, Случай, заявляет о себе столь навязчиво.
* * *
Поездка Хорна в Ротну. Последняя поездка Хорна преисполнена ощущением счастья, которое вызывает у него первозданный осенний пейзаж (Свидетельство II, с. 662–663; курсив мой. – Т. Б.):
Покончив с делами, я не устоял перед соблазном: проехать по великолепной уединенной дороге до Ротны. <…>
Под этой тяжелой серой пеленой ландшафт преобразился. Он напоминал теперь одного-единственного гигантского тяжело дышащего зверя. Я чувствовал порывистость исходящего от него дыхания. Воздух стоял так тихо, что казалось: молчание проистекает из печали, естественной для всего живого…
Хорн словно прощается с этой местностью, описание которой перекликается с описанием Аида у Вергилия (Энеида VI, 237–241, 295–297, 309–312).
У Пиндара тот же пейзаж Аида истолковывается как скованный «божий враг – стоглавый Тифон» и служит наглядным символом обуздания разрушительных страстей (Первая Пифийская песня, «Этна»: Пиндар, с. 59–60).
* * *
Смерть Хорна. Что происходит с Хорном в конце романа, до конца не понятно. Но похоже, он покидает пределы пещеры, возвращаясь к существованию среди людей. На такую мысль наводит прежде всего сказка о Кебаде Кении (Деревянный корабль, с. 127):
Кебад Кения почувствовал (хотя он уже пустился в стремительное бегство, важность других ощущений не потускнела), как что-то пробило ему грудь. Как он, по истечении двух сотен лет, умер. Но он не увидел лица человекоподобного ангела. Смерть стала началом постоянно нарастающего ускорения. Или – продолжения бегства.
С чем-то подобным мы сталкиваемся и в конце новеллы «Свинцовая ночь» (Это настигнет каждого, с. 114):
Его память была разрушена диким безумством отчаяния. Как прикосновение постороннего существа – так он ощущал страх. Страх стоял и загораживал ему путь. И он в этот страх перелился: страх стал формой его естества, его тела. Теперь что-то подсказывало ему, что надо все это расколоть, попытаться пробить стену, похоронившую его заживо, – чтобы оставить страх позади себя, как пустую оболочку.
Он наклонил голову и, ничего не видя, ринулся вперед. Споткнулся, почти у самой цели. Жестокий удар… Боль была большой, как целый мир, но такой короткой, что Матье даже не вскрикнул. <…> В первое мгновение он ощутил замешательство, как если бы случайно отворил дверь, в которую не собирался входить, – или, проснувшись в своей постели, не узнал собственной комнаты, потому что во сне был от нее отторгнут.
Плутарх рассказывает, как один молодой человек, Тимарх, спустился в Тартар, чтобы «узнать, какую силу скрывает в себе демон Сократа» (О демоне Сократа, 21–23; курсив мой. – Т. Б.):
Не сообщая об этом никому, кроме меня и Кебета, он опустился в пещеру Трофония, совершив все установленные в этом святилище обряды. Две ночи и один день он провел под землей. <…> Опустившись в подземелье, он оказался, так рассказывал он, сначала в полном мраке. Произнеся молитву, он долго лежал без ясного сознания, бодрствует ли он или сон видит: ему показалось, что на его голову обрушился шумный удар, черепные швы разошлись и дали выход душе. Когда она, вознесясь, радостно смешивалась с прозрачным и чистым воздухом, ему сначала казалось, что она отдыхает после долгого напряженного стеснения, увеличиваясь в размере, подобно наполняющемуся ветром парусу; затем послышался ему невнятный шум чего-то пролетающего над головой, а вслед за тем и приятный голос. Оглянувшись вокруг, он нигде не увидел земли, а только острова, сияющие мягким светом и переливающиеся разными красками наподобие закаливаемой стали. <…> Посредине же между ними простиралось море или озеро, которое светилось красками, переливающимися сквозь прозрачное сияние. <…> Обратив же взгляд вниз, он увидел огромное круглое зияние, как бы полость разрезанного шара, устрашающе глубокое и полное мрака, но не спокойного, а волнуемого и готового выплеснуться. <…> Узнай, Тимарх, – слышалось ему далее, – что звезды, которые кажутся угасающими, – это души, полностью погружающиеся в тело, а те, которые вновь загораются, показываясь снизу и как бы сбрасывая какое-то загрязнение мрака и тумана, – это души, выплывающие из тел после смерти; а те, которые витают выше, – это демоны умудренных людей. <…> Таков рассказ Тимарха. Вернувшись в Афины, он на третий месяц, как предсказал ему явленный голос, скончался.
С Хорном могло произойти то же, что с циклопом Полифемом, которого ослепил, чтобы выбраться из пещеры, Одиссей (эта сцена изображена в коридоре «гробницы Орко» в Тарквинии). Но тогда в романе эта сцена как бы соединена, посредством «наплыва», со сценой возвращения Одиссея на Итаку. Странная вещь происходит с пуделем Эли, который вообще-то принадлежал Тутайну и любил его. То, что Хорну представляется выражением страха – «пес ведет себя как потерянный. Перевернулся на спину, показывает незащищенное брюхо – машет в отчаянии лапами» (Свидетельство II, с. 679), – может означать, наоборот, что Эли узнал вернувшегося хозяина, Тутайна, и радуется ему. Позже мы узнáем, что Эли «умер от паралича сердца» (там же, с. 689) – как у Гомера умирает старый пес Аргус, узнавший Одиссея.
Гомеровский циклоп – воплощение первобытной дикости, но, как ни странно, и дикости, присущей современному человеку, человеку XX столетия: гюбриса, то есть неоправданного самодовольства, цинизма, пренебрежения ко всему, что не касается его непосредственных интересов (Одиссея IX, 213–215, 272–276; курсив мой. – Т. Б.):
Дух мой отважный мгновенно почуял,
Что человека я встречу, большой облеченного силой,
Дикого духом, ни прав не хотящего знать, ни законов. <…>
Свирепо взглянувши, циклоп мне ответил:
– Глуп же ты, странник, иль очень пришел к нам сюда
издалека,
Если меня убеждаешь богов почитать и бояться.
Нет нам дела, циклопам, до Зевса-эгидодержавца
И до блаженных богов: мы сами намного их лучше!
У Гомера Одиссей, прежде чем ослепить Полифема, опаивает его вином и заставляет погрузиться в беспробудный сон (Одиссея IX, 372–374):
Овладел им тотчас же
Всепокоряющий сон. Через глотку вино изрыгнул он
И человечьего мяса куски. Рвало его спьяну.
Что-то подобное происходит и с Хорном-циклопом: он начинает пить еще до поездки к адвокату («Я лягу в постель, буду понемногу прихлебывать вино из бутылки… и засну…»: Свидетельство II, с. 662); после этой поездки, получив удар в живот от Аякса, продолжает отуплять свое сознание вином («Моим… не вполне безупречным нервам определенно пойдет на пользу, если я выпью еще два или три стакана и, лишь слегка отягощенный, засну… обманув себя, то есть принудив к менее четкому восприятию», там же, с. 669); в состоянии опьянения разговаривает с незримым господином Дюменегульдом («Сейчас я, не торопясь, приму в себя этот остаток, и мне будет хорошо, я лишусь какой бы то ни было ответственности. Я с безупречнейшей убежденностью предамся своей склонности к грезам…», там же, с. 669) – так что в конце концов разграничение между реальностью и нереальностью вообще стирается («Несмотря на неустойчивую дождливую погоду, я вот уже третий день… с тех пор, как отчаяние стало настигать меня даже в постели, в состоянии опьянения… езжу на коляске в гавань, чтобы в отеле дождаться Аякса», там же, с. 677). Сцена ослепления (или убийства) тоже может происходить во сне. Вспомним начало сказки о Кебаде Кении (Деревянный корабль, с. 120):
Он вошел в дом и велел слугам привести соседей. Сам же лег в постель, будто очень ослаб. То была хитрость. Он хотел приманить смерть. Соседи явились и обступили ложе.
А еще раньше говорится (там же, с. 119):
Кебад Кения задумался: не вкусить ли ему от плоти собственных шенкелей? От сырой плоти – той самой, что свисает клочьями, еще теплая и сочащаяся кровью, разгоняемой сердцем; но уже отделившаяся от человека, которому принадлежала: готовая прирасти к чему-то еще. Или – погибнуть, изойдя гноем.
То есть, с одной стороны, Кебад Кения (и Хорн?) хочет попробовать сырой человечьей плоти (как циклоп у Гомера, который «все без остатка сожрал, как лев, горами вскормленный, / Мясо, и внутренность всю, и мозгами богатые кости»: Одиссея IX, 292–293); а с другой стороны, речь ведь идет о его собственной плоти, его шенкелях (бедрах), как бы приносимых в жертву – как Одиссей у Гомера приносит в жертву богу бедра барана (там же, с. 552–553): «Я чернотучному Зевсу Крониду, владыке над всеми, / В жертву сжег его бедра. Но Зевс моей жертвы не принял».
В романе Янна приближающиеся четверо – быть может, помощники, соседи (а вовсе не убийцы): олицетворения тех четырех компонентов, которые в совокупности должны составить самость. Хорн – пятый. Основания для такой интерпретации дает и сцена ослепления циклопа у Гомера, где Одиссей рассказывает (Одиссея IX, 331–335; курсив мой. – Т. Б.):
Тем, кто остался в живых, предложил я решить жеребьевкой,
Кто бы осмелился кол заостренный, со мною поднявши,
В глаз циклопу вонзить, как только им сон овладеет.
Жребий выпал на тех, которых как раз и желал я;
Было их четверо; сам я меж ними без жребия – пятый.
В раннем драматическом фрагменте Янна, «Генрих фон Клейст» (1917), Фауст, желая создать нового человека, будущего поэта, обращает к статуе Венеры заклинание (Frühe Schriften, S. 887; курсив мой. – Т. Б.):
…Пятерица – звезда,
Звезда далече видна:
Это ритм наших чувств,
Который камень пронзил,
В центр пупок поместил,
Руки нам расщепил,
И, в божьем зале летая,
Гулом его оглашает,
Музыке близким он стал,
Все сферы в одно связал. <…>
Зажги же эту звезду,
Свет человечьего тела,
Ты, каменный истукан,
Богиня и юная дева!
Словосочетание conclamatum est может в таком контексте означать и «он назван по имени = призван».
Я думаю, что в романе прямым текстом перечислены те четыре компонента, о которых идет речь (Свидетельство II, с. 628):
Мы распознаем круг, по которому прошли наши ноги. Он, вместе с тем, лабиринт нашего
происхожденияипредназначения, в который мы мало-помалу погружаемся. И смятение нашихчувствимыслей…
Происхождение и предназначение олицетворены в Аяксе и Тутайне (а другое, «смятение чувств и мыслей», Хорн, кажется, познает, когда вглядывается, как в зеркала, в Льена и Зелмера, сравнивает себя с их ожиданиями). Удивительно, но такое мировидение было свойственно уже Пиндару, в чьей песне «Диоскуры» Зевс ставит своего сына Полидевка (Поллукса) перед выбором (Пиндар, с. 156):
«<…> Если хочешь ты поровну с ним<с Кастором. – Т. Б.>разделить удел, —
Половина дыхания твоего будет в глубях земли,
Половина – в золотых чертогах небес».
В другой раз Пиндар говорит о том же применительно к человеку вообще («Бассиды»: там же, с. 135; курсив мой. – Т. Б.):
Человек – ничто,
А медное небо – незыблемая обитель
Во веки веков.
Но нечто есть
Возносящее и нас до небожителей, —
Будь то мощный дух,
Будь то сила естества, —
Хоть и неведомо нам, до какой межи
Начертан путь наш дневной и ночной
Роком.
Мощный дух и сила естества могут быть олицетворены в Полидевке и Касторе, которые в конце концов оба стали наполовину бессмертными. У Гомера Одиссей видит в Аиде их мать (Одиссея XI, 298–304; курсив мой. – Т. Б.):
После того я и Леду увидел, жену Тиндарея.
От Тиндарея у ней родилися два сына могучих —
Кастор, коней укротитель, с кулачным бойцом Полидевком.
Оба землею они жизнедарною взяты живыми
И под землею от Зевса великого почесть имеют:
День они оба живут и на день потом умирают.
Честь наравне им с богами обоим досталась на долю.
В романе Янна воплощением (потомком?) «укротителя коней» Кастора является, видимо, торговец лошадьми Тутайн, а воплощением «кулачного бойца» Полидевка – Аякс, который незадолго до конца «Свидетельства» наносит Хорну два кулачных удара…
* * *
Последнее, что мы узнаем из записок Хорна, – что он направляется в конюшню. Это тоже можно истолковать как указание на его дальнейшую судьбу. Напомню, как выглядел дом Хорна (Свидетельство II, с. 13; курсив мой. – Т. Б.):
Три комнаты, с окнами на восток и на юг. Кухня, кладовая для корма, конюшня и гумно; длинный коридор расположен с северной стороны, он соединяет все помещения. Входная дверь выходит на юг; дверь конюшни – на север, она обращена к лугу.
А вот как комментирует Плутарх гомеровское описание пещеры нимф на Итаке (О пещере нимф, с. 389; курсив мой – Т. Б.):
Людям один только вход, обращенный на север, доступен.
Вход, обращенный на юг, – для бессмертных богов. И дорогой
Этою люди не ходят, она для богов лишь открыта.
1. Двое врат находились: одни – у созвездия Рака, другие – у созвездия Козерога. Платон называл их двумя устьями. У созвездия Рака находится тот вход, которым спускаются души, а у знака Козерога – тот, через который они поднимаются. Но вход у созвездия Рака – северный и ведет вниз, а тот, что у созвездия Козерога, – южный и поднимается вверх. Северный вход – для душ, нисходящих в мир становления.
2. <…> Римляне празднуют Кроний [Сатурналии], когда солнце входит в созвездие Козерога, и во время празднеств надевают на рабов знаки свободных, и все друг с другом общаются. Основатели обряда этим хотели показать, что те, кто ныне по рождению являются рабами, в праздник Кроний [Сатурналий] освобождаются, оживают, и через место, являющееся жилищем Кроноса, небесными вратами возвращаются в мир становления. Путь нисхождения для них начинается от знака Козерога. Поэтому дверь они называют ianua, и январь называется как бы месяцем врат, когда солнце от знака Козерога поднимается к востоку, поворачивая в северную часть [неба].
* * *
Заверенная копия протокола составлена, вероятно, в коллегии обожествленных героев-мастеров, таких как Вяйно (см. выше, с. 791), или Оливенкроне (безымянный победитель Олимпийских игр, игр жизни), или Фэлт Оаку (очередной «король-дуб», сразивший своего противника?), и подписана самим Хорном (см. с. 694), 24 марта. Но что же произошло с ним до этого?
У Гомера Одиссею удается победить циклопа именно благодаря оливе, оливковому колу, который сравнивается с корабельной мачтой – главной опорой для жизненного плавания (Одиссея IX, 320–323; курсив мой. – Т. Б.):
Свежий оливковый ствол: ее он срубил и оставил
Сохнуть, чтоб с нею ходить. Она показалась нам схожей
С мачтою на корабле чернобоком двадцативесельном,
Груз развозящем торговый по бездне великого моря.
У Янна Олива – это девушка, нимфа, к тому же отождествленная с богиней зари Эос, обращения к которой повторяются в «Одиссее» бессчетное число раз, как рефрен («Рано рожденная встала из тьмы розоперстая Эос…»).