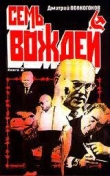Текст книги "Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая)"
Автор книги: Ханс Хенни Янн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 59 страниц)
Сентябрь
Похоже, что праздник, который Аякс устраивает для Хорна, соответствует Epulum Jovis («пиршеству Юпитера»), которое устраивалось 13 сентября: во время таких праздников специальные жрецы (epulones) укладывали статуи богов на пиршественные ложа и подносили им изысканные блюда. Тот факт, что среди блюд фигурирует печень утки, возможно, указывает на гадание по внутренностям, которое было очень распространено в Риме и особенно у этрусков. Пространное рассуждение о древних методах гадания (в том числе и по внутренностям) имеется и в первой части «Свидетельства» (с. 309–312).
Октябрь
1 октября – праздник Фидес, богини, олицетворяющей верность клятве.Ежегодный праздник в честь этой богини, согласно римскому преданию, ввел Нума Помпилий. Она изображалась как молодая женщина, увенчанная веткой оливы. В романе Янна, в самом начале главы «ОКТЯБРЬ», рассказывается, как Аякс приводит в дом, на два дня, свою невесту, которую (как мы узнáем позже) зовут Олива.
В Риме было и мужское божество Санк (Sancus, Semo Sancus), связанное с клятвами, покровительствующее браку, гостеприимству, закону, коммерции, контрактам. Санк считался сыном Юпитера, богом небесного света, мстителем за нечестность. Его отождествляли с Геркулесам, также охранявшим нерушимость клятв, и с Кастором. Ему был посвящен день 5 июня (см. выше, с. 836). Его храм, как упоминается в источниках, не имел крыши, чтобы клятвы приносились под открытым небом (не потому ли Аякс по ночам часто вылезает через окно и исчезает?). Слово semo означает «получеловек» или «полубог»; Дионисий Галикарнасский называет Санка «даймоном» (а не богом). По другой интерпретации, semones – это духи, воплощающие силу, таящуюся в семенах; в древности им можно было приносить в жертву только молоко (ср. эпизод в романе, где Аякс отказывается пить молоко: Свидетельство II, с. 245). В имперский период в Риме Санк воспринимался и как гений Юпитера (Genius Iovius).
5 октября – один из трех дней в году, когда был открыт мундус(mundus cerialis, «мир» Цереры), то есть вход в подземный мир, и духи мертвых могли бродить среди живых. Мундус – центр Рима; по мнению некоторых ученых, он первоначально представлял собой зернохранилище. Возможно, он имеет отношение к шахте (будущей гробнице Хорна), о которой рассказывается в начале октябрьской главы (Свидетельство II, с. 407–408).
* * *
Бухта Ениуса Зассера, брата Оливы и «перевозчика через Ахерон» (Свидетельство II, с. 418), напоминает и гомеровский загробный мир, и изображение в этрусской «гробнице охоты и рыбной ловли» из Тарквинии:
(Одиссея XI, 14–16):
…Всегдашний
Сумрак там и туман. Никогда светоносное солнце
Не освещает лучами людей, населяющих край тот…
(Свидетельство II, с. 411) «Утро выдалось холодным. Деревья были мокрыми от росы, и каждое закапало землю вокруг себя слезами. В низинах стоял медленно тающий туман».

Рис. 9. Морской пейзаж из «гробницы охоты и рыбной ловли» в Тарквинии, изображающий, по мнению ряда исследователей, пограничье с загробным миром.
Странные упоминания – в романе – того факта, что Олива и Аякс проникали в дом через окно («все эти лазанья через окно… в комнату и из комнаты на двор», Свидетельство II, с. 430), находят аналогию в рассказе Овидия о том, как богиня Фортуна посещала царя Сервия Туллия (Фасты VI, 569–579; курсив мой. – Т. Б.):
В тот же день тот же царь там же храм посвятил и Фортуне.
Кто же, однако, тут скрыт в храме под тогой двойной?
Сервий это, но вот почему так лицо его скрыто,
Точно не знает никто, так же не знаю и я.
Верно, богиню брал страх за ее потайные свиданья,
Верно, стыдилась своей связи со смертным она, —
Ибо пылала к царю она неуемной любовью,
Не оставаясь слепой лишь для него одного.
Ночью в свой храм пробиралась она чрез окошко, «фенестру» —
И «Фенестеллой» теперь в Риме ворота зовут.
В романе накапливаются детали, говорящие о сближении Хорна с Аяксом; возможно, Хорн сам и был одной из тех двух собак, что ночью задрали овец (Свидетельство II, с. 433). Ведь не случайно между ними происходит такой разговор (там же, с. 487; курсив мой. – Т. Б.):
– За наше братское единство! – сказал <Аякс>. Я все еще медлил. Обдумывая, что бы мог значить такой тост. Прежде Аякс никогда не говорил о братстве-близнячестве.
– Да, – наконец коротко ответил я.
– Два монстра должны обняться, – произнес он с пафосом.
А еще раньше Аякс предлагает Хорну облизать его (Аякса) пораненный палец, ссылаясь на то, что собаки тоже так поступают (там же, с. 450).
В Аиде находились две чудовищные собаки: Кербер и Орф, псы-братья; Орфа, пса трехголового Гериона, убил Геракл своей дубиной из оливкового дерева. В гробнице же «Орко» изображен Одиссей, выкалывающий глаз Полифему колом из оливы, этого священного для греков дерева (второго по значимости после дуба), подаренного афинянам самой богиней Афиной. «Свежий оливковый ствол, <…> кол заостренный» (и обожженный на углях) упоминается и в «Одиссее», в сцене ослепления Полифема (Одиссея IX, 320 и 332). Поэтому далеко не случайной представляется такая запись Хорна (Свидетельство II, с. 473):
К вечеру Олива стала совершенно невыносимой. Несомненно, Аякс пользуется ею как оружием, пока что тупым, но которое он мало-помалу закаляет и заостряет в пламени предоставляемых им интерпретаций.
Аякс однажды заводит разговор о том, что Хорн – человек «с прожорливой <волчьей?> шкурой» (Свидетельство II, с. 523), Хорн по этому поводу говорит (там же, с. 525):
Он подозревает, что во мне таится источник нечеловеческого сладострастия и несказанных прегрешений… подлинная болотная трясина. Он даже заговорил о моей «прожорливой шкуре».
Болотная трясина – это признак Гадеса, загробного мира, – который, следовательно, должен быть заключен внутри Хорна. С другой стороны, и Хорн говорит об Аяксе весьма странные вещи (там же, с. 484–485; курсив мой. – Т. Б.):
Я бы просто стряхнул с себя Аякса, если бы чей-то непререкаемый, убеждающий завет, плотский и каменный, который никак не может быть фальшивкой, не угадывался в его глазах, в верхней половине лица и даже в загадочно-высоком своде ротовой полости.
Объяснить эту «загадочность» можно разве что словами Августина Блаженного, критиковавшего веру в Януса (Aug. De civ. Dei VII, 7–8: Лосев, с. 369; курсив мой. – Т. Б.):
Итак, спрашиваю: кто таков Янус, от которого ведет начало все? Отвечаю: это – мир. <…> Но перейдем к толкованию двулицего идола. Они говорят, что статуя имеет два лица, спереди и позади, потому что внутренняя полость нашего рта, когда мы его открываем, представляется похожею на мир (почему-де греки и называют нёбо ouranos и некоторые из латинских поэтов небо называли palatum – нёбо); а от этой полости рта есть один выход наружу, по направлению к зубам, а другой – внутрь, по направлению к глотке. Так вот к чему сводится мир благодаря нашему названию нёба, греческое оно или поэтическое!
Здесь нужно остановиться и осознать, что картина еще больше запутывается. Хорн (в принципе) может стряхнуть с себя Аякса: как будто несет его на спине, как Эней нес Анхиза, своего отца, а суперкарго в романе – карлика, воплощающего злой помысел (Свидетельство I, с. 57–58). Если Хорн это Одиссей (чье имя в переводе значит «Тот, кто гневается», или «Тот, кто ненавидит», или «Сердящий богов»; на чьем щите было изображение дельфина), то Аякс может быть или его дедом Автоликом («Одиноким волком», «самым вороватым из людей», сыном Гермеса; который, между прочим, подарил внуку перстень с изображением волка); или Телегоном (сыном Одиссеея и Цирцеи), который, не узнав отца, насмерть ранит его копьем с наконечником из шипа ската (ср. видение Хорна: «Меня породил скат, отложив яйцо, – и передал мне в качестве наследственного признака колючки своего гадкого хвоста…», Свидетельство II, с. 171); или, наконец, провидцем Тиресием, которого Одиссей встретил в Гадесе и который предсказал ему такую судьбу. Но, скорее всего, речь идет о типичной человеческой судьбе мастера и основателя рода, об определенных присущих ему возрастных ролях…
Между прочим, Одиссей тоже в какой-то момент притворился безумным, чтобы не идти на Троянскую войну (у Софокла была трагедия «Одиссей безумствующий», от которой сохранился крошечный фрагмент), так что слово «Аякс», как имя нарицательное, могло бы относиться и к нему (и к Гераклу тоже).
* * *
Пейзаж с пещерой, гаванью и оливой заслуживает особого рассмотрения. В «Одиссее» рассказывается (Одиссея, XIII, 96–112; курсив мой. – Т. Б.), что священная олива росла на Итаке, в гавани Форкина (морского божества, сына Геи-земли и Понта-моря, олицетворения морской бездны, у которого от брака с его сестрой Кето, чье имя означает «морское чудовище», родилось множество чудовищ):
К острову тут подошел быстролетный корабль мореходный.
Есть в итакийской стране залив один превосходный
Старца морского Форкина. У входа его выдаются
Два обрывистых мыса, отлого спускаясь к заливу.
Мысы залив защищают снаружи от поднятых бурей
Яростных волн. И корабль крепкопалубный, с моря зашедши
В этот залив на стоянку, без привязи всякой стоит в нем.
Где заливу конец, длинналистая есть там олива.
Возле оливы – пещера прелестная, полная мрака.
В ней – святилище нимф; наядами их называют.
Много находится в этой пещере амфор и кратеров
Каменных. Пчелы туда запасы свои собирают.
Много и каменных длинных станков, на которых наяды
Ткут одеянья прекрасные цвета морского пурпура.
Вечно журчит там вода ключевая. В пещере два входа:
Людям один только вход, обращенный на север, доступен.
Вход, обращенный на юг, – для бессмертных богов. И дорогой
Этою люди не ходят, она для богов лишь открыта.
Имеется текст античного неоплатоника Порфирия (232 – ок. 305), посвященный анализу именно этого отрывка, – «О пещере нимф». Порфирий уподобляет гомеровское описание пещеры знаменитой платоновской притче о пещере (Порфирий, 7–8, 10, 14, 29, 32–35; курсив мой. – Т. Б.):
Но пещера была не только символом смертного, чувственного космоса, как только что было сказано. В ней усматривали также и символ всех невидимых потенций, из-за того, что пещера темна и сущность ее потенций недоступна для зрения. <…> Исходя из этого, думается мне, называли космос пещерой и гротом пифагорейцы, а впоследствии и Платон. <…> Нимфами-наядами мы называем собственно потенции, присущие воде, но, кроме того, и все души, вообще исходящие в [мир] становления. <…> Пурпурные же ткани прямо означают сотканную из крови плоть, так как кровью и соком животных окрашивается в пурпур шерсть и благодаря крови и из крови образуется плоть. <…> Соответственно этому роду, смертному и подверженному становлению, более близок север, роду же более близкому к божеству – юг, как самим богам – восток, а демонам – запад. <…> Не случайно, как кто-нибудь мог бы подумать, дала здесь свой отпрыск маслина. Она включается в загадочный образ пещеры. Так как и космос появился не случайно и не наудачу, а является осуществлением мудрого замысла бога и интеллектуальной природы, то у пещеры, символа космоса, выросла рядом маслина как символ божественной мудрости. Это – дерево Афины, Афина же есть мудрость. <…> Так и космос управляется вечной и вечноцветущей мудростью интеллектуальной природы, от которой дается победная награда атлетам жизни… <…> Не без основания, мне кажется, Нумений и его последователи видели в герое гомеровской «Одиссеи» образ того, кто проходит по порядку весь путь становления и восстанавливает себя в беспредельном… <…> Поэтому ему подобает сидеть в качестве просителя бога под оливой и под масличной ветвью умолять домашнее божество. Ведь совсем не просто освободиться от этой чувственной жизни, ослепив ее и стараясь быстро ее уничтожить. Человека, осмелившегося на это, преследует гнев морских и материальных богов. <…> Но надо, чтобы [Одиссей] стал совершенно вне моря [непричастен морю], до того несведущим в морских и материальных делах, что принял бы весло за лопату для веянья зерна из-за полной неопытности в орудиях и трудах, необходимых для моря.
А. Лосев, исследовавший тексты Порфирия, описывает его представления о демонах, которые оказываются очень схожими с той картиной, которую мы наблюдаем в романе Янна (Античная эстетика VII, с. 60):
Те, которые находятся в вышине, под небом, – это добрые демоны. Он их называет по иудаистическому образцу ангелами и архангелами. <…> Однако, пожалуй, гораздо большее значение для Порфирия имеют злые демоны, обитающие в нижней атмосфере, порочные и завистливые, которые вносят только одно безобразие и в человеческую жизнь вообще и в религиозные обряды и таинства. Порфирий настолько конкретно видит тех и других демонов, что пытается даже изобразить их наружность. <…> Местопребывание злых демонов – подземный мир, где они мучат других и сами мучаются во главе с Плутоном и Сераписом. Судя по всему, Порфирий рекомендует просто не иметь с ними никакого дела.
По мнению Лосева (там же, с. 106–107), «особенно важно именно то, что философия поздней античности (III в. н. э.) использует древнейшие символы ранней греческой культуры. Такая реставрация старины – явление чрезвычайно примечательное для эпохи упадка классического греко-римского мира. Ученые и писатели, философы и поэты, объединяя все силы в борьбе с растущим христианством, пытаются возродить на склоне античности ту языческую старину, которая безвозвратно ушла и уже никогда не вернется». То же самое – стремление обратиться именно к самым древним слоям европейской и ближневосточной культуры, а вместе с тем и к поздним всеохватывающим системам неоплатонизма, гностицизма, алхимии – мы наблюдаем у Янна. Я вовсе не хочу сказать, что Янн просто воспроизводит философско-мифологическую картину мира Порфирия, или Плутарха, или еще кого-то. Он знает их язык и пользуется этим языком, а что у него получается в итоге – в этом еще только предстоит (с приложением значительных усилий) разбираться.
* * *
Эпизод посещения Хорном и Аяксом места захоронения Тутайна и потом прибрежного ресторана («– Вы случайно застали наше заведение открытым, – сказал хозяин. – Сегодня последний день. Все летние гости давно разъехались»: Свидетельство II, с. 460) подчеркивает, что у Хорна (и у человечества?) остался, возможно, последний шанс на спасение, – и явно перекликается с сюжетом поздней новеллы Янна «Свинцовая ночь» (эпизод посещения пивной: Это настигнет каждого, с. 73–84).
* * *
Заливаясь слезами, покидает Олива дом Хорна (Свидетельство II, с. 482 и 483).
Для философа Эмпедокла слезоточивая богиня (Нестис, «Влажная») становится одним из четырех величайших божеств – первоэлементов, из которых состоят мир и отдельный человек, – подчиняющихся только Любви/Афродите и Раздору (Эмпедокл, с. 184):
Выслушай прежде всего, что четыре есть корня вселенной:
Зевс Лучезарный, и Аидоней, и живящая Гера,
Также слезами текущая в смертных источниках Нестис.
Но и другое тебе я поведаю: в мире сем тленном
Нет никакого рожденья, как нет и губительной смерти:
Есть лишь смешенье одно и размен того, что смешалось, —
Что и зовут неразумно рождением темные люди.
У Янна несколько раз, в узловые моменты повествования, упоминается таинственный ликер Cordial Médoc («сердечный медвяный напиток»?), который кок называет «дистиллированными хмельными слезами» и «беспошлинным товаром» (Деревянный корабль, с. 71). Другой такой «беспошлинный товар» – гроб с мумией Тутайна (ящик, в котором, как объяснили брату Оливы, лежат бутылки с «малиновым шнапсом». Немецкое название малины – Himbeere (древне-верхненемецкое Hintperi) – происходит от древнескандинавского и англосаксонского слова hind («косуля»), а косуля упоминается в ноябрьской главе и может быть связана с Оливой (см. выше, с. 784). Латинское же научное название малины (Rubus idaeus) восходит к Плинию Старшему, который в своей «Естественной истории» (ок. 77 г.) пишет, что оно связано с местом произрастания «красной малины» – горой Ида на полуострове Троада, где стояла древняя Троя.
По поводу меда и пчел – на Итаке у Одиссея – Порфирий в работе «О пещере нимф» пишет (Порфирий, 17–19):
Итак, мед употребляется и дня очищения и как средство против тления, естественного в природе, вызывает наслаждение, связанное с нисхождением в мир становления, является подходящим символом водяных нимф, потому что и воде свойственна сила предупреждать тление, быть очистительным средством и содействовать становлению, поскольку влага вообще играет роль в становлении. <…>
Источники же и потоки посвящены нимфам водяным и нимфам-душам, которых древние называли пчелами – даровательницами наслаждений. <…>
Впрочем, не все вообще души, идущие в мир становления, назывались пчелами, но лишь те, которые намеревались жить по справедливости и снова вознестись, творя угодное богам. Это живое существо [пчела] любит возвращаться, отличается наибольшей праведностью и трезвенностью, почему возлияния медом назывались трезвенными.
В романе же Янна «медвяный ликер» ассоциируется с хрустальными стаканами Пауля Клыка, олицетворением искусства, – и с «дистиллированными» человеческими слезами.
* * *
Сцена посещения Хорна семействами Льена и Зелмера тоже может быть соотнесена с росписями на стенах этрусской «гробницы Орко». Больше того, гости даже рассматривают изображения на стенах – но сейчас это рисунки, связанные с прошлым Хорна (и самого Янна).
«Простой ужин» состоит из яичницы – а яйцо на пиршественных сценах в этрусских гробницах было символом возрождения (его, например, держит в руке крылатый керуб, изображенный на ручке зеркала со сценой примирения Геракла и Юноны):

Рис. 10. То же зеркало, фрагмент которого показан на рис. 5.
Старый рисунок Тутайна, произведший столь сильное впечатление на Хорна, – «девушка, которая превращается в каменную статую», – не символ ли это предстоящего возрождения, не изображение ли оживающей статуи Пигмалиона? Во всяком случае, кажется, присутствующие на праздничном вечере много думают «о том, что воодушевление в нас умирает» (Свидетельство II, с. 512–513), о «родстве» между умершими и живыми (такое внутреннее родство с Тутайном ощущает, видимо, юный Олаф Зелмер: там же, с. 513), о старении и покинутости, апатии и «меланхолии».
Ноябрь, снова
Ноябрьская глава начинается со смутного осознания Хорном желания переменить свою жизнь (Свидетельство II, с. 554):
Мы – жалкие нищие, протягивающие за подаянием исхудалую руку. – Но для нас возможно и просветление: если мы твердо решим, что больше не хотим нищенствовать… <…>
Этот лабиринт – я не хочу в нем погибнуть – я хочу добраться до выхода. <…>
Пока Аякс в последний раз пытается соблазнить Хорна, тому приходит в голову, что при их встрече незримо присутствует еще кто-то (Свидетельство II, с. 567):
Но этот ТРЕТИЙ, присутствовавший лишь предположительно, так и не дал понять, ведет ли он борьбу по поручению сил Милосердия или Разрушения.
Это высказывание кажется мне отсылкой к теории Эмпедокла, о которой уже шла речь выше (с. 865). Согласно Эмпедоклу, всеми процессами в мире управляют Любовь и Раздор. Тутайн и Аякс, возможно, олицетворяют эти две силы (поскольку Хорн называет их «душевными коэффициентами»: Свидетельство II, с. 572). С Эмпедоклом может быть связано и рассуждение Хорна о плавании «по одному из морей нашей крови» (там же, с. 573). Греческий философ писал (фрагмент 93: Эмпедокл, с. 195):
Сердце питается кровью, прибоем ее и отбоем,
В нем же находится то, что у нас называется мыслью —
Мысль человека есть кровь, что сердце вокруг омывает.
Эпизод посещения Хорна Льеном усиливает впечатление, что Льен, Зелмер и их жены – благожелательные наблюдатели за процессом преображения Хорна, представители каких-то высших сил. Здесь опять всплывает мотив меда и «медвяных» красок («Ром был крепким и ароматным, как всегда; поджаренный хлеб – безупречным; апельсиновый джем – прозрачным и желтым; чай – таким, какой нравится Льену: золотисто-коричневого цвета. <…> Он неторопливо намазал кусок хлеба маслом и медом»: Свидетельство II, с. 577). Льен, который раньше многократно интересовался местонахождением Тутайна, теперь задает вопросы о пропавшем Аяксе и фактически вынуждает Хорна изложить ему все свое мировидение. При этом он ведет себя как руководитель корпорации мастеров, в которую входит Хорн (там же, с. 578):
Вы ощущаете себя игрушкой слепых сил Мироздания, тогда как на самом деле вас назначили суверенным строительным мастером. Вы неблагодарны. Вы разбазариваете ценный строительный материал…
Под «ценным строительным материалом», видимо, можно понимать Аякса.
* * *
Эпизод посещения Хорна Оливой определенно соотносится с римским праздником богини Феронии, который отмечался 13 ноября. Ферония («He-культивированная, Не-прирученная») была древней сабинской богиней природы и ее диких жизнетворных сил; богиней путешественников, огня и вод, женского плодородия и здоровья: она способствовала превращению «дикого» в «окультуренное». Ее святилища располагались в диких местах – в рощах, у родников, вдали от людских поселений. Они считались нейтральной территорией, где находили прибежище чужеземцы и всякого рода маргиналы. Варрон отождествлял Феронию с Либертас (олицетворенной «Свободой»), В ее святилище в Тернации беглые рабы получали свободу, и вообще она считалась «богиней вольноотпущенников» (dea libertorum).
Олива, когда появляется в доме Хорна, выглядит как нимфа источника (см. выше, с. 482: «Олива бродит по дому, заплаканная») или как персонаж этрусских фресок (женщина слева вверху, в накидке и полусапожках, из «гробницы львиц» в Тарквинии, см. рисунок 6 на с. 853, вверху слева). В тексте романа о ней говорится (Свидетельство II, с. 591):
Слипшиеся от дождя волосы, промокшее пальто, пропитавшиеся водой ботинки… <…> Ее лицо, обтянутое серой пятнистой кожей, поблескивает светлыми жемчужинками, которые, словно бородавки, повисли на мочках ушей, подбородке и щеках.
С другой стороны, она напоминает Музу из романа Янна «Угрино и Инграбания» и ранней пьесы «Анна Вольтер» (см. выше, с. 773, комментарий к с. 592). Хорн, видимо, неправильно истолковывает ее поведение и внешний облик (Свидетельство II, с. 594; курсив мой. – Т. Б.):
Олива поднялась, шагнула ко мне и запечатлела на моих губах короткий жесткий поцелуй. Прежде чем она отвернулась, я заметил, что лицо ее – от отвращения или от стыда – сделалось пурпурно-красным.
Потому что эта Муза – утренняя заря, и краснеет она, выходя из брачного покоя после счастливой брачной ночи (Угрино и Инграбания, с. 188; курсив мой. – Т. Б.):
В самом деле, она идет – красная, красная, как кровь… Нет, не как кровь, это нехорошее сравнение… Красна, как розы… и сияет… Цветы очнулись от сна. Они еще влажные – и, может, все еще грезят. Грезят о брачной ночи, той самой, когда Госпожа станет Пчелой, Постелью, Сводницей и Соединяющим Лоном между ними и другими цветами.
Хорн даже постель для Оливы приготовил «в той комнате, которая выходит окнами на восток» (Свидетельство II, с. 593).
Мнимый «любовный треугольник» Аякс – Олива – Хорн имеет и психологическое объяснение, которое формулируется в самом романе (там же; курсив мой. – Т. Б.):
Есть молодая женщина, с благословенным чревом… <…> Есть разум, который знает о прежних переживаниях и клятвах, для которого открыт архив столь многих уже потерпевших крушение целей и решений, который сохраняет пока лишь тень вчерашнего или позавчерашнего дня, но, помня о врожденной или приобретенной несостоятельности своего обладателя, обращается к нему с ходатайством и одерживает победу над жестоким инстинктам.
Попытка Хорна «найти оправдание для Оливы» (там же, с. 597), «подлинной матери человечества» (там же), выражает его стремление примириться с Природой, с Мирозданием.
И в этом контексте очень значимой оказывается непонятная на первый взгляд история о трех батраках, один из которых на празднике стрелковой гильдии обрызгал Хорна мочой (там же, с. 598–601). Дело в том, что история эта отсылает к преданию о рождении легендарного охотника Ориона, будто бы впервые изложенному Гесиодом («Перечень женщин или Эои», фрагмент 148 В: Гесиод, с. 136–137: курсив мой. – Т. Б.):
Аристомах рассказывает, что некий Герией, желавший иметь сына, дал в Фивах обет. Юпитер, Меркурий и Нептун пришли в гости к Гириею и велели принести жертву для рождения сына. С жертвенного быка сняли шкуру, боги излили в нее семя, а затем по приказу Меркурия шкура была зарыта в землю. Когда родился обещанный сын, его назвали Орионом. <…> Нечто подобное о рождении Ориона рассказывает Гесиод.
В другой версии мифа, изложенной греческим поэтом V века Нонном Панополитанским (Деяния Диониса XIII, 96; курсив мой. – Т. Б.), Ориона зачинают с помощью мочи, а не семени (почему он и получает сперва имя Урион), а вынашивает его бычья шкура, которая в английском переводе названа a wrinkled or fruitful oxhide («складчатой или плодоносной бычьей шкурой»):
Град же по имени назван Хири́эя-гостеприимца,
Там Гигант преогромный на ложе пустом когда-то
(Се Орион трехотчий) зачат праматерью Геей,
Ибо от трех бессмертных моча изверглась и стала
Саморожденья причиной, неким стала обличьем,
Бычья же шкура приветно выносила младенца,
Гея же чрез щель извергла, что без соитья явилось…
Очень странный чемодан, с которым Аякс впервые появляется в доме Хорна, как будто тоже намекает на эту историю (Свидетельство II, с. 225–226):
Перед крыльцом, прикрытый темно-коричневым летним плащом фирмы «Берберри», стоял чемодан. Изготовленный из желтой бычьей кожи; одна из сторон собрана в складки, как воздуходувный мех, так что внутреннее пространство по желанию можно увеличить. Широкие ремни с тяжелыми пряжками стягивали эту выпирающую бесформенную гармонику.
Это еще один аргумент в пользу предположения, что в романе Аякс является сыном Хорна.
Миф об Орионе имеет и другие точки соприкосновения с тематикой романа: Орион – жестокий охотник, странник и соблазнитель женщин; за изнасилование дочери Энопиона, Меропы, он был ослеплен и должен был, чтобы исцелиться, совершить путешествие на Восток (неся на плечах некоего Кедалиона, циклопа и помощника Гефеста, который показывал ему дорогу); он прозрел, когда подставил слепые глаза солнечному богу Гелиосу (или просто взглянул в лицо богине зари Эос); после чего стал возлюбленным Эос, но в конце концов был истреблен Геей, наславшей на него огромного скорпиона, потому что он «пообещал истребить всех зверей, какие только есть на земле» («Перечень женщин, или Эои», фрагмент 148 А: Гесиод, с. 136). В конце концов он, вместе с двумя своими собаками (Сириус, или Большой Пес, и Малый Пес), был превращен в созвездие. Ориона иногда отождествляли с Гераклом; обычным для него оружием была железная дубина (или, согласно Гомеру, «медная палица»: Одиссея XI, 575) – то есть примерно такое оружие, которым будет убит Хорн.
Наконец, созвездие Орион восходит в ноябре, когда заканчивается сезон мореплавания, и ассоциируется с бурями.
В романе, с его сквозным мотивом человеческой слепоты, взаимоотношения Аякса и Хорна с Оливой играют очень важную роль и – по крайней мере, в случае Хорна – действительно приводят к духовному прозрению.
14 ноября в Древнем Риме происходил кавалерийский парад (буквально «испытание лошадей»: Equorum probatio); парад, как и торжества в честь Феронии накануне, был частью так называемых «плебейских игр» (Ludi Plebeii), которые впервые были введены в 220 году до н. э., занимали временной промежуток 4–17 ноября и выражали самосознание римского плебса, его представления о свободе.
В романе этому событию соответствует сцена, в которой Хорн отвозит Оливу домой на конной повозке, – апофеоз примирения с действительностью, с неизбежностью смерти, что находит выражение и в музыкальном восприятии мира, в концертной симфонии Хорна (Свидетельство II, с. 607–608):
Мне представились те дробные звуки, на которых застопорилась работа над концертной симфонией. Теперь их жутковатый тон, их страшное толкование как бы растворились. Дробь незаметно превратилась в громыхание повозки, в цокот подкованных копыт, в хруст гравия, в убаюкивающие звуки пружин и мягкой обивки – в бесконечное путешествие по мокрому от дождя ландшафту.
Зримый символ прозрения Хорна – часы, очевидно, воспроизводящие планетарную систему, устройство космоса (поскольку они показывают «дни месяца и фазы Луны», там же, с. 610), купленные им в подарок Оливе у «Анкера Зонне (то есть у Солнца, см. с. 774), часовщика с Восточной улицы» (там же, с. 606). Таким образом, сам Хорн тоже уподобляется (прозревшему) Ориону.
* * *
Переоценка личности Аякса Хорном. Прозрение Хорна выражается, видимо, в том, что он решительно отделяет себя от Аякса, но в то же время уже не испытывает к нему ни страха, ни ненависти. Новый образ Аякса, сложившийся в его сознании, получается двойственным (Свидетельство II, с. 611, 616–617):
Может, он по преимуществу оставался человеком доброй воли. <…>
С Аяксом я нахожусь в состоянии вражды. Я догадываюсь, на что он способен. <…> Он настаивает на своем ошибочном мнении: что я будто бы убил Тутайна, убил Эллену. Он предполагает, что в этом есть сладострастное наслаждение: в том, чтобы живьем разодрать кого-то на части. Он – волк-оборотень, даже если сам не знает об этом.
Объяснение этой двойственности можно найти у Пиндара (522/518 – 448/438 гг. до н. э.). Пиндар – автор песней в честь победителей Олимпийских и других атлетических игр; но каждое его произведение – попытка вписать конкретного человека в мифологическую традицию, неразрывно связанную с поэзией, учение о которой часто излагается в том же стихотворении. Во второй Пифийской песне Пиндар рассуждает о судьбе поэта, обращаясь к образу Иксиона – царя лапифов, который злодейски убил своего тестя, столкнув его в яму с огнем, после чего впал в безумие, а когда Зевс, сжалившись, взял его на Олимп, попытался соблазнить супругу владыки богов Геру. Зевс подставил ему вместо Геры ее мнимый облик, из облака (или олицетворенное облако – богиню Нефелу), результатом чего стало рождение кентавров; сам Иксион в наказание был распят на катящемся колесе (по многим версиям мифа – огненном); но в конце концов боги даровали ему бессмертие, превратив в созвездие Коленопреклоненного (позже названное созвездием Геракла). Пиндар, рассказав эту историю, сразу переходит к рассуждению о поэтах, о себе как поэте (Пиндар, с. 65–66):
Рассказывают так:
Иксион,
Вечно кружимый крылатым колесом,
Вечно по уставу богов
Кричит смертным:
«Кроткою мздою воздавай благодетелю!»
Ему ли того не знать? <…>
Он не выстоял под долгим счастьем,
Он в неистовом сердце своем
Захотел Геру… <…>
И в просторах великой опочивальни
Он дерзнул на Диеву жену. <…>
Он спал с тучей,
Он ловил сладкую ложь,
Незрячий!
Видом она была как небесная Кронова дочь,
А восставила ее в хитрость ему Зевсова ладонь —
Красную пагубу!
И четыре спицы гибельно захлестнули его в узлы,
И рукам и ногам его не уйти от пут,
И что сказано ему – то сказано всем.
Не стояли Хариты вокруг,
Когда рожден ему был сын – не сын.
Единственный от единственной,
Не в чести меж людей, ни в уставах богов,
И вскормившая назвала его Кентавром.
Он смешался с магнесийскими кобылицами
У круч Пелиона,
И от них рождено чудное полчище,
Схожее с обоими, —
Снизу как мать, сверху как отец.
Замечу, что это не только великолепное описание поэтического произведения – как кентавра, порожденного химерой фантазии и земным (в данном случае преступным и безумным, «незрячим») отцом, но и параллель (точнее, сразу несколько параллелей) к роману Янна. С распятым на колесе Иксионом можно сравнить Аугустуса, растерзанного вертящимся пароходным винтом. В результате «брака» мертвого Аугустуса с обезглавленной дочерью Старика только и мог родиться такой «сын – не сын». Наконец, в образе кентавра восстает из могилы Кебад Кения, который затем начинает «портить» соседских кобыл… Но посмотрим, что говорит дальше Пиндар (там же, с. 66–68; курсив мой. – Т. Б.):