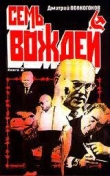Текст книги "Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая)"
Автор книги: Ханс Хенни Янн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 59 страниц)
– Может, оно и так, – раздумчиво протянул Зассер, – а все же разумнее не лезть на рожон.
– Твоя гавань тиха, как спящий глаз. И так же надежно запрятана, как живот под сорочкой… – сказал Аякс.
Рыбак попытался рассмеяться, но не сумел.
– Мне надо все обдумать, – сказал он. За таким ответом, по видимости расплывчатым, чувствовался решительный отказ.
Теперь я увидел, как Аякс прищурил глаза. Он повернулся ко мне и достаточно громко пробормотал:
– Ты заметил, что живот у Оливы выпирает вперед, будто она уже на четвертом или на пятом месяце?
Ениус Зассер сразу вернулся к буквальному смыслу своей последней фразы.
– И когда вы надумали ехать? – спросил он.
– Через три дня, – ответил Аякс, воспринявший вопрос как знак безусловного согласия. – Ближайшие ночи будут безлунными.
– После десяти вечера таможенники не появляются, – чистосердечно сказал рыбак.
Мы шагали от гавани обратно. Я теперь знал, какое подозрение (наверняка вполне обоснованное) сделало Зассера уступчивым. Я посмотрел на все еще усердно работающую Оливу, которая делит постель с Аяксом и на которой он собирается жениться, но которую, по моим понятиям, так оскорбительно скомпрометировал. Ее внешний облик не противоречил предположению Аякса, однако и не подтверждал его. Девичьи округлости под слишком нежной кожей приобрели, как бы без всякого перехода, более грубую текстуру женской зрелости. Груди действительно налились: но все же еще напоминали о росте зерновых на поле, напоенном благостью весенней поры{238}. – Олива возбуждает желание и привлекает к себе взгляды мужчин, сама пока этого не сознавая.
– Свари для дорогих гостей по чашечке кофе! – грубовато крикнул ей Зассер. Нас он пригласил пройти в дом. Я возразил, что должен тогда распрячь лошадь и поставить ее куда-нибудь.
– Так займись этим! – распорядился Аякс.
При доме Зассера есть сарай. Туда я и завел Илок.
– У тебя найдется морская карта? – спросил Аякс рыбака, когда мы в его тесной комнате уселись за стол.
Зассер принялся рыться в ящиках старого секретера. Наконец он нашел карту и разложил перед Аяксом. Тот ее долго рассматривал; кивнул мне, чтобы я ему помог. Я тоже склонился над столом, плечом к плечу с ним. Он водил пальцем по карте – в том месте, где кривыми линиями и цифрами была обозначена впадина возле берега. Дойдя до отметки «102», Аякс остановился. Маленький круг очерчивал это самое глубокое место.
– Да, – подтвердил я.
– Смотри, – сказал Аякс Зассеру. – Сюда мы должны приплыть. Здесь нас будут ждать. – – Или, может быть, нам придется немного подождать. Ведь никогда не знаешь, кто окажется первым.
Рыбак взял старый латунный циркуль и измерил расстояние.
– Два с половиной часа, – сказал он. – Если течение и ветер не собьют нас с прямого пути.
– Я полагаюсь на тебя, – сказал Аякс.
Зассер поставил карандашом крестик поверх этой отметки глубины.
– Я проложу курс точно, – заверил он нас.
– Итак, мы договорились, и никакого отказа быть не может, – сказал Аякс.
Рыбак только наклонил голову.
– Речь идет об одном-единственном ящике, но он, увы, дьявольски тяжел, – объяснил Аякс. – Ящик большой и широкий, словно ствол старого дерева, а наполнен он бутылками с малиновым шнапсом; так что можешь себе представить…
– Что такое малиновый шнапс? – спросил Зассер.
– Шнапс из малины, беспошлинный. Домашнего изготовления, – сказал Аякс. – Мы встретимся ровно в десять. Будет темно, может – еще и с туманом. Лошадь заведем в сарай. Олива, наверное, к тому времени ляжет спать. – Он начал загибать пальцы. – Не сегодня, не завтра, а послезавтра.
Вошла Олива и принесла кофе. Зассер достал откуда-то кувшин со шнапсом. Беспошлинным.
– Когда вы поженитесь? – спросил он.
– Скоро, – ответил Аякс. – Мой хозяин ничего против не имеет.
– Я вас не тороплю, – хмуро сказал Зассер. – Олива мне верная помощница.
Мы выпили. Потом мы с Аяксом отправились восвояси. Но прежде чем я запряг лошадь, мы еще раз вышли на песчаный берег бухты, закругляющейся на востоке, ниже сада. Солнце уже прорвало туманную пелену, его лучи мерцали в песке. Миллионы пестрых круглых отшлифованных камушков, еще недавно влажных и переливающихся живыми красками, теперь подернулись серой пленкой света. Однако море перед нами, вдали не суженное никакой бухтой, выступило из дымки – черно-зеленое. Холодно и непостижимо заполняло оно собой большую незримую впадину. Далеко, за линией горизонта, располагалось место, помеченное нами на карте. Наверное, потом я буду часто лежать на этом берегу, вглядываясь в Безграничное. Сдвоенный дуб, выросший под защитой похожего на дом, почти кубической формы утеса; куст терновника, от старости превратившийся в клубок спутанных ветвей; на заднем плане – стариковское лицо менгира, противящегося течению времени и свидетельствующего о том, что люди еще много тысячелетий назад смотрели на море именно отсюда; на юге – холмы, пославшие на галечный берег, в качестве своих вестников, молодую ясеневую рощу и узкий ручей, – все это вместе составляет картину, которая отныне будет проникнута моими мыслями о Тутайне. Подобрать и прихватить с собой один камушек… Навострить уши и вслушаться в стрекотание здешнего песколюба… Эти скудные подступы к морю; эта плавная, словно циркулем очерченная, дуга, которую тысячелетиями осаждают неутомимые волны… И ведь было время, когда этот берег, покрытый льдом, еще обходился без украшений – без похожих на пальмы ясеней{239}. И было другое время, когда сам гранит еще плавился и кипел, отливаясь в мощные формы. – – —
– А гроб не поплывет? – спросил меня Аякс.
– Нет, – ответил я. – Он вытесняет четыреста литров воды, а весит больше пятисот килограмм. Я точно все просчитал.
– Значит, там внутри не только человек, – заметил Аякс.
– Человек, медный гроб, кирпичная крошка и корабельный деготь, – пояснил я.
– Тебе придется раздобыть полиспаст, – сказал Аякс.
Мы медленно вернулись по песчаной дорожке к дому Зассера. Он и Олива опять занимались распутыванием лески. Я запряг Илок. Мы попрощались с братом и сестрой.
У кузнеца – я вспомнил, что видел у него необходимое нам грузоподъемное устройство, – мы сразу и одолжили полиспаст.
– Ну как, ты доволен мною? – спросил Аякс.
– Ты ведь принудил Ениуса Зассера согласиться: насильственным методом, – сказал я. – Я помогу вам с Оливой, когда наша морская прогулка останется позади. Тебе пришлось дать ее брату твердое обещание. Теперь ты не можешь предоставить Оливе… одной с этим всем разбираться. Путь будущего можно распознать уже в нашем настоящем. Такое не стоило бы упускать из виду. – Во всяком случае, любое событие влечет за собой целый ряд других и меняет (незаметно) наши намерения, умножает взаимосвязи. Мы всегда остаемся в стесняющей нас зависимости от обстоятельств и человеческих отношений. Наши предварительные предположения не соответствуют подлинному протеканию бытия. Наша воля не есть нечто действительное; она только мешает нам осознать, что мы, по видимости противясь судьбе, на самом деле лишь приспосабливаемся к ней. Мы протестуем против того, что должны глотать отвратительную пищу, в то время как она уже переварена нами; наши внутренние органы куда менее привередливы: они исполняют свой долг и всасывают даже яд, который, сжигая их, убивает нас. Если у нас оторвать одну руку, то наше тело с первого же момента будет надеяться на исцеление раны, а наша душа утешится, как только прекратятся боли. – Мы должны урегулировать дела, касающиеся твоего брака с Оливой. – Должны включить ее и ребенка в наш домашний уклад.
Аякс, раздосадованный, смотрел в пустоту перед собой. Мне он ничего не ответил.
После полудня мы сдвинули гроб с места и потащили его, на роликах, прочь из моей комнаты, по длинному коридору, через гранитный порог, в конюшню и оттуда – на гумно. Полиспаст мы прикрепили к одной из тяжелых потолочных балок, веревки обмотали вокруг гробового ящика и затем, потянув за ржавую цепь, приподняли его, чтобы подставить снизу рабочую телегу, с помощью которой собирались транспортировать этот груз. Поверх гроба мы набросали мешки и солому, а телегу задвинули в самый дальний угол.
– – – – – – – – – – – – – – – – – —
Моя комната опустела. Схожу-ка я еще раз на гумно. Это предпоследняя ночь Тутайна под нашей крышей. Грусти я не испытываю, не чувствую даже темных надуманных угрызений совести. Я сам захотел, чтобы труп Тутайна погрузился на дно и обрел долговременный покой. Разлука неизбежна. В конце концов, человеку приходится защищать неизбежное от всех… и даже от собственных пристрастий. Ведь оно – неодолимая сила. Человек же нуждается в умиротворенности. Я только хочу, чтобы ближайшие три дня поскорее оказались в прошлом. Ведь пока они не пройдут, во мне не будет ничего другого, кроме этого холодного беспокойства, похищающего у меня мысли и искажающего мою боль. Только после них я смогу собраться с силами и сообразить, чтó ждет меня впереди. Сейчас моя рука лишь прикасается, раздвигая солому, к дереву гроба. Позже я буду знать, что я к нему прикасался. Разочарование оттого, что это нельзя повторить, будет исходить из теперешнего часа – —
* * *
Аякс сказал:
– Дай мне денег, чтобы я заплатил Ениусу. Он небогат, и лишний заработок ему не помешает.
Я дал двести крон и спросил, хватит ли этого.
– Когда кто-то играет роль Ангела смерти, ему платят две тысячи; но перевозчик через Ахерон – всего лишь поденщик{240}, – пояснил Аякс. И добавил: – Вино и провиант мы должны взять с собой: ночь будет холодная, а согревшийся желудок – лучший утешитель.
Последние два дня я провел в состоянии беспробудной одурманенности. Аякс принуждал меня пить много джина и коньяка. Он и сам усердно помогал опустошать бутылки. Он понимал, что это момент прощания, когда покойника выносят из дома. И что в такой момент душу нельзя предоставить самой себе, ее нужно успокоить.
И вот наконец час пробил. Уже стемнело. Аякс зажигает фонари на телеге. Рядом с гробом он сложил доски и инструменты, наполнил картонную коробку провиантом. Илок запряжена. Мы прямо сейчас тронемся.
* * *
Мы медленно тронулись. Стены темноты обступили нас. Небо было сплошным черным блоком. Мутно горящие на передке фонари показывали только дорогу и иногда – дерево или куст, которые отважились приблизиться к берегу этого света. Нам никто не встретился. Ни один тихий флейтовый ветерок не примешивался к тишине. Только шорох колес, громыхание телеги, фырканье и стук копыт Илок. Очертания ее живота выдавали тайну: что она понесла, забеременела, как Олива. Необоримое желание: чтобы поездка продолжалась вечно. И удовлетворение, когда мы все-таки достигли цели.
Ениус Зассер уже стоял на дороге, со штормовой лампой в руке. Я слез с телеги, взял Илок под уздцы и повел к причалу. Когда телега остановилась на бетонной площадке, я распряг кобылу и препроводил в сарай. Аякс и Ениус Зассер тем временем занялись приготовлениями, необходимыми, чтобы стащить гроб с телеги. Они прислонили доски, подперли их ящиками и тяжелыми гвоздями прибили к тележному днищу. Гроб толкали, тянули, приподнимали с помощью рычагов, пока он не попал на наклонную плоскость и не заскользил по ней уже довольно легко. По бетонной площадке, с помощью роликов, мы дотащили его до моторной лодки. Погрузка оказалась самым тяжелым делом. Опять пришлось сооружать наклонную плоскость. Гроб поместили на особо прочную доску, положенную поперек судна, от одного борта до другого, в носовой части. Судно глубже погрузилось в воду и беспокойно закачалось.
– Отплываем прямо сейчас, – сказал Зассер. – Олива ничего не знает о наших планах. Она, наверное, уже спит. – Он взял два фонаря с красными стеклами и укрепил их, как сигнальные огни, на двух шестах. – Чтобы мы потом нашли вход в гавань, – пояснил он. Штормовую лампу он погасил и запустил мотор. Аякс отдал концы. Тьма опять сделалась непроглядной; только компас освещался маленькой лампой.
– Я в таком мраке ничего не найду, – сказал Зассер. Он прикрепил на носу прожектор, который должен был освещать нам путь между утесами. Лодка медленно заскользила по фарватеру. Красно-черные камни чуть ли не задевали ее борта. Потом утесы остались позади, пропали за нашей спиной. Лодка, подхваченная легкой зыбью, то поднималась, то опускалась. Рыбак потушил прожектор, запустил мотор на полную мощность; через две или три минуты он задал лодке курс, просчитанный еще дома. Аякс принялся привязывать гроб и доску веревками, потому что волнение оказалось сильнее, чем мы ожидали. Лодка немного накренилась на левый борт, поскольку гроб стоял не совсем посередине. Аякс и я поэтому присели на корточки с противоположной стороны, возле самого борта. Даже когда глаза привыкли к темноте, мы мало что могли различить. Гроб, установленный на возвышении рядом с нами, казался расплывчатой тенью. Зассер, чье лицо несколько минут было освещено мутным отблеском компаса, повернул румпель и сел где-то сбоку, скрывшись от наших взглядов. В этой беспросветности осталась только монотонность движения, подрагиваний лодки и рева мотора. Хриплая усыпляющая песня внутри жесткой, испытывающей килевую качку колыбели… И опять, но теперь ненавязчиво, меня стали посещать грезы, те нереальности, в пространстве которых «я» совершает небывалые деяния: извергает из себя поток благодати, с неистощимой силой приумножает богатства сотворенного мира новыми творениями – действенными словами, музыкой, храмами для потерпевшего неудачу Бога{241}. – И происходит все это там, где счастье есть нечто вполне естественное, а радость от жизни и от любви представляет собой прекрасный, вечно свежий плод – где кожа преданных друг другу человеческих тел никогда не сморщивается и не увядает, где затруднен доступ для смерти, где ты погребаешь друга только тогда, когда и тебя погребают вместе с ним. – Эта игра – эта засасывающая игра – эта игра детей, которая, когда в нее играли первый раз, предшествовала знанию о любви, – есть целомудренное желание без различения половой принадлежности. По ходу этой игры я, еще в начале своего тоскования, нашел брата: человека, который мне нравился. Он еще не имел имени; его облик еще не был плотью; среди живых он еще таился. Многие приготовления и наброски – даже такие, что носят подозрительный и двусмысленный характер, – предшествуют мучительной отягощенности нашей неизъяснимо особенной любви. Возможно, такое планирование тоскования вообще никогда не кончается. – С тех пор я часто это повторял: такое впадение в отрешенность… такого рода общение с тенями.
Аякс заснул. Прислонившись головой к моему плечу. Его тело медленно сползало вниз, пока мои колени не стали подушкой. Это само собой разумеющееся доверие, когда мысли гаснут и сознание утрачивает дерзость… Чтобы я мог стать для него матерью – не худшей, чем та женщина, которая, когда он еще был ребенком, покинула его, чтобы какой-то мужчина остудил жар ее лона. Возможно, теперь он наслаждался тем далеким детским счастьем, которого так долго был лишен, потому что не находилось никого, кто хотел бы заменить ему материнские колени. Я не осмеливался шелохнуться. Игра рассеялась, потому что я оказался таким же полезным, как какой-нибудь предмет: одеяло, в которое можно закутаться, или шкура. Но избыточность моего тепла уподобляла меня матери – превращала в часть разбрасываемой во все стороны любви. Я вспомнил о собственной матери, на чьих коленях когда-то лежала моя голова; об Эллене, тоже державшей на коленях мою голову; о многоликом теле с двадцатью руками и двадцатью коленями, как у танцующего Шивы, но только со многими животами и грудями, разными возрастами и кожей меняющегося оттенка; теле двенадцатилетнем, когда оно предстает как Буяна; четырнадцатилетием – как Эгеди или Конрад; шестнадцатилетнем – как дочь китайца; семнадцатилетнем и фиолетовом – как негритянка; девятнадцатилетнем – как Мелания; двадцатилетием – как Гемма… Эти благоуханные колени Тутайна и Эллены, так часто подвергавшиеся превращениям, пронизанные кровью столь многих сердец… и надо мной – занавешенный взгляд их всех, взгляд моей матери{242} (не знаю, улыбаются ли они или готовы заплакать)… и еще грудь, пригрезившаяся мне, грудь с сердцем Тутайна, до которого когда-то мне захотелось дотронуться. Тело белое, черное, лунно-желто-фиалковое, пылающее, тепловатое, продажное, оплаченное горько-гневной печалью, одной-единственной запонкой… Каждый раз это был все тот же зов земной любви, которая расширяет и умножает первоначальное тело, побуждая его сделать шаг от пробной попытки к негасимому желанию: закон, состоящий в том, что наше желание должно постепенно найти для себя осязаемое воплощение – облик некоего рожденного женою, издалека идущего нам навстречу{243}, – и получить утешение, даруемое плотью ближнего. Получить это утешение и ответить плодоносным выбросом собственной неугомонной крови{244}… К моему сердцу Тутайн приставил нож, и багряная струя брызнула. К своему сердцу он тоже приставил нож; и слабый, отдающий вспаханной землей запах его и моей крови прилип к нашей коже. Немыслимо, чтобы я забыл такое. И пусть сейчас у меня на коленях лежит двадцатичетырехлетний – пусть мне предстоит испытать потрясение самых основ моего бытия, – этот шрам на моей груди истребить невозможно. Я вновь и вновь буду искать того, кого уже нашел. Моя душа больше не перебирает разные модели и типы характеров; она знает человека, во имя которого будет выправлена. Всякое – замеченное в других – сходство с ним станет для меня мучением; – но ведь я бы воспринял как позор отсутствие каких бы то ни было искушений. Я уверен, это не мой жребий – обходиться впредь без душевного волнения. Я еще не совсем бесполезен. Этот отзвук моего старейшего тоскования падет на меня. Я еще не насытился – не превратился в перенасыщенный раствор, из которого выпадают кристаллы, твердые вещества; новые формы, возвращение, реинкарнация, новая соль из старого маточного раствора – все это еще пребывает как целое в жидкости, в том числе и сокровенный растворенный в ней образ. Я еще остаюсь прибежищем для какого-то желания тварного мира. Хорошо, что я снова ощущаю себя – эту сильную обжигающую печаль – этот удар, пришедшийся в мою грудь – —
– Мы у цели! – крикнул с кормы Ениус Зассер.
Аякс тотчас проснулся, поднялся на ноги.
– Глуши мотор! – в свою очередь крикнул он.
И сразу начал возиться с веревками, удерживающими гроб.
Зассер пустил мотор на меньшую мощность, повернул штурвал управления винтом.
– Теперь соберись с силами, – шепнул мне Аякс. – Он нависает над левым бортом. С той стороны и должен упасть. Смотри, чтобы доска тебя не задела, но и не трусь. Налегай! Толкай! – Сам он орудовал ломом. – Быстрей, напрягись – Уже поехало – Толкай – Внимание! Лодка накреняется. Еще толчок…
Гроб соскользнул вниз{245}. Доска, на которой он стоял, подскочила – и с хрустом, как от удара бича, вернулась на место. Лодка как-то неестественно качнулась, вздыбилась, на нас полетели брызги.
– Что там у вас? – крикнул Зассер и поспешил к нам.
– Тю-тю, – сказал Аякс.
– Ящик? – поразился Зассер.
– Зажги навигационные огни и поворачивай обратно, – сказал Аякс.
Ениус Зассер, казалось, мало что понял. Он возразил:
– Я не видел никакого судна.
Но потом все же смирился с происшедшим, изменил курс и дал лодке полный ход.
Аякс тем временем раскрыл коробку с провиантом. Зажег штормовую лампу. Откупорил бутылки. Красное вино и пунш. Разложил бутерброды, отнес рыбаку его порцию. Вместе со стаканом пунша передал ему двести крон.
– На такое я не рассчитывал, – сконфузился Ениус Зассер; но купюру сложил и сунул в нагрудный карман, молча.
– То судно так и не появилось, – повторил он, как если бы считал, что уговор наш не состоялся. Через какое-то время он зажег фонари.
Аякс все подливал мне вино. Он думал, что я нуждаюсь в одурманивании и в подкреплении сил. Он не знал, что моя печаль куда-то запропастилась – что мои встречи с Тутайном остались в прошлом, а повторятся лишь в отдаленном будущем, – что как раз этот час свободен от воспоминаний и почти радостен: ведь я надеюсь, что покой трупа теперь на долгое время обеспечен… Тем не менее я пил, ел, снова пил. Воздух был холодным. Часы – нескончаемыми. Я смотрел через борт. Черный клокочущий деготь моря. Это стекло, образовавшееся из двух газов. Этот тягуче-текучий тяжелый туман в долине между кусками твердой суши. Это тоже своего рода Ахерон, а мы – перевозчики.
Аякс пересел на корму, к Ениусу Зассеру; но они не разговаривали. Они ели и пили. Вспышки света, посылаемые далекими маяками, стали ярче. Темнота перед нами, казалось, отличалась от темноты у нас за спиной. Одна была каменной, другая – текучей. Не наши глазные нервы проводили это различие, а возбужденная кожа лица, груди. Два красных фонарных глаза подняли веки. Рыбак теперь мог ориентироваться на них. Он повернул руль гребного винта. Зажег на носу прожектор. Лишь через несколько минут и не без труда смогли мы различить похожие на тени очертания: случайные формы берега, который искали. Четверть часа спустя лодка подошла к причалу. Зассер пригласил нас зайти в дом. В комнате мы почти не разговаривали. Только когда прощались, возник момент беспокойства, чуть ли не ссоры. Аякс сказал:
– Разбуди Оливу, она может пойти с нами.
– Нет, – ответил Ениус Зассер. – Я взял на себя это дело; уж не знаю, большое или пустяковое. Но, в любом случае, противозаконное. Теперь мы в равном положении. И угрожать мне бесполезно. Я хочу пожить день-другой в покое.
Аякс сложил губы трубочкой и присвистнул. Но самообладание тотчас вернулось к нему.
– Доброй ночи, – сказал он. – Через три дня я заберу Оливу.
Мы снова вышли во тьму, зажгли фонари на телеге, запрягли Илок, поехали домой. – —
Обратный путь долог. Облучок на телеге неудобный. Камни с дороги бьют тебя по ногам. Сидишь с закрытым ртом. Мысли путаются. Ночной воздух холодный и влажный.
– Я хочу лечь и вытянуться во весь рост, – говорит Аякс.
Я останавливаю Илок. Он, опершись ногой о ступицу колеса, перелезает через борт, сгребает в одно место солому и укладывается на ней. Илок опять приходит в движение. Я теперь сижу один, как на троне, на жестком облучке с прямой спинкой. Я опять стал возчиком Смерти. Аякс лежит… как лежал, когда мы выезжали из дому, Альфред Тутайн. Он спит. Для меня тут нет разницы. Они сливаются в один образ: тот, кто лежал в саркофаге, и кто лежит сейчас на соломе. Мое старейшее тоскование звучит во мне снова. Я ищу образ, который знаю. Я везу распростертое тело, имеющее сходство с умершим. Неистребимым останется это желание, однажды ставшее плотью, пока я сам – пока я и сам не буду лежать, распростертый. – —
Что бы я ни делал, я следую за ним. На мое счастье, есть Илок. Она беременна. Она открылась для жеребца. Теперь она беременна. Повозку Смерти всегда тянет беременная кобыла. Кто-то опять, во чреве матери, парит, покачиваясь, над землей, в бережливом тепле, столь благотворном для него! – пусть даже потом он повторит все ошибки, еще раз испытает все страхи, претерпит все боли и не станет умнее, не станет менее заблуждающимся, а будет обречен на все то же несовершенное раскаяние, которое и не раскаяние вовсе, будет таким же оскверненным и так же погруженным в заботы. И если ад существует… то я бы смирился даже с существованием ада: ради того, чтобы еще раз… чтобы из соломы поднялся не этот Двадцатичетырехлетний, а Тот-кто-еще-моложе, Тутайн, – каким он был, когда спал со мной в кубрике фрахтового парохода. – Да-да, мое высочайшее устремление влечет меня не к смирению, а скорее к безумию – к величайшей неопределенности. – Нет-нет, этот жребий выпадет другим. Во чревах матерей растут Другие: те, у кого другие отцы, другие наследственные признаки. Другие простаки. Другие заблудшие, другие убийцы, новая смесь из многообразной плоти, нагруженная всем, что только было когда-то, всеми мыслями – и моими тоже. Осквернен и порабощен, как во все времена, этот бурный поток, и источники его подпитываются любовью, чтобы он не высох. – Ах, может, для нас есть лишь одно прибежище: смерть. Косарь-Смерть собирает нас – созревшие плоды, – сам не зная, для какого нового посева. Мы противимся, когда нас срывают, потому что не знаем ничего. Потому что наши мысли, даже самые оригинальные, – всего лишь крохи из хранилища школярских знаний, выборочной учености. Мы растем навстречу смерти довольно медленно. Нам не хватает мужества, и среди нас редко попадаются рано созревшие или в достаточной мере источенные червями.
Когда я съезжал с последнего холма перед домом, на востоке уже занималась заря. Низина вспыхнула, как иная реальность, данная нам в обетовании. Чуть позже я смог прикоснуться к стенам родного дома: этого места в моем времени, этой недолговечной и тесной родины. Последнее тепло печей еще оставалось в комнатах, как и запах березовых дров, смешанный со сложным парфюмерным ароматом. Аяксова Любовь и мое Одиночество обитали здесь; оба они играли с многообразными мысленными картинами. Распутство наших мыслей искупается нашими же слезами. Мы опустили Тутайна в могилу. И из соломы поднялся Аякс. Мне кажется, мы сделали нечто похвальное.
* * *
Первый вопрос, который мне задал Аякс, касался нашего отношения к окружающим:
– Что говорить Льену?
– Я теперь могу ему все рассказать, – ответил я, – всю правду – что Тутайн умер, а его гроб вне пределов досягаемости…
– Чтобы мы превратились в близнечную пару лжецов?{246} – отозвался он. – Ну уж нет. Твой друг Альфред Тутайн отправится на пароходе в Америку. Уже отправился. А уж там, на бесконечных улицах больших городов, он сможет исчезнуть.
– Значит, мне не придется подвергать разоблачению неупорядоченность моей жизни? – спросил я.
– Обязанность молчать сохраняет силу для нас обоих, – сказал он строго. – Мы с тобой совершили общее дело.
Второй его вопрос ужаснул меня. Аякс властно спросил:
– Кто был убийцей Эллены?
Именно теперь, когда вступил в действие фактор давности лет, а Тутайн наконец находится в безопасности, нашлись губы, которые приближаются ко мне… чтобы… чтобы произнести такие слова. И ведь упорствовать бесполезно… Кожа у меня на лице натянулась, но дрожи в позвоночнике не возникло. Я побледнел, как случалось со мной и в другие трагические моменты. Возможность говорить открыто была для меня слишком нова. Я медлил с ответом; но уже не боялся. Скорее стыдился себя. Скорее гордость во мне противилась… Вспомнились те, кто задавал мне вопросы на протяжении долгих лет; теперь эти люди лежат в могилах, и среди них моя мама, которую я вижу отчетливее других. Всплыло и лицо судовладельца; и ожившая во мне давняя ярость опять подсказывала, что он виновен. Но теперь эта ложь так и осталась внутри меня. Она не могла больше пользоваться успехом. Ибо пригрезившиеся мне предположения скудны, невыразительны… и несовместимы с разумом… – Губы теперешнего Вопрошающего столь близко придвинулись к моему лицу, будто Аякс хотел в следующее мгновение прикоснуться ко мне… использовать свой рот против меня как оружие{247}. Я не испугался – не ощутил страх даже бессознательно. Я только видел, как этот рот приближается ко мне. Я почувствовал укус, прежде чем зубы коснулись моей шеи. Я отказался от последнего сопротивления… и от чувства стыда. Испытанное мною унижение больше не саднило.
Еще мгновение я стоял неподвижно. Потом сказал:
– Аякс, Аякс… Эллену задушил Альфред Тутайн…
И только теперь я почувствовал, как его губы с чудовищным удовольствием присасываются к моей шее. Из артерии, будто уколотой тонкой иглой, выступила кровь. Так капелька крови выступает из подгрудка оленя, когда туда вонзает зубы голодный волк. – Думаю, мне это пригрезилось. Я снова услышал голос Аякса:
– Мы становимся ближе друг другу. Рассказывай! У меня это будет сохранно. У меня все ужасное твоей жизни будет сохранно. Я знаю о тебе больше, чем, как ты полагаешь, вообще может знать человек. Я явился к тебе, потому что знаю неупорядоченность твоей души и потому что мне такое нравится. Поэтому я тебя люблю. Поэтому ты почувствовал мой поцелуй…
Теперь я вскрикнул.
– Аякс, Аякс —
– Олива пришла, – вдруг холодно оборвал он меня. – Приблизился час моей радости: час погрузки судна. А мы с тобой продолжим разговор завтра.
Девушка в самом деле стояла в дверях. И он внезапно страшно обрадовался – как гимназист, который с невообразимым наслаждением празднует первую любовь, прикусывая зубами язычок любимой. Я был одурманен, но лишь наполовину убежден в том, что только что боролся с какой-то тенью. Любящие обнялись. Аякс накрыл большими ладонями мягко круглящиеся ягодицы Оливы и закружился с ней в танце. – – —
Ранним утром она опять исчезла.
– – – – – – – – – – – – – – – – – —
Я еще лежал в постели, что благоприятствовало его намерению, и он указал на мою грудь – чего прежде никогда не случалось.
Третий вопрос:
– Что это за шрам?
Я почувствовал, что цепенею. Грудные мышцы, на которые он показал, затвердели, как под холодным душем. Я в самом деле подумал, что Аякс сейчас бросится на меня, чтобы вырвать тайну того мгновения, когда нож Тутайна вошел именно сюда, хотя я тогда этого не сознавал: мгновения кровопролития и исступления, моим сознанием не зафиксированного, лишь позднее сделавшегося для меня несомненной данностью… Но ничего не случилось. Стало совсем тихо. Рот Аякса не двинулся ко мне. От объяснений я воздержался.
Вместо этого я подробно рассказал, как умерла Эллена: что руки Тутайна – —. Мне казалось, будто я свинцовый шар, который невероятно быстро идет ко дну. Аякс слушал, не перебивая. Давал мне высказаться. Думаю, он пытался растрогать меня своим сочувствием. Но в конце концов любопытство одержало в нем верх. Тем не менее ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы произнести первые фразы.
– Гробы… стоявшие в грузовом отсеке, были твоими, а не судовладельца, – сказал он невразумительно. – Да и шаги, которые ты слышал, это отзвук собственных твоих шагов, следовавший за тобою как эхо. – Ты избран, чтобы оставаться самим собой, – вот и вся тайна{248}. Ты будешь оставаться прежним… даже и без свидетелей, наседающих на тебя.
– Я не сделал ничего, почти ничего, в чем меня можно было бы обвинить, – возразил я. (Я все еще решительно не хотел признаваться, что именно из-за моего ослепления затонула «Лаис», что суперкарго подарил мне украденную судовую кассу… не собирался ни слова говорить и о позорном бунте, от которого у меня в свое время так сладостно расширилось сердце.{249})
– А как умер Альфред Тутайн? – спросил он.
– Умер, отягощенный, как и прежде, своей виной. Срок давности тогда еще не истек, – ответил я. – Его валя никогда не была порочной. Хотя в это трудно поверить. Провидение атаковало его со спины. Применило нечестный прием. И позже совершило по отношению к нему вторую несправедливость, заставив умереть за два года до истечения срока давности. Тутайн мог бы успеть порадоваться, что больше не должен бояться земного возмездия. Но, думаю, он все же сошел по темным ступеням со спокойной душой. Он не взывал к божественному милосердию, даже тишайшим вздохом. Мне лишь пришлось пообещать ему, что я буду удерживать его при себе два года. Те два года, на которые, как он чувствовал, Провидение его обмануло…