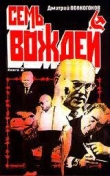Текст книги "Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая)"
Автор книги: Ханс Хенни Янн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 59 страниц)
Они выгребают лопатами навоз из стойл, они вспахивают поля, они бросают в землю зерно, они боронят; и окучивают свеклу, и собирают урожай. Их день – это тяжкая непрерывная работа. От них требуют, чтобы они за небольшую плату отдавали свое тело, которое через двадцать или тридцать лет будет полностью израсходовано. Ради того, чтобы другие люди имели пищу. И потому я не нахожу ничего предосудительного в их радостях, какого бы рода эти радости ни были. Батраки пьют и танцуют так, что с них ручьями льет пот; они ходят к девушкам и ведут себя с ними неосмотрительно. Разве не странно, что ни один писатель не рассказывает о них? О них и об их несравненных лошадях? А если когда-нибудь это и происходит, то пишут одну только ложь – потому что люди не знают ничего ни о таких упряжках, ни о деревенских парнях – потому что люди не знают законов жизни и процветания и забывают закапывать в землю падаль мнимо-нравственных утешительных измышлений. Навоз не аппетитен, говорят нам; однако батраки говорят: «Мы живем благодаря навозу». И, между прочим, молоко не менее ценно, чем вино.
Но если дело обстоит так, что на наших островах бедным людям, в определенном возрасте, предоставляется право на радость; если дело обстоит так, что молодых, пусть и тайком, все еще обучают древнему ритуалу: тогда Олива оправдана. Тогда она просто одна из многих. – Я никогда не забываю вот о чем: отдельный человек Природе безразличен: но она хочет, чтобы продолжал существовать человеческий род. Так она решила однажды, миллионы лет назад. И в соответствии с этим решением действует. Очарование Оливы: ее прямодушие; ее работящие руки; роскошной лепки лицо, соразмерные черты которого никогда не выражают чего-то другого, кроме заурядного ожидания, то есть надежды на обычную, ничем не выдающуюся судьбу, – эта сумма женских отличительных черт, данная ей от рождения, как раз и подчинила девушку непоколебимому закону. Олива с самого начала была призвана, чтобы ею овладевали как женщиной. Думаю, она никогда этому не противилась. Для ее брата, вероятно, это стало неожиданностью – и злой судьбой…
– Цену ты обговоришь с Аяксом. Он мне прямо так и сказал: что я не должна подпускать тебя к себе, если ты на это не согласишься.
Она на сей раз даже не покраснела. Она познала лишь одну страсть: к Аяксу, Айи. Она и сейчас живет этой страстью. Она пока не превратилась в родительницу детей. Еще длится год ее любви. И эта любовь сильна, как никакая другая, потому что тело Оливы уже было преступным, когда Олива к ней пробудилась.
Я ответил ей очень спокойно: подчеркнув, что она подчиняется Аяксу.
– Ты делаешь, чтó он тебе велит, – повторил я.
Она под шквалом моих слов даже не шелохнулась, словно не слышала их.
– То, что мы затеваем сейчас, безответственно, – сказал я. – Ты же не кобыла. Ты думаешь только о нем. Меня ты можешь лишь презирать. В ремесле любви он разбирается лучше, чем я. Он хочет заключить со мной сделку. Мы уже слишком далеко зашли. И все же последнего препятствия он не учел: ты для такой роли не годишься. Да и я прекрасно понимаю, что кажусь тебе отвратительным. Я ведь втрое старше тебя…
Она, казалось, еще не осознала, что роковая судьба прошла мимо нас. Я накрыл ее овчинным одеялом, до самого подбородка, присел на краешек кровати и заговорил о предстоящей свадьбе. Я сказал, что она может не сомневаться: я обязательно подарю ей напольные часы. Аякс же получит ящик с бутылками, наполненными вкусными жидкостями. – Ее глаза блуждали в пространстве. Она уже видела великолепные краски, которыми будет расцвечен праздник. Она заранее знала, что улыбнется, когда священник взглянет на ее живот. Она чувствовала удовлетворение оттого, что Природа именно так с ней обошлась. Усилия ее глупой жизни уже вознаграждены. Ей принадлежат стол, кровать, шифоньер, стул, целый набор домашней утвари. Теперь можно подумать и о пеленках. – А Аякс пусть напивается, если хочет: что ей до того в такой день? Она подтянет гирю напольных часов и будет знать, что теперь началось ее время.
Но вдруг будто тень разорвала этот образ. Олива спросила:
– Так ты не считаешь возможным, что Аякс не женится на мне?
– Только какая-то подлость могла бы привести к такому плохому исходу, – ответил я.
Она мгновенно успокоилась. Ничего «подлого» она просто не могла себе представить. Да и потом, Аякс уже живет с нею и ее братом в Крогедурене. Даже с рабочими уже есть договоренность о перепланировке дома…
Олива уснула у меня на глазах. Я потушил свечи и вышел из комнаты.
– – – – – – – – – – – – – – – – – —
К утру дождь перестал. Небо полнилось быстро движущимися облаками. Ветер свистел, поначалу тихо.
– Неустойчивая погода, – сказал я. – Но в ближайшие два или три часа облака будут удерживать воду при себе.
Мы не спеша позавтракали. И тем временем еще раз поговорили о напольных часах. Корпус должен быть зеленого цвета, с золочеными колонками и пилястрами; с большим латунным циферблатом, внутри которого черные римские цифры размещаются на оловянном круге, – с круглым стеклянным окошком, через которое можно видеть ход маятника, – и с красиво нарисованной над окошком алой розой. Как делает Анкер Зонне, часовщик с Восточной улицы{381}, – и чтобы сверху обязательно был колокольчик, сопровождающий каждый час серебряным звоном.
Я запряг Илок. Дороги были окаймлены меланхолией. Почти уже голые лесные деревья вставали у нас на пути, как нищие. Поля, напитавшиеся водой, блестели в неверном свете, образуя многоцветное месиво. Коляска, подпрыгивая, катилась через охристо-желтые лужи; колеса скрипели по промытому гравию; копыта Илок иногда вообще исчезали, взбаламучивая воду, как если бы мы пересекали вброд ручей. Еще прежде, чем мы добрались до Крогедурена, движение ветра прекратилось. Мелкий, словно пыль, дождик начал моросить из неутомимо доящих самих себя туч. Он падал без определенного направления и забрызгивал даже места, затененные крышами. Полость, которая укрывала Оливу и меня, сидящих под защитой кожаного козырька коляски, подернулась влажным слоем из крошечных серых жемчужин. Мало-помалу жемчужины преображались в слезы, которые капали или ручейками сбегали вниз.
– Последний отрезок пути тебе придется пройти пешком, – сказал я Оливе, – потому что я не хочу встречаться с Фон Ухри.
Она кивнула. А когда слезла с коляски, сказала:
– Мы повели себя не так, как рассчитывал он. Но все же я тебе благодарна.
Через две или три минуты она исчезла за дымкой дождя. Я развернул коляску, ослабил вожжи. Голые кисти рук уронил на влажную кожаную полость. Илок догадалась, что мой измученный конфликтами дух ищет прибежища в грезах и что я хотел бы освободиться от обязанности быть внимательным. Она перешла на шаг, качала в брюхе жеребенка; меня же качала коляска. Скрип колес, перестук копыт, барабанная дробь становящегося все грубее дождя по козырьку коляски, слышимое биение моего пульса в какой-то артерии, легочной или шейной, – все это соединилось в один-единственный осчастливливающий шум. В длящуюся отраду, в отсутствие каких бы то ни было желаний. Ни холод, ни жара, ни голод не мучили меня. Я, тепло укутанный, пребывал в покое, наблюдал и воспринимал мир, который не соприкасался со мной, а лишь скользил мимо, оставаясь моим неоспоримым достоянием. – Что может быть приятнее, чем смотреть на круп жеребой кобылы, не испытывать никаких неудобств, без спешки скользить сквозь время, не заботясь о цели? Картины, вбираемые глазами, расплываются прежде, чем ты успеваешь их осознать. Бессобытийный путь, который лишь по видимости ведет сквозь реальность{382}… Мне представились те дробные звуки, на которых застопорилась работа над концертной симфонией. Теперь их жутковатый тон, их страшное толкование как бы растворились. Дробь незаметно превратилась в громыхание повозки, в цокот подкованных копыт, в хруст гравия, в убаюкивающие звуки пружин и мягкой обивки – в бесконечное путешествие по мокрому от дождя ландшафту.
* * *
Ночь наполовину прошла. До сих пор я не чувствовал усталости. Мне открылось некое неописуемое пространство. Куда бы я ни направлял шаги, куда бы ни смотрел, подо мной разверзаются глубины. Даже исписанный лист нотной бумаги не ограничен плоской поверхностью: позади него или под ним что-то правдиво-воспринимаемое погружается вниз… как камень, падающий в черную водную шахту колодца глубиной во много сотен метров. (Такие колодцы существуют. Я сам однажды стоял на краю такого колодца. Он был почти так же страшен и красив, как черный ковер ночи с вотканными в него звездами.)
Сейчас я мог бы закончить симфонию. Посреди этого одиночества, окружившего меня со всех сторон темными безднами. Почва ушла из-под ног и у меня. Осталась лишь стеклянная темень. Жуткая звуковая дробь растворилась, как кусок леденцового сахара, брошенный в стакан горячей воды. Колокольная гулкость копыт медленно ступающей жеребой кобылы, скрип по гравию высоких колес, тихое громыхание повозки вобрали ее в себя; удобно устроившееся в повозке Сновидение подпрыгивает на ухабах на протяжении ста тактов. Вместе со звуками кларнета, гобоев, фагота и элегически-скрипучего контрабаса – —
Теперь я все это записал. Кому я должен быть благодарен? Илок? Дождю? Дороге? Коляске? Оливе, за то что пришла? Аяксу, за то что послал ее? Прошедшим часам? Было бы это написано, не будь на свете меня? И важно ли, что это написано? Что в результате изменилось в мире? Что изменится, когда мой издатель распорядится, чтобы на пластинках нарезали и эту мелодию? Почему вообще я вдруг решился завершить симфонию?
Больше никто сюда не придет, чтобы повидаться со мной. Или я ошибаюсь? Для меня нет разницы между днями и ночами. Я так живу уже много лет. Но теперь это по-другому. Мне больше нечего ждать. Теперь я знаю достаточно. Моя память перевернулась и вытекла{383}. Она перестала быть чем-то точным, надежным – – —
Я должен наконец решиться на то, чтобы лучше рассмотреть рисунки Тутайна, запомнить их. Уже много дней, несколько недель я хочу этого. С того вечера, когда все они еще были рядом со мной – и радовались, что они со мной рядом. Ничего не изменится, если ты так захочешь. Прежнее время… время, каким оно было три или четыре месяца назад… возвращается: годовой цикл, давно мне знакомый. Зима и лето. Но прежде всего долгие вечера, с печками, полными огня, с ароматом березовых дров… со светом керосиновой лампы или свечи. Ночи, когда бушует ветер и льет дождь, бушует ветер и падает снег… или когда все тихо, словно в склепе. В любом случае, мои уши не слышат шума мирового пространства. Они слышат лишь треск в уютно покоящихся потолочных балках, шебуршание или писк мышки, внезапно хрустнувшую тень меня самого. Прежнее время возвращается. Оно уже здесь, это время. Только – только – я почти забыл вот о чем: ТУТАЙНА БОЛЬШЕ НЕТ. Нет того, что еще напоминало о нем: сундука, полированного сундука. В семи или восьми морских милях от Крогедурена, во впадине, на морском дне: там он теперь. Там лежит все, вся память. Эллена вместе с ним.
Они попросту сбежали от меня: Аякс, Олива, Льен с Зелмером и их домочадцы. Они больше не хотят иметь со мной ничего общего. Я мог бы сделать так, чтобы мою постель согревало сколько угодно возлюбленных; я этим пренебрег. Я даже не чувствовал особого искушения. Я хотел вернуть прежнее время. Но гроба больше нет. И Эли скоро умрет. Годы его сочтены. Это видно. Его глаза ослепли. Волоски на морде стали седыми, лапы – негнущимися. Эли постоянно оглядывается: не идет ли ОН – тот, кто… кто скашивает всякую плоть… Илок останется со мной. Илок произведет на свет жеребенка. Это будет, когда закончится зима; когда ветры опять начнут приносить дождь, как теперь, – а не снег. Когда солнце поднимется над долиной; когда все опять примутся зачинать новую жизнь, расти; когда животы снова наполнятся беременностью. У самой Илок – тоже. Статный жеребец войдет в нее, наводнит ее благословением первобытных животных: первобытными лошадьми, то есть тем началом, что возникло шестьдесят или даже сто миллионов лет назад. Крошечный протогиппус{384} в ее брюхе быстро повторит процесс эволюции, занявшей сто миллионов лет. Время длится уже очень долго. Но мы об этом забыли.
Я еще раз попытаюсь все вспомнить: вспомнить Тутайна, Эллену, меня самого. Жизнь пока не закончилось. Можно доказать, что она не закончилась. Она здесь. Я останусь при своей работе. У меня будут новые музыкальные мысли. Я буду спать и бодрствовать, попеременно; это естественный круговорот: что человек бодрствует и работает, спит и собирается с новыми силами.
Я все-таки немного любил Оливу. После нее во мне остались крошечная боль, какая-то малость тоски, малость памяти.
Завтра… или, самое позднее, послезавтра я должен справиться с непорядком во мне: с тем непорядком, что я и ее любил.
Я не боюсь одиночества. Я достаточно хорошо его знаю. Я его сам выбрал. Я мог бы запачкать этот дом, снизу доверху, вечеринками с чужими людьми, всякого рода эксцессами; я этого не захотел. Я этого не мог. У меня на это не было сил. Мое отщепенчество, мое тело – им не хватает глубины, склонности к насилию… они не колодец глубиной в две сотни метров. Такие колодцы – повсюду вокруг меня, подо мной, надо мной; они простираются далеко во все стороны. Сам же я неглубок. Я заглядываю в бездны… и удивляюсь, что не падаю ни в какую сторону, что не обладаю тяжестью, что я не камень – не камень ни для какого колодца.
ЕМУ я еще не встретился снова.
* * *
Быстро принятое решение привело меня в Ротну. В лавке часовщика Анкера Зонне я купил напольные часы. Правда, цвет корпуса часов не зеленый. Этот умелый ремесленник, который сам изготавливает искусные механизмы из латуни и белой стали, как раз завершил работу над роскошным часовым механизмом, показывающим не только часы, но также дни месяца и фазы Луны. Столяр, поддерживающий дружеские отношения с часовщиком, поместил этот механизм в корпус из светлого дуба. Работа выполнена с таким вкусом и добросовестностью, что я ни секунды не колебался. Думаю, Олива одобрит мой выбор. (За движениями маятника можно следить через круглое окошко.)
Аяксу я собирался подарить двадцать бутылок вина. Я увеличил это число – не отдавая себе отчета почему – до тридцати пяти. Когда я потом обедал в отеле «Ротна», у меня возникло смутное ощущение, что я все-таки сделал недостаточно. Я сидел за столом с самым раздраженным видом и не мог придумать ничего путного. Я не знал, чего Аякс, по справедливости, вправе от меня ждать; и еще меньше понимал, к чему склоняюсь я сам. Я не умею выбирать подарки. Я не просто растерялся – я чувствовал себя несчастным. В такие мгновения мой разум отказывает. Мысли не только не поддаются упорядочению, они даже не формируются. Я должен как бы обмануть себя, чтобы обрести какое-то мнение. Я начал произносить речь. То есть я строил фразы, которые тихо проговаривал вслух. Поначалу они были совершенно бессмысленными или никак не связанными между собой. Но постепенно из этого получился разговор между мною и другим «я». Одна сущность высказывала общепринятое мнение, другая ей возражала{385}. Таким образом мне удалось оттеснить путаное Ничто в моей голове. Вместо болезненного ощущения я получил слова, которые можно произнести. Они и определили мою новую мысль – может, не очень умную. Покончив с обедом, я попросил принести мне бумагу и писчие принадлежности. Мне удалось сочинить несколько благожелательных фраз. Я положил в конверт чек на тысячу крон, вместе с этим письмом.
На обратном пути я чувствовал себя утешенным. Я сказал и потом несколько раз повторил это: «Илок, моя Илок, я поступил правильно. Я поступил правильно. Я и не мог поступить по-другому – если вспомнить обо всем, о нашей первой встрече и о трех роковых месяцах. Как же иначе мог я себя повести? Он ведь на протяжении трех месяцев был для меня товарищем. Вместе с ним я похоронил на дне моря Тутайна. Может, он по преимуществу оставался человеком доброй вали. Теперь я даю ему понять, что я это признаю. Илок, моя Илок, эти деньги я употребил с пользой. Они порадуют его… и Олива тоже порадуется —».
После того как я вернулся домой, распряг кобылу и позаботился о ней, я выпил, довольно много – целую бутылку вина. Последние следы страха – —
* * *
Сегодня утром, покормив Илок и растопив печку, я без каких-либо определенных намерений вернулся в гостиную. Может, я хотел посмотреть, остался ли в печи жар. Я открыл дверь без всякого ожидания, без малейшего необычного движения чувств; но, войдя, я тотчас увидел, что ТУТАЙН сидит в кресле возле стола. Я прикрыл за собой дверь, как сделал бы в любом случае, и остался стоять, бросая взгляды попеременно то на Тутайна, то на печку. Тутайн, поскольку он заметил, что я вошел – или по какой-то другой причине, – поднялся, пододвинул кресло на прежнее место и направился, не медленно и не быстро, а со свойственной ему скоростью, к двери своей комнаты: чтобы, как я предположил, сделать у себя то или другое дело. Он, по правде говоря, прошел по комнате так, как это случилось однажды много лет назад. Не «приблизительно так», или «очень похоже», или «с похожими телодвижениями», или «так, что его телесный образ соответствовал тогдашнему». Он, собственно, прошел только теперь, как бы в первый раз, но в точности так, как это было когда-то: как если бы то, что я увидел сегодня, было оригиналом, а увиденное годы назад – воспоминанием; поэтому мне показалось, что время обратилось вспять{386}.
В этих тетрадях я однажды написал, что знаю… не просто верю, но знаю: Тутайн никогда не предстанет перед моими глазами в качестве призрака, то есть как что-то более ничтожное, чем материя, или как разреженная материя. Если когда-нибудь он вновь мне встретится, то только как плоть в характерном для него облике; и тогда передо мною откроется одна из двух возможностей общения с ним. Либо он скажет: «Я снова здесь. Для тебя одного я снова здесь. Ты можешь пощупать меня. Я теплый. Я – плоть, не дух. Я готов ко всему. Готов есть с тобой, пить, готов даже к исступлениям. Но покидать этот дом я не могу. Я всегда буду ждать тебя здесь, если тебе понадобится отлучиться». Либо скажет другое: «Пора, пошли!» – Я знал, что случиться может только такое или не случится вообще ничего. Я знал, что ничего не случится, что я остался в одиночестве. Но теперь я его увидел, и все вышло по-другому. Он не был призраком. Он был настоящим. Я видел, я хорошо рассмотрел его лицо и кисти рук. Взгляд Тутайна – уверенный и благотворный, как у живых. В подвижном лице еще сохраняются юношеские черты, там нет ничего застылого или заторможенного смертью… В лице присутствовали и улыбка, и задумчивость, и изобилие живых эмоций. А руки двигались, как могут двигаться только руки, которые никогда не знали смертного оцепенения. Кожа мерцала, и тоненькие волоски на ней отражали сияние ничем не омраченного утра.
Он явился в костюме из тех отдаленных дней… который давно должен был превратиться в лохмотья.
Только вот дотронуться до него я не мог. А ведь, казалось бы, должен был захотеть дотронуться? Но такое желание у меня не возникло: я не мог иметь такого желания, потому что не имея его в тот первый раз (много лет назад). Нас разделяла незримая расселина: непреодолимая дистанция, которую мы сами – в прошлом – установили между собой. Ибо то, что я видел, и было прошлым, которое повторилось в настоящем в силу какого-то неведомого мне закона. И прекратилось это прошлое именно в ту минуту, когда Тутайн прикрыл за собою дверь.
Когда я почувствовал желание последовать за ним, чтобы наконец до него дотронуться, тогда уже вновь царило беспримесное настоящее. И тут мое сердце начало бешено колотиться. Потеряв самообладание, оно билось о ребра, выгоняя из легких воздух. Я знал, что Тутайна больше нет, не может быть; что дверь, когда я открою ее, окажется дверью в комнату, в которой жил Фон Ухри и которая все еще находится в том состоянии, в каком он ее оставил: что дело, ради которого Тутайн зашел туда, теперь не может быть выполнено, потому что Тутайн разобрался с ним еще столько-то лет назад… Я только что видел картину из памяти – отличающуюся такой четкостью и суггестивной силой, такой добросовестностью пластического оформления, таким сходством с фактами и материей, что ничего подобного я прежде не переживал, ни в бодрствующем состоянии, ни во сне.
Все-таки я открыл дверь… и, конечно, обнаружил комнату, в которой много времени спустя после смерти Тутайна – совсем недавно – жил Аякс и которая все еще хранит следы его присутствия…
Моя тревога после этого переживания сделалась безграничной. Случившееся противоречит всему жизненному опыту, накопленному мною до сей поры. Я даже не смею думать о том, что может существовать повторение, что с подобной инверсией времени я сталкивался и раньше – только не обращал на нее внимание, то есть пренебрегал ею, потому что такое событие, такое мнимое настоящее, вполне можно было принять за подлинное настоящее: ведь персоны, которые мне являлись и повторяли какие-то действия, в момент повторения еще жили, и, значит, их действия и их появление могли повториться так, как если бы речь шла о теперешнем, а не о прошлом времени, – не вызывая у меня кризиса понимания. Подобным образом омолаживаются весной листья на деревьях… Этот неизвестный закон отнимает остатки моего самообладания. Поскольку такое обнаружилось однажды, оно может обнаружиться в любой момент. Какая же разверзается бездна – если и другие значимые события переживались мною в неправильной временной последовательности! Почему, собственно, я совершенно забыл облик Конрада, но не мою к нему нежность? Почему Аякс порой представлялся мне тенью Тутайна, хотя никакого очевидного сходства между ними нет? От моего разума, посреди этой тревоги, едва ли стоит ждать помощи. Он предлагает лишь старый жизненный опыт и избирательную ученость. (И разве не поступал он так еще прежде, в самых неподходящих ситуациях?)
Нам объясняли, и мы, как нам кажется, это поняли: неподвижные звезды на небе находятся так далеко, что свету, который они посылают – помимо прочего, и нашим глазам, – требуется много лет, даже много тысячелетий, чтобы от своего источника добраться до нас. То, что мы каждый вечер видим на небе как настоящее, оказывается, при абстрактном рассмотрении, завершенным прошлым. Большая часть картины ночного неба, которой мы восхищаемся, возможно, уже очень давно, незаметным образом, была разрушена; и только наша самоуверенность, наше доверие к гравитации позволяют нам верить, что все это продолжает существовать, верить в далекое настоящее – пусть и с другими констелляциями небесных тел – незаполнимого, лишь скудно размеченного светящейся материей космического пространства.
Разве мое переживание не похоже на эти удивительные процессы, охватывающие невообразимые дали? Крошечное, совершенно ничтожное событие – что Тутайн много лет назад пересек эту комнату – было подхвачено светом, вынесено в космическое пространство, его влекло все дальше и дальше, год за годом, пока оно, в сконцентрированном виде, не наткнулось на какое-то зеркало, не отскочило назад и не совершило обратный путь, чтобы нынешним утром оказаться на прежнем месте: чтобы я его увидел? Неужели временное измерение в конечном счете есть нечто совершенно иное, нежели то, что нам пытались втолковать? – Может быть и так, что та действительность, ухваченная моими глазами много лет назад, лишь мало-помалу – как кислота разъедает металл – продвигалась по нервному тракту: вновь и вновь задерживалась, сталкиваясь с непостижимым сопротивлением, ползла от клетки к клетке, многократно отбрасывалась назад, но упорно прогрызала себе путь дальше; пока она – хоть и не обессилев, но с чудовищным запозданием – не получила, в качестве чувственного впечатления, доступ к моему мозгу.
Мне было бы гораздо легче, сумей я себя уговорить, что обманулся: стал жертвой какого-то искажения, галлюцинации. Но я напрасно трясу дверь, загораживающую такой выход. Больше того, при попытке взломать эту дверь – а я такую попытку совершил – во мне утвердилась новая ужасная уверенность: уверенность, от которой я всеми силами воли хотел бы уклониться… и которая еще несколько минут назад стесняла мне сердце как неопределенная возможность. Полагаю, я не должен думать о ней, потому что я уже о ней думал. Я, правда, не осмеливался думать о ней в полную силу. Но я чувствовал магнетическое поле приближающейся ужасной уверенности: такое случилось со мной не в первый раз. С инверсией времени мне однажды уже довелось столкнуться: когда я провел несколько часов, спрятавшись в трюме «Лаис». Тогда-то и появился он, господин Дюменегульд: наткнулся на бухты троса, прошел сквозь сплошную дощатую переборку… До сегодняшнего дня я никогда не думал о такой возможности: что судовладелец в какой-то момент времени, еще когда «Лаис» стояла на верфи у старого Лайонела Эскотта Макфи, в Хебберне на Тайне, прошел именно этим путем, по которому потом прошел у меня на глазах; и что в первый раз ничто не мешало ему пройти сквозь дощатую стену, с ее тайной медных и бронзовых контейнеров, – потому что стене тогда лишь предстояло появиться.
Тогда, в двадцать лет, я готов был поклясться, что видел судовладельца. Но это вступало в противоречие с разумом и с сущностью материи, которую мы, как нам кажется, знаем. Мое чувственное восприятие объявили неумным. Справедливо, как мне казалось. Но Эллена была убита. Меня преследовал злой рок. Теперь я узнаю его снова: этот час; и тот, другой, когда я, за дверью кубрика на борту фрахтового парохода, услышал шаги судовладельца{387}. Его шаги, которые прежде – неизвестно когда, – видимо, звучали на этом самом месте на борту этого самого фрахтового парохода. И эти шаги растворились в руках Тутайна, который сжал мое горло, засунул колено мне в рот… который хотел столь многого сразу: убить меня, потому что уже убил Эллену; исповедаться, чтобы потом умереть самому; остаться в живых, чтобы жить со мною.
Однако самым безобманным признаком наличия такой инверсии мне представляются страх и замешательство, которые следует непосредственно за ней. Образы тревоги именно следуют за ней, а не являются сопутствующими феноменами. Инверсия не сопровождается никаким особенным возбуждением. Она не имеет герольда, который возвещал бы о ее прибытии, – но вслед за ней всегда спешит палач.
История господина Дюменегульда исчерпала себя. Она закончилась, когда Аякс фон Ухри рассказал мне, чтó знает. Однако сегодня эта история еще раз преобразилась – уже после того, как окаменела. Судовладелец, господин Дюменегульд де Рошмон, умер. Это засвидетельствовано. Это было правдоподобно описано. Я теперь представляю себе мгновение его смерти. Аякс, кем бы он ни был, не мог просто выдумать такой апофеоз. Только вот факт смерти судовладельца не имеет силы, поскольку однажды судовладельцу уже удалось шагнуть сквозь крепкую деревянную переборку. Судовладелец будет существовать, пока существую я. Он прожил свою жизнь, я – свою. Наши с ним сферы, видимо, проникли одна в другую. Я не знаю, в какое время, ради какого намерения, с какими последствиями. Я считал судовладельца своим Противником. Теперь я знаю: у моего противника собственный облик, он не нуждается в том, чтобы заимствовать облик другого человека. Может, в те далекие времена ОН еще вовлекал меня в какие-то игры, переодевался, встречался со мной под маской человека, которого я знаю. Но уже тогда это был ОН. Я проявил достаточно упорства, и он в конце концов был вынужден выдать, разоблачить себя. Я не хотел ни от чего отрекаться. Я и не отрекаюсь ни от чего. Он послал ко мне в дом волка-оборотня. Я слышал, как этот волк ночью лакает воду. Я в ту ночь протянул руку, так как хотел убедиться, что Эли спит или бодрствует на своей подстилке, что в данный момент не Эли пьет воду. – Однако сегодня я увидел Тутайна. Он не произнес ни одного из тех слов, которые должен был произнести. Он не сказал ни слова. Неужели я сам должен произнести эту речь: «Пора»?
С Аяксом я нахожусь в состоянии вражды. Я догадываюсь, на что он способен. И вряд ли обманываю себя. Он принимает меня за того, кем я не являюсь: по меньшей мере за человека, подобного ему. Он настаивает на своем ошибочном мнении: что я будто бы убил Тутайна, убил Эллену. Он предполагает, что в этом есть сладострастное наслаждение: в том, чтобы живьем разодрать кого-то на части. Он – волк-оборотень, даже если сам не знает об этом. У него человеческий облик, что облегчает задачу обмануть кого-то, и я мог бы этим обликом насладиться, как наслаждался всеми прочими, кто предлагал себя мне и у кого я этот дар принимал. Однако Аяксом я пренебрег. Я не должен был позволить себе такое, если мое желание заключалось в том, чтобы жить. Я оскорбил Аякса, потому что заколебался, взвешивая свое плотское желание и свое отвращение. Не колебаться я не мог: потому что немедленный отказ от предложенного удовольствия сделал бы мою дружбу с Тутайном – в глазах Аякса – безжизненной и пресной. Слуга судовладельца не должен был открыть во мне то позорное обстоятельство, что в свое время я оказался неспособным любить Тутайна. Аякс предстал передо мной таким же молодым, как когда-то – Тутайн. Но он не был Тутайном. Он обладает красивым телосложением: но это не телосложение Тутайна. Он казался надежным: но это не надежность Тутайна. Имеется ли между ними то сходство, что и Аякс тоже избран, чтобы стать убийцей? Даже если и так, его преступление не будет внезапным. Просчитанным, еще до осуществления многократно пережитым в сновидениях, как нападение волка на овцу или на корову, – таким оно будет.
Куда же завели меня мои представления? Ускользают ли от меня взаимосвязи реальности? Дело обстоит так, как если бы буря ворошила кучу мякины. Почему я не радуюсь тому, что увидел Тутайна во плоти? Почему он не мог вернуться, если когда-то уже был здесь? Что именно все еще связывает меня с господином Дюменегульдом и с Аяксом фон Ухри? Разве я больше не могу по свободному выбору распоряжаться собственным прошлым? Разве моя жизнь больше не принадлежит мне? Или кто-то ею распоряжается? А тени, что теперь встречаются мне, не являются ли они ЕГО тенями? – Ничто не препятствует тому, чтобы я сейчас сел к роялю и сыграл ту фугу, которую сочинил, когда сильное лекарство – кровь Тутайна – влилось в мои жилы. На другом континенте – может быть, в этот самый час – собираются музыканты оркестра и начинают репетировать мою симфонию. Мальчики, еще не онанировавшие, женщины, которые больше не менструируют, мужчины, совершенные в своей плоти, и другие женщины, которые в этом подобны им, забывают о собственной судьбе, погружаются в образ нот, бесшумно пробуют голоса, чтобы вскоре, когда рука дирижера подаст им знак, вторгнуться в трубные сигналы, в темные удары деревянных духовых и тромбонов, в остинато контрабасов и сверкающий водопад струнных – своими голосами, чистыми трезвучиями, светящимися красками пряного мажорного ландшафта. Но они уже заранее боятся тяжких слов китайского поэта{388}.