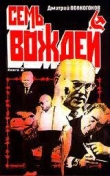Текст книги "Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая)"
Автор книги: Ханс Хенни Янн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 59 страниц)
Я наконец оторвался от двери. Вернулся в комнату, растянулся на кровати. И еще долго прислушивался к дождю. Мое одиночество казалось ненарушимым.
* * *
Я мог бы и заранее предположить, что она придет. Я даже наверняка думал об этом, только неосознанно.
Теперь она уже побывала здесь. Слипшиеся от дождя волосы, промокшее пальто, пропитавшиеся водой ботинки… Где она останавливалась, на полу образовывались лужицы. Так выглядят статуи на потрескавшихся фронтонах соборов, когда галки и голуби, обитающие в башнях, уже запачкали им головы экскрементами, а напоенные влагой бури немилосердно залили их дождем… Ее лицо, обтянутое серой пятнистой кожей, поблескивает светлыми жемчужинками{376}, которые, словно бородавки, повисли на мочках ушей, подбородке и щеках. Кисти рук, кажется, умерли, стали мерцающей влажной гнилью.
– Помоги освободиться от пальто, – сказала она, – я насквозь промокла.
Я помог. Я дал ей полотенце, чтобы она вытерла лицо и волосы. Она сбросила ботинки и чулки, сунула босые ноги в мужские тапочки.
– Олива, – сказал я, – я сейчас приготовлю горячий пунш и чего-нибудь поесть, посытнее…
Я провел ее в гостиную. Она тяжело опустилась в кресло. Ее груди отчетливо круглились под блузкой из серого льна. Над тугим сводом живота топорщились складки некрасивой бархатной юбки, подол которой совершенно промок.
– Олива, – сказал я, – ты подцепишь простуду, если не переоденешься. Я принесу тебе брюки…
Я принес брюки, отправил Оливу в комнату Аякса. А сам приготовил пунш, расставил на столе тарелки со сваренными вкрутую яйцами, ветчиной, сыром. Олива все не показывалась. Пунш остывал. Она так и не пришла… Я нашел ее лежащей на кровати Аякса. Она не переоделась. Она плакала.
– Ну попей немножко, – уговаривал ее я, – поешь хоть немного! – Поговорить мы успеем потом. Нам некуда торопиться. Ты теперь здесь. Дождь зарядил надолго. На ночь тебе придется остаться у меня. Постарайся согреться…
Я принес ей стакан теплого пунша. Она выпила с жадностью.
– Поставь пунш снова на огонь, – попросила. – Я выпью еще стакан.
Я отправился на кухню. Когда же вернулся, она сидела, теперь в моих брюках, в гостиной. Слезы ее иссякли. Она ела все, что было на столе. Я отважился спросить об Аяксе.
– Сюда меня послал он, – сказала она.
– Это… этого я ждал, – откликнулся я.
– Этого – этого ты ждал? – с сомнением переспросила она и добавила: – Как бы то ни было, я пришла. – Она прихлебывала горячий пунш. Я мог бы сразу озвучить тот очевидный вывод, которым поделился с ней пару часов спустя: «Ты здесь не ради меня; ты слушаешься Аякса и делаешь, что он хочет». Но я не решился испортить такой момент. Радость – маленькая надежда – шевельнулась во мне. Я чувствовал, что если и не я сам, то моя домовитость Оливе нравится. Тепло натопленной комнаты ласкало ей кожу: а внутри пряное тепло напитка разбегалось по кровеносным сосудам и золотило мысленные картины, связанные с тревожным ожиданием. Лицо Оливы теперь выражало чистое, без теней, простодушие. Оно было круглым, жарко-пунцовым, совершенно лишенным морщин и горьких складочек. Конечно, в нем теперь проступило и самодовольное равнодушие, эта печать, которую Природа накладывает на всех беременных женщин{377}: печать уверенности, что они уже впаяны, как одно из звеньев, в цепь поколений. Отныне их предназначение может быть отменено только каким-то биономическим несчастьем. – Олива, с ее очевиднейшей юностью и, вместе с тем, недвусмысленно проявленной зрелостью, казалась мне неотразимо привлекательной. Ее обаяние, похоже, только усиливалось с каждой минутой нашего молчаливого совместного времяпрепровождения. Я едва ли что-то спрашивал о ее нынешнем образе жизни, о круге ощущений. Даже мелькавшие у нее враждебные мысли, подпитываемые моим присутствием, казалось, не суживали пространство моих чувств. Я сидел рядом с женщиной, пришедшей ко мне. Мое сердце раскрылось. Оно наслаждалось еще дремлющими ландшафтами этой новой любви, которую навязали мне добрые или злые силы. Я мог бы поцеловать эти полные, слегка выпяченные губы. Но вновь и вновь – ритмически, по прошествии скольких-то минут – вторгалась секунда, которая своим резким белым светом рассекала мягкие сумерки: я вспоминал, что Олива любит Аякса и только ради него готова принять от меня непристойное предложение. Моя совесть, встрепенувшись, подсказывала, что я должен оградить свою гостью от такого величайшего унижения. Я, все еще полный несказанной тревоги и дурацкой надежды, продолжал исполнять долг хозяина: варил кофе, подкладывал дрова в печь, стоящую в той комнате, которая выходит окнами на восток. Я решил, что Олива будет спать там. День уже клонился к вечеру. И я хотел, чтобы для нее все было приготовлено наилучшим образом.
Мы с ней почти не разговаривали. Сердце у меня в какие-то моменты чуть ли не выпрыгивало из груди. Олива успокоилась; но она, в любом случае, ожидала атаки с моей стороны. Наконец я принудил себя сесть – в моей комнате – к роялю и начал играть. Эта маленькая любовная тоска окрыляла мою фантазию, заставляла пальцы летать по клавишам. Удивительные звуки, порождаемые взбаламученной душой, распространялись во времени… Внезапно в комнате стало совершенно темно. Изменение освещенности – всегда сюрприз для сознания. Я неуклюже потянулся за спичками; потом, ослепленный, зажмурил глаза и скорчил недовольную гримасу, когда одна из спичек зажглась. Применив к себе некоторые приемы физического насилия, я вновь воздвиг комнату, успевшую куда-то исчезнуть; вернул из бесконечных далей Оливу; усадил ее в кресло и сделал так, чтобы на лицо ей падал свет лампы. Теперь уже не оставалось сомнений в том, что наступил вечер. Печки опять хотели получить деревянную пищу. Лошадь хотела воды и корма. Для нас самих в запасе имелись чай, вино и бутерброды.
Такие осенние вечера – долгие. Неприветливая погода превращает освещенные комнаты в прекрасные острова, где часы протекают счастливо. Здесь происходит великое отречение от Вечности. Свет закапсулирован, то есть плавает в пределах замкнутого пространства, вдалеке от гавани Смерти{378}… Есть некий мужчина, переполненный любовью, но – маленькой. Есть молодая женщина, с благословенным чревом, с еще не початой временнóй протяженностью впереди, в которой ей предстоит забеременеть десять или двенадцать раз. Есть разум, который знает о прежних переживаниях и клятвах, для которого открыт архив столь многих уже потерпевших крушение целей и решений, который сохраняет пока лишь тень вчерашнего или позавчерашнего дня, но, помня о врожденной или приобретенной несостоятельности своего обладателя, обращается к нему с ходатайством и одерживает победу над жестоким инстинктом. Эта любовь даже не скрывает того, что она смехотворна, а может, и опасна. Я уже знаю, что она будет менее устойчивой, чем все предыдущие. Она начинается со сделки и никогда не станет лучше, чем была в своем дурном начале. – Я предпочел не продлевать этот вечер.
Я сказал:
– Ты, наверное, устала, Олива. Думаю, самое умное, что ты можешь сделать, – это лечь спать. Для пространных разговоров ни у кого из нас нет настроения. Ты мне уже рассказала, зачем пришла. Мы провели вместе день: может быть, и приятный; во всяком случае – не слишком тягостный. Завтра я отвезу тебя в коляске в Крогедурен.
Моя речь, казалось, разочаровала ее. Она не знала, как вести себя дальше. Она долго смотрела на меня, вопрошающе и неуверенно. Потом жалобно спросила:
– Думаешь, Аякс будет доволен нами?
Я хорошо понимал, что с его планом все пошло вкривь и вкось; но ответил так, будто не понимаю этого:
– А почему он должен быть недоволен?
Она вздохнула.
– Я, пожалуй, действительно лягу, – сказала. Ее голос не приспособлен для двусмысленностей и обольщения. Олива поднялась, шагнула ко мне и запечатлела на моих губах короткий жесткий поцелуй. Прежде чем она отвернулась, я заметил, что лицо ее – от отвращения или от стыда – сделалось пурпурно-красным. – – —
Никакой внутренний голос не будет возражать, если в вечер, подобный этому, ты, стоя перед закрытой дверью, придешь к выводу, что переживания прошедшего дня уже израсходованы. Все, что могло решиться в отношениях между Оливой и мною, решилось. Летучее слово – что я тоже ее люблю – я в себе подавил. Оно бы не выстояло рядом с мощными экстатическими порывами, соединяющими эту женщину с Фон Ухри, – не смогло бы выстоять. Я долго смотрел на дверь, закрывшуюся за Оливой. А по прошествии скольких-то минут взял лампу, прошел в свою комнату, разделся, вытянулся на кровати. Однако заснуть не мог. Я снова и снова задавал себе дурацкий вопрос: спит ли она или бодрствует. И какого рода мысли, если с ней дело обстоит как со мной, приходят ей в голову. Вспоминает ли она обо мне или обременяет темную влажную ночь короткими возгласами, чтобы та донесла их до Крогедурена? Знает ли Олива только одно слово, растягивающееся в длинную молитву: Аякс, Аякс, Аякс. AEUIA{379}. Эекс, Эекс, Уюкс, Уюкс, Иикс, Иикс, Аякс, Аякс? Никакой внутренний голос не будет возражать, если в ночь, подобную этой, ты предположишь, что за закрытой дверью притаилась авантюра, ждущая только готовности, мужества некоего мужчины, любви некоего мужчины. Моей любви. Моего желания. «Если я этого пожелаю, она будет послушна. Все уже обговорено. Она меня поцеловала. Отказавшись, я только доставлю ей унижение. Она ведь сама пришла. – Если я не стану думать о последствиях – или, наоборот, продумаю их как следует – если буду уверен в своей любви, в своей маленькой любви, – если только захочу, чтобы эта ночь не полнилась, как обычно, цепенящим сном…»
Я еще долго ворочался без сна и думал, грезил, чувствовал простор для желаний и возможностей, удалялся от точных формулировок сути этой столь неестественной встречи между ею и мною.
Наконец я поднялся, взял лампу, пересек гостиную. Сердце колотилось. Но рука открыла ту дверь. Олива лежала в постели, это я сразу разглядел, потому что две свечи горели с двух сторон от кровати и освещали ее лицо.
– Олива! – обратился я к ней. – К счастью… ты не спишь. Я не хотел пугать тебя. Я тотчас уйду, если ты об этом попросишь. Но я подумал, мы могли бы сказать друг другу несколько слов.
– Я тебя ждала, – сказала она неописуемо невыразительным тоном, – подойди ближе.
Я не мог истолковать этот серый оттенок ее голоса. Я только очень встревожился. Не без усилий заставил себя подойти. Тем не менее через несколько секунд я уже стоял рядом с ней. И оказавшийся тут же стул стал поводом, чтобы я согнул свое долговязое тело и уселся. Тут она… скорее медленно, чем быстро… стянула вниз, до пояса, овчинное одеяло, так что обнажилось все великолепие ее грудей, ни в чем не уступающих коровьему вымени. Темные соски были еще маленькими и девственными: они, казалось, вступали в противоречие с налитыми округлостями материнских желез. (Подобную сцену я уже пережил: здесь же, всего пару месяцев назад – —) Я спрятал глаза за поспешно поднятыми к лицу ладонями. И опять услышал у своего уха голос Оливы, серый и монотонный, как прежде:
– Я ведь настоящая девка, если по ночам, обнаженная, принимаю мужчин.
Я ничего не ответил. Я был словно парализован. Я чувствовал, как во мне формируются мысли, которые не желают подлаживаться к услышанному. – Олива не относится к разряду шлюх: она из другой расы. Вот Буяна, для которой Тутайн был защитником и сутенером, которая радовалась татуировкам на его коже – орлу у него на спине и женщине на предплечье, – Буяна уже в тринадцать лет понимала все тонкости ремесла проститутки. Наверняка она не убереглась от того, чтобы к пятнадцати годам забеременеть. Но она вряд ли произвела на свет ребенка: думаю, руки врачихи, производящей аборты, приблизились к ней с той же самоуверенностью, с какой приближались руки мужчин. Мир Буяны состоит из иных реальностей, чем мир Оливы.
Эти сильные, рослые деревенские девушки, чья красота, похоже, не унаследована от матерей; девушки, которые прилежно работают и смотрят на мир помолодевшими глазами своих отцов; которые лишь производят такое впечатление, будто под мягкой скорлупой их телесной привлекательности таится жесткое ядро неприступности и расчетливости: они на самом деле не умеют совладать с собственной страстью, которую так хотели бы скрыть; какой-нибудь парень, не обязательно из самых красивых и порядочных, рано или поздно обрюхатит каждую из них. В таком несчастье проявится неумолимый закон их расы: что они происходят от крестьян, ремесленников, рыбаков, то есть обычных честных людей, которые усердно работают, мало читают и не нуждаются в обучении; которым бытовая жестокость так же привычна, как и воображаемая порядочность во всех их делах. Порой случается, что такие девушки производят на свет внебрачных детей – если их друг предпочел не придерживаться неписаной договоренности, а совершить по отношению к любимой предательство. Но они, эти деревенские красавицы, – не детоубийцы. Они стоически переносят насмешки соседей, отчего их гордость только возрастает. Они не любят детей своей незаконной страсти, но они их добросовестно растят… Обычная же судьба таких девушек – брачная жизнь. Брак следует за периодом тайной близости, если эта близость приводит к беременности, – таково общераспространенное правило. Девушки не страшатся того, что очертя голову бросаются в брак, который может оказаться несчастьем, растянувшимся на всю жизнь. Даже зная наверняка, что впереди их ждут голод и побои, они не испытывают сомнений. Даже садист считается порядочным человеком, если он женился на опозоренной им возлюбленной. После того как живот-барабан становится заметным для всех, симпатия или антипатия к будущему супругу уже не играет никакой роли… И эти женщины приносят в мир детей. У них у всех плодовитые лона. К услугам мудрой акушерки они прибегают лишь тогда, когда уже родили шестерых или семерых ребятишек. (А чаще всего до этого вообще дело не доходит.) Они – подлинные матери человечества. У них только эта одна задача: быть матерью, даже если выполнение такого предназначения началось с опрометчивого шага или с преступного деяния. Природа полностью полагается на них: они легко поддаются соблазну нестерпимой любви, чтобы тотчас потерпеть поражение. Их любовь коротка, их обязанности нескончаемы. Рожать; растить детей; стараться, чтобы мужья не нарушали порядок; принимать от них побои; терпеть болезни и боль; работать; не терять зоркости взгляда; ожесточаться. Передавать по наследству красоту, которую у них самих отняли.
Сообщество верующих – (если взглянуть на человечество в целом, то большинство людей стремятся быть верующими; или, во всяком случае, слепо бросаются в ту же беспросветную ложь, в которой так привольно чувствуют себя верующие) – – те, кто так или иначе принадлежит к этому сообществу, привыкли не приглядываться чересчур пристально к определенным фактам. Они намеренно создают себе ложные представления о побуждениях представителей разных полов, об их поведении. И удаляются от правды так далеко, как только возможно… чтобы в конце концов целиком провалиться в теплую навозную жижу умолчаний и лицемерия. Католические священники, которые часто и подолгу сидят в исповедальне и покорно принимают на себя тяготы, связанные с выслушиванием чужих признаний, наверняка получают достаточно верное представление о распространенности… скажем так, греха. О распространенности – но не о его неизбежности. Это большое несчастье – что Римская церковь не уважает Природу во всех ее проявлениях. (Я не вправе развивать дальше эту мысль. Я не католик. Я должен прекратить это: высказывание пожеланий, к которым никто не прислушивается.) Я хочу выразить очень простую мысль: мне кажется, я должен найти оправдание для Оливы – и могу это сделать, рассмотрев некую ситуацию.
Я уже больше десяти лет живу в сельской местности. Я здесь считаюсь совершенно безвредным человеком; может быть, даже наивным. Никто не противится тому, чтобы я собирал свои скромные наблюдения. Я даже думаю, что некоторые простые люди, с которыми я знаком, хотели бы поговорить со мной доверительно. Во всяком случае, они постоянно рассказывают мне о своих болезнях, о том, что они недавно слишком много выпили или чересчур накурились. Я никогда не забываю поздороваться с батраком, работающим на поле; а если он и раньше мне часто встречался, могу перекинуться с ним парой слов. Я не заносчив, в отличие от какого-нибудь зажиточного крестьянина, и это идет мне на пользу. Мне сейчас вспомнилось: есть даже доказательства тому, что люди считают меня добродушным или понятливым. Мне хочется описать здесь одно происшествие. Это воспоминание, которое я не стал бы пересказывать устно.
Вскоре после нашего переселения сюда мы с Тутайном отправились на праздник стрелковой гильдии: потому что, в соответствии с традицией, я стал членом этой старой корпорации, существующей уже без малого сто пятьдесят лет. Дело в том, что членские взносы в ней взимаются с земельной собственности. И хотя это не налог, установленный местной администрацией, но владелец земельного участка размером больше пятидесяти тонн{380} едва ли может уклониться от уплаты такого взноса… В праздничный день, до полудня, крестьяне стреляют по мишеням или по подброшенным вверх глиняным голубям. (Эти упражнения осуществляются в очень узком кругу «своих», к которому причастны немногие.) Вечером устраивается общее пиршество, в котором тоже принимают участие только «лучшие»: то есть те, кто платит взносы, и члены их семей, а также два или три почетных гостя и самые ловкие стрелки. После ужина доступ в праздничный зал получают батраки и служанки, и тогда начинаются общие танцы, льются рекой пиво и шнапс. – В нашем случае все это происходило в просторной, но пришедшей в упадок летней гостинице, которая, как строительная конструкция, состояла по преимуществу из деревянных столбов, досок и окон. Со всех сторон имелись еще и балконы, веранды, двери. Западный ветер, дующий с моря, легко преодолевал гряду утесов и через многочисленные щели проникал внутрь здания. Мы с Тутайном явились туда уже после ужина, вместе с батраками. Мы сели в сторонке, заказали бутылку вина. Один зажиточный крестьянин, которого мы едва знали или не знали совсем, подошел к нашему столу, сказал: «Вы что-то поздно пришли. Я, конечно, понимаю. Хочется сперва сунуть палец в землю, понюхать, что и как. Могу вас успокоить: с тем, кто появится здесь, никакой беды не случится». Выдав нам это наставление, он отчалил.
С танцами в тот вечер как-то не складывалось. Музыканты старались насколько могли: но дощатая площадка для танцев оставалась полупустой. Причина же заключалась в том, что общество собралось «смешанное». Численно преобладали батраки, которые свое право находиться здесь превратили в обычай. Девушки-служанки, в большинстве, на праздник не пришли. Молодые крестьянки предпочитали, чтобы их кружили в танце парни с таким же, как у них, общественным положением. Батраки занимались главным образом тем, что пили. Они хотели показать, что у них тоже есть деньги. Некоторые столы были сплошь заставлены пустыми пивными бутылками. Кое-кто приносил с собой и домашний шнапс. Если крестьянин случайно сталкивался со своим батраком, он покупал ему «что-нибудь годное для питья». Но иногда и батрак оплачивал выпивку хозяина. У каждого своя гордость… Нам не понравился этот странный бескрылый праздник. Но мы остались: мы были чужаками и нам хотелось почувствовать здешнюю атмосферу. Мы пока что ни с кем не знакомились. Но время от времени парочка полупьяных наталкивалась на наш стол, так что стаканы едва не опрокидывались. Мы каждый раз выслушивали благонамеренные извинения: не всегда безупречные в формальном плане, однако позволяющие заключить, что зла нам никто не желает. Я не припоминаю, чтобы кто-то напился до бесчувствия; однако совершенно трезвых практически не было. Мы сами тоже заказали вторую бутылку, потому что решили остаться. В зале становилось все более шумно. Все говорили очень громко. Перекрикивались от стола к столу. В какой-то момент мне понадобилось выйти по нужде. Нужду справляли под открытым небом… по крайней мере, представители мужского пола. Я вышел через парадную дверь. В темноте, возле живой изгороди, обрамлявшей большую подъездную площадку, уже стояло несколько фигур. Я не захотел к ним приближаться. Я обошел освещенный дом и оказался в саду, к которому вела наклонная рампа. Возле одной из высоких черных стен цокольного этажа я и облегчился. В то же мгновение в нескольких метрах надо мной распахнулась освещенная балконная дверь. На балкон с шумом вывалились три парня, и сразу, без какой-либо подготовки или перехода, сверху начала изливаться мощная струя, в непосредственной близости от меня. Оказалось, что струя не только мощная, но и продолжительная. Я разглядел, что оба товарища этого Третьего собираются запустить аналогичные фонтанные струи; поэтому – поскольку уже первая струя представляла для меня угрозу – решился возвысить голос. Не помню, какие именно слова я им крикнул. Как бы то ни было, трое мужчин – надо мной – тотчас поняли, какую беду могут сотворить. Двое Медлительных попытались ее предотвратить: ухватились за Третьего, чтобы он остановился. Но как раз этого он, очевидно, не мог. Добились они лишь того, что летящая по дуге струя, когда ей помешали, рассыпалась пылью и в самом деле меня обрызгала. Сверху обрушился целый шквал извинений. Потому что я, понятное дело, отпрыгнул в сторону. На меня теперь падало немного света, и они, возможно, увидели, кто я есть. Я бы никогда не подумал, что батраки могут быть такими речистыми. В течение немногих минут я не только услышал с высокого балкона, как сильно они сожалеют о случившемся, но и узнал их имена, а также то, что самый виновный из них работает на хуторе фуражным мастером, второй делит с ним комнату, а третий – их товарищ с одного из соседних хуторов. Когда струя наконец иссякла, все трое попросили разрешения спуститься ко мне, чтобы еще раз выразить свое сожаление и каким-то образом исправить причиненный вред… Высказав такую просьбу, они исчезли с балкона и чуть позже вынырнули в саду.
Мне было любопытно, что произойдет дальше, поэтому я не ушел, а ждал их. Помню, меня в тот момент чрезвычайно занимал один физиологический факт: значительные вариативные отклонения в устройстве человеческого организма. Что длина человеческих кишок может значительно колебаться, это мне было известно; об этом мы с Тутайном и раньше дискутировали. Ведь такой факт мог бы привести к обострению социального вопроса: если бы выяснилось, что богатый хорошо приспособлен для переработки пищи, а бедный, напротив, является на свет с укороченным кишечником. Что Природа порой меняет местами левое и правое, в животе и в груди, это тоже давно зарегистрировано моим сознанием. Но теперь мне были продемонстрированы инструменты мочеиспускания, отличающиеся совершенно необычной емкостью. Я вообще-то не питаю склонности к анатомии; зато со страстью наблюдаю за не-препарированной Природой. И у меня даже в голове не укладывается, как можно находить такой интерес непристойным. Эгиль долгое время внушал нам тревогу, поскольку его организм – похоже, без всяких затруднений – мог накапливать мочу на протяжении двух дней. Однако теперешнее ночное происшествие оказалось за гранью приобретенного мною жизненного опыта и моих представлений…
Эти три парня вскоре появились. Они были слегка навеселе. Они пригласили меня насладиться вместе с ними «чем-нибудь годным для питья». Я только позже понял, почему они не отстают от меня, почему выказывают такое доверие: дело в том, что я не повел себя как работодатель; я не накричал на них; я, вместо того чтобы затеять ссору, проявил к ним снисхождение… может быть, даже улыбнулся и произнес какие-то дружеские слова. Главный виновник происшествия взял меня под руку. Мы вернулись в гостиницу, протиснулись к барной стойке, заказали четыре рюмки шнапса. Я хотел, но не смог заплатить за эту общую выпивку. Один из троих бросил на стойку талер; монета сразу скатилась в выдвижной денежный ящик. Поэтому я привел своих новых случайных приятелей к столу, за которым сидел Тутайн. Нам принесли рюмки, и эти трое тоже стали пить наш портвейн… Так решилось многое, хотя мы с Тутайном тогда об этом не задумывались. Мы приобрели доверие местных работяг и потеряли уважение тех, кто владеет полями и скотом.
У нас никогда не возникало желания, чтобы дело обстояло по-другому; незаметно накапливались случаи, когда четко определялся если и не наш социальный ранг, то наши социальные симпатии. Я заглядывал на танцплощадки, иногда посещал вечеринки «гильдий», которые устраивались в «зале» какого-нибудь большого хутора, главным образом как развлечение для батраков. Если пожертвовать для всей компании, в качестве угощения, умеренное количество пива или шнапса, то на такое сборище можно попасть, даже будучи чужаком. (Впрочем, сельские праздники постепенно отмирают. Сейчас даже хороший урожай не всегда становится поводом для общего пиршества.) Я много раз болтал и с лесными работниками – во время перерыва, когда они завтракают. Я не уставал слушать те маленькие истории, в которых речь идет о комнатках, где проживают служанки или батраки. Поэтому я знаю, что деревенские парни по ночам навещают девушек: вместе с ними прокрадываются в дом или влезают к ним через окно, предварительно взобравшись на дерево. Я даже знаю случай, когда у одного крестьянина потихоньку разобрали часть крыши… И ведь девушки принимают таких насильственно вторгающихся гостей. Тут нет повода для возмущения. Весну не остановишь запрудой. Не только деревья зацветают и выпускают молодые листочки, человек тоже живое существо. Не закон определяет срок его созревания, а Природа. Бывают четырнадцати– и пятнадцатилетние девочки, которые уже принимают возлюбленного. Закон в таких случаях угрожает только парню – но это очень несправедливо. Нельзя сказать, что парни слишком торопятся: на детей они не кидаются. Правда, большинство девушек теряют девственность в более взрослом возрасте. Но до двадцати лет ее сохраняют лишь в исключительных случаях: если девушка отмечена каким-то физическим недостатком или отличается особым высокомерием либо неестественной робостью.
Я не усматриваю в этом обычае ничего плохого. Я, правда, вижу, что здешние люди рано становятся израсходованными. Но думаю, их скорее сжирает пашня, требующая тяжелейшей работы. Как бы то ни было, я не знаю ритуала этой первой любви. Он должен быть очень древним. Я нахожусь в странном положении: потому что не знаю на языке жителей этого острова ни одного слова из тех, что произносятся украдкой. Я приехал сюда уже как зрелый человек; я не прошел ту школу, в которой учат важнейшим жизненным радостям… в соответствии с определенными учебными планами. И невозможно, чтобы я добыл такое знание задним числом. Я ни у одного человека не пользуюсь столь безусловным доверием, чтобы он меня в это знание посвятил. – Эти школы располагаются на лугах, в придорожных канавах, в конюшнях, в комнатах и каморках батраков.
Порой, заметив группу очень молодых парней, я подозреваю, что она и есть один из центров распространения тайного знания. Однажды мне даже представилась возможность незаметно понаблюдать за таким уроком. Это было на пляже в Косванге. Мероприятие носило полугородской характер: в нем принимали участие сыновья рыбаков и торговцев, даже парочка гимназистов, но и несколько ребят, чьи отцы были местными крестьянами. Летнее солнце изливало теплый свет на белый, грубого помола песок. Как второе солнце, лежали подростки: вытянувшись во весь рост, распределившись по кругу, обратив головы к центру, раскинув ноги-протуберанцы. Все они были обнажены, только плавки прикрывали их чресла. Они лежали ничком. Самый старший из них говорил. Остальные слушали. У этого старшего была оливкового оттенка кожа и над верхней губой – темная тень пробивающихся усиков. Мне удалось подслушать одну из его историй. Очень банальный двусмысленный анекдот, который рассказчик, наверное, где-то вычитал – не особенно непристойный, но удручающе заурядный… Потом звучащий голос перешел в шепот. И я теперь улавливал, время от времени, только прерывисто-сухой возбужденный смех слушателей…
Я наверняка не ошибаюсь, предполагая наличие некоего древнего учения и древнего ритуала. Устройство семьи на протяжении веков не особенно сильно менялось. Это относится и к беднякам. Девушки принимают возлюбленных; но беременеют редко. Только когда они достигают общепризнанного возраста вступления в брак, «несчастные случаи» умножаются. Этот феномен нельзя объяснить житейской мудростью, свойственной жителям больших городов. Она здесь практически неизвестна. Молодые люди, которые возвращаются после солдатской службы, образуют особую касту. Они в большинстве люди с извращенной натурой: их простодушие отравлено приобретенным опытом. По счастью, наши острова почти не подпадают под воинские призывы, поэтому батраки, побывавшие солдатами, у нас редкость. За плугами по полям шагают представители более простого человеческого типа: не алчные крестьяне, а всего лишь маленькие люди, чьи предки не занимают на кладбищах распознаваемых мест. – Пока они молоды, они тоже должны получать свои радости. А девушки как раз и созданы, чтобы дарить радость. Ночная любовь никого не позорит. Соседи не находят ничего предосудительного в том, что девушка меняет возлюбленного. Но конечно, это не должно входить у нее в привычку – иначе начнут распространяться нехорошие слухи.
Мне довелось наблюдать, как один батрак сделал предложение другому. Такое тоже порой случается. Природа не так щепетильна, как человеческая мораль. Бывают часы, когда Природа не знает колебаний. Время года? Кажется, это произошло осенью. Осенью или весной. Батрак вспахивал длинное поле, которое тянулось через холм. На востоке оно граничило с рощей. Я видел лишенные листьев заросли орешника и высокие тополя, в ветвях которых висели, черными шарами, вороньи гнезда. Две тяжелые лошади переворачивали коричневые пахучие пласты земли. Молодой парень упирался руками в рукояти плуга; поводья он перекинул через шею. Солнце не светило; но было тепло и безветренно. На своем пути с запада на восток парень, пропахав новую борозду в полсотни метров, остановился, похлопал одну из лошадей по дымящемуся крупу. Потом он повернулся ко второму, чуть более молодому батраку, который поблизости от него складывал в кучу вывороченные из земли камни, и сделал ему вполне понятный знак. При этом он засмеялся. Это был радостный смех – а вовсе не двусмысленный, не непристойный. Лицо второго парня я рассмотреть не мог. Но оно наверняка выражало согласие, поскольку младший парень приблизился к пахарю. Этот последний заметил меня слишком поздно. Его смех не замер из-за моего присутствия. Но и не сделал меня соучастником этой сцены. Смех оставался совершенно чистым. Лошади повлекли плуг дальше. Младший батрак следовал за упряжкой до вершины холма, а потом лошади и двое парней скрылись с моих глаз. На лице молодого пахаря я видел радость, этот редкий подарок судьбы. Всем нам в конце концов вырвут из груди сердце и его радости. Этому парню – тоже.