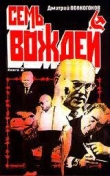Текст книги "Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая)"
Автор книги: Ханс Хенни Янн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 59 страниц)
Аякс рассмеялся. Сказал:
– Какой педантичный убийца!
Я едва нашел в себе мужество, чтобы заступиться за мертвого друга.
– Ты ведь не знал его, – ответил я. – Он был человеком, каких теперь редко встретишь – удивительным… по-настоящему добрым. Поначалу он, может, и походил на загнанного зверя; но очень скоро я начал воспринимать его как личность, способную на многое. – Мы оба разучились молиться – ожидать какую-то помощь извне – уклоняться от встающего перед нами вызова…
– У тебя хорошо подвешен язык, – сказал он, – а я готов тебя слушать. Я жажду узнать подробности… Так сколько лет, ты говоришь, он прожил убийцей?
– Двадцать три года…
Аякса, похоже, в моем ответе что-то насторожило. Он недоуменно качнул головой.
Весь день он пытался выспрашивать меня – я же, по мере сил, сопротивлялся. К вечеру, на мое счастье, опять появилась Олива. И я смог ускользнуть. Уже в первые секунды ее присутствия я обрел свободу. Аякс, без какого-либо перехода, обратился к ней всеми мыслями и чувствами. И принялся хватать ее руками, обслюнявливать, чуть ли не обнюхивать.
Так, наверное, отныне и будет: вечера, когда Олива приходит, принадлежат мне; если же ее нет, мы с Аяксом часами сидим под лампой, пока снаружи завывает ветер, с деревьев падают капли… и тьма окутывает всю землю. В такие часы Аякс будет ветром, а я – деревом, мало-помалу теряющим листья. Ночи же, когда я, освободившись от его любопытства, буду одиноко лежать в постели – более оголенный, чем когда-либо, оголившийся перед самим собой, – заполнятся страшными мысленными картинами. Потому что я с трудом забываю отвратительное; а удержать радостные воспоминания не умею.
* * *
Эли, который провел ту ночь погребения один, в конюшне, теперь время от времени поднимает на меня печальные глаза: как будто, после многих совершенных мною тяжких проступков, все мне простил. Отношения же между ним и Аяксом ухудшились. Чужая молодость тягостна для старого пса; ему внушают робость проявления чужого плотского желания: то, что Олива заглядывает к нам по вечерам и тогда внезапно распространяется пламенный запах готовых к спариванию существ; что Аякс сбрызгивает себя одеколоном, чтобы еще больше походить на хищника, больше кичиться своими мышцами и еще смелее запускать когти в мягкое гордое тело подруги – потому что природа щедрее всего там, где она граничит с искусственным раем{250}; и стрела, выпущенная в чужую плоть, проникает глубже, если путь ее был заранее точно просчитан. —
Три дня назад – в роковое утро – Эли не узнал избранника своего сердца, приемника Тутайна; он злобно ворчал на него… пока не раздался знакомый голос. Для Эли это был великий позор. Пес очень опечалился, заскулил. Он больше не отличает радость от страха. Его дух уже пребывает в той долине, где разные времена смешиваются, знакомые фигуры преображаются, а усталость заглушает желание найти всему этому объяснение. – —
Мое ощущение одиночества усиливается. Какой-то трудно распознаваемый обман опустошает меня. Я не корю себя, что совершаю предательство по отношению к кому-то или чему-то. Или – что убиваю собственные воспоминания. Но разговоры с Аяксом не приносят мне утешения, не спасают от отчаяния – вот, собственно, и всё. Я, странным образом, испытал разочарование. Скромная надежда – что мой рассказ растрогает Аякса, откроет для меня его сердце – не оправдалась. Я, со своими признаниями, по-прежнему одинок. Я даже не знаю, как Аякс их воспринимает… как оценивает. Он с жадностью вытягивает из меня все новые подробности. Но это не подлинное человеческое участие – а лишь любознательность… мутное любопытство. Не то чтобы я не доверял ему… мне просто кажется, что он воспринимает мои слова как нечто само собой разумеющееся… никогда им не изумляясь. По крайней мере, он не показывает своего изумления. Я вижу на его лице – в те редкие мгновения, когда оно перестает быть равнодушным, – только грубую удовлетворенность. Но тогда опять-таки: зачем он выпытывает у меня все новые сведения? – Он собирает потерянные тайны; я не вправе обманываться, убеждая себя, что это не так.
Он не утешает меня. Он больше не утешает меня. Я слышу грозовые тучи, которые сгустились на дальних горизонтах и уже грохочут громами, собираясь двинуться сюда. Наступила осень, и осенние настроения угнездились во мне. Это теперь не прибежище для моих мыслей: знать, что Аякса отделяют от меня лишь две стены. Я не знаю, спит ли он в данный момент; я даже не знаю, дома ли он. Он, когда находит нужным, вылезает через окно. Или затаскивает к себе Оливу, из темноты за тем же окном. Чудовищное вожделение и растрачивание себя… Даже обессилев в соитии, оставаться неудовлетворенным – боюсь, что именно таков его жребий. «Брюхатая баба лучше пустой». Когда он изрекал это, его рука была голой, как у рабочего со скотобойни, запускающего пятерню в брюхо только что забитого животного. – Я чувствую свое нарастающее несчастье. Аякс от меня отдалился. Я становлюсь для него неинтересным: лишенным каких бы то ни было тайн. Но я-то как раз теперь нуждаюсь в нем; теперь – в эти дни распаленной, скалящей зубы Пустоты… и раздоров в моей голове – мне становится ясно, что Тутайн окончательно исчез… и что моей памяти все труднее воссоздавать его облик. – Я хочу, чтобы Олива и Аякс поскорей поженились; хотя и не надеюсь, что это принесет мне какое-то облегчение. Только внешние безобразия будут устранены – все эти лазанья через окно… в комнату и из комнаты на двор.
Я должен наконец сказать себе, что превращаюсь в дурака из-за элементарного невроза – из-за меланхолии. Ведь не случилось ничего, что могло бы стать поводом для столь глубокой печали. За исключением одного происшествия. Но оно не поддается толкованию: это и не сон, и не действительность. Я все не решался рассказать о нем на этих страницах… потому что речь идет о чем-то ужасном. Как бы я хотел считать это самообманом… полным самообманом… Да только Аякс представил мне подтверждение… частичное… Но лучше обо всем по порядку.
Я спал. Я проснулся. Была глубокая ночь. Я услышал, как Эли поднялся с подстилки и прошел через комнату к миске с водой, чтобы напиться. Тем не менее я, казалось, по-прежнему слышал его дыхание возле самой кровати. Я поэтому протянул руку и сразу нащупал пса… вроде бы спящего. Но в то время как рука моя еще прикасалась к кудлатой спине пуделя, уши уловили характерный звук, какой бывает, когда собака лакает воду. И собака эта наверняка испытывала сильнейшую жажду, потому что пила она очень долго. Эли тихо заворчал. Я почувствовал, как он дрожит. В то же мгновение мною овладел безмерный страх. Ужас был так велик, что я не смел шелохнуться. Я лишь прислушивался; и все понятия собачьего языка, воспринятые на слух, обретали внутри меня зримый облик. Я попытался успокоиться, говоря себе, что в дом, наверное, забралась чужая собака. Но потом я услышал, как дверь моей спальни закрылась. Значит, прежде ее кто-то открыл. А кто мог открыть, если не Аякс? – Да, но почему он не спит? И что означает ночное вторжение приблудной собаки? И почему Аякс, если хотел напоить чужого пса, привел его ко мне в комнату, а не поставил ему миску с водой на кухне или еще где-нибудь? Разве перед тем, как мы отправились спать, Аякс не сказал со всей определенностью, что сегодня останется дома и Олива к нему не придет? Разве я сам не закрыл на засов входную дверь? – Мой дух боролся с разными возможностями. Я чувствовал: в доме распространилась та тишина, которая обусловлена сном всех его обитателей, людей и животных; и которую может внезапно прорезать только крик кого-то одного, мучимого кошмарами. – После долгого, медлящего бодрствования я поднялся и зажег свет. Эли лежал, свернувшись, возле кровати. Дверь комнаты была закрыта. Миска с водой – пуста. Бодрствующий разум ослабляет воздействие необычного, возвышенного и призрачного, превращая все это в некий естественный феномен. Мы не доверяем нашему чувственному восприятию, нашей памяти. Мы усваиваем урок: что наша уверенность – в чем бы то ни было – чаще всего оборачивается иллюзией. Я год за годом, каждый вечер, наполнял собачью миску водой; это вошло в мою механическую память; поэтому вполне могло получиться, что машина, какой я являюсь, однажды не совершила привычное действие, а мозг такой сбой не зарегистрировал. Мозг обратился, как к эрзацу, к другому воспоминанию: которое на день старше, но отнюдь не слабее. – Я обошел комнату и наконец, успокоившись, снова улегся в постель.
Я бы в конце концов забыл это происшествие, если бы Эли – наутро – не пробудил во мне память о нем. Дело в том, что, когда Аякс вошел в комнату, пес недоверчиво заворчал – так же тихо и испуганно, как ночью.
– Что, Эли, не узнаешь меня? – крикнул Аякс. Голос прозвучал не гневно и не насмешливо, скорее печально.
В это мгновение Эли жалобно заскулил, почувствовав стыд и страх.
– Между прочим, – сказал я, – сегодня ночью ко мне в комнату забрела чужая собака. Это ты привел ее в дом?
– Тебе приснилось, – сказал Аякс. – Я крепко спал. Никакой чужой собаки в доме не было.
– Странно, – упорствовал я. – Дверь кто-то открывал и закрывал, и вода из собачьей миски исчезла.
– Вода из миски? – удивленно переспросил он. – Из собачьей миски? Мне действительно кажется… такое могло быть… что я, во сне, лакал языком воду… – Он был совершенно ошеломлен.
– Значит, не мне, а тебе что-то привиделось во сне… и ты зашел ко мне в комнату как лунатик? – сердито проговорил я.
Теперь я увидел, как лицо его сделалось грязно-серым или зеленоватым. Ошибиться я не мог.
Его голос совершенно изменился – стал мрачным, – когда он заговорил снова:
– Это был сон. – Конечно, сон… как другие сны. – Но в нем присутствовало и нечто реальное. Вода… и язык, лакающий воду. – Это была не собака. Это был волк. Жаждущий волк{251}…
Я вскочил с кровати, схватил его за плечи.
– Аякс, – забормотал я, – Аякс… нехорошо воспринимать непостижимое так буквально… Негоже… преувеличивать подобные представления.
– Жуткий сон, – сказал он; и две слезинки выкатились у него из глаз. – И это… к сожалению… не впервые. Пообещай, что если… такое… повторится… если ты услышишь в доме возню этого волка… меня… то ты меня позовешь. Позовешь по имени! Выкрикнешь мое имя!
– Так ты разгуливал по дому в образе волка? – Мое дурацкое удивление еще не улеглось. – И что же ты намеревался предпринять?
– Не знаю. Я не помню. Неважно. В любом случае, случившееся относится к сфере нереального или лишь наполовину реального.
Он закурил сигарету. Наклонился к Эли и погладил его.
– Давай помиримся, – сказал псу. – Бедный ты, бедный, ты все равно слабее.
Дольше этот разговор не продлился; и протекал он именно так, не иначе. – – —
В полдень того же дня к нам заглянул Льен. Он соблюдает меру в удовольствиях. Он не жаден. Но знает, что у нас наверняка найдется бутылка вина. Что заварить крепкий чай тоже недолго. Льен всегда желанный гость. Он спрашивает, как у нас дела, как продвигается моя работа. Он наслаждается поверхностной веселостью Аякса, как когда-то наслаждался одухотворенной меланхолией Тутайна…
Аякс тут же выложил ему ложь, о которой мы договорились заранее: что торговец лошадьми из Ангулема будто бы поднялся на борт какого-то судна в гавани Бордо.
Льена новость обрадовала. Он признался, что хотел бы повидаться с Тутайном. (Как же часто он о нем думает! Эту фразу он повторяет, словно рефрен.)
Аякс принес крепкое бургундское, которое немного перестояло в тепле и потому обрело привкус крови.
– Две собаки, – сказал Льен, опустошив бокал (привкус крови в вине навел его именно на такие воспоминания), – прошлой ночью, поблизости от вас, задрали десятерых овец. Собаки бесследно исчезли. Они почти и не жрали трупы. Только загнали животных до смерти… и потом расчленили…
Я посмотрел на Аякса. Но он уже забыл свой сон. Он больше не помнил, что побывал в шкуре волка. И поскольку лицо его обрело выражение полнейшей невинности, мое подозрение бесследно рассеялось. – Одна конкретная ночь, как и любая ночь, имеет – даже на нашем острове – десять тысяч разных мест действия. Льен спал, а гроб Тутайна тем временем погрузился на морское дно. Аякс видел сон, а тем временем десять овец были растерзаны. Мир, который нас окружает, для нас почти полностью закрыт. Мы не знаем, стонет ли наш сосед от зубной боли, спит ли со своей женой или бодрствует в хлеву, ожидая, когда опоросится свинья.
Мы так же мало знаем содержание его молитвы, как и его грехи. У нас много соседей. Почему же мы так уверены, что именно наша жизнь должна быть удачной, если столь многие люди, как нам рассказывают, терпят крах? Почему мы верим, что находимся в безопасности, если неуязвимость не гарантирована никому? —
Ах, нашим последним прибежищем всегда оказывается какой-то человек, а мы знаем его так же мало, как самих себя.
* * *
Мне думается, я вижу все очень ясно. Вижу это препятствие – этот камень преткновения, который мне не одолеть{252} – – Я никогда не пойму Аякса… как понимают, когда любят. Как его понимает Олива. Как я понимал Тутайна и (хочется верить) Эллену. Понимал… каким-то порывом теплокровного телесного сочувствия. – Конечно, я восхищаюсь Аяксом; но речь идет лишь о пронзительном удивлении… а главное, от него я жду для себя какого-то выигрыша: радости… или хотя бы сладострастного желания, которое не осуществится. Такое восхищение опасно, ибо расшатывает основы моего «я». Ведь я ничего не знаю о внутренних побуждениях Аякса. Я настолько неопытен, что не могу ничего прочесть в его глазах, в складках лицевых мышц. Я уже много раз ловил себя на том, что предполагаю нечто абсурдное. Я хотел бы рассматривать Аякса, не испытывая желаний, – издалека. Но как раз это у меня не получается.
* * *
Отношение между двумя людьми подвержено постоянным изменениям. Даже малейшие новые данности меняют его. Слова вмешиваются в это отношение, как волшебники. Признания уничтожают гигантские миры предвзятых представлений. Внезапно проявившийся недостаток близкого человека – или старый недостаток, который скрывался им, но вдруг обнаружился, – порождает в нас приливы и отливы сострадания и отвращения. Сама любовь, с ее домогательствами и ревностью, создает нереальные царства опустошающей фантазии. А время собирает отходы, превращая их в дюны изнеможения.
Аякс больше не донимает меня вопросами. Либо он на время удовлетворил свое любопытство, либо плодородной пашней для его мыслей служит теперь прежде всего любовь к Оливе. А может, Аякса угнетает еще и то обстоятельство, что я узнал о его «волчьем» сне. Он на минуту показал свою слабость и даже попросил меня о помощи против ужасного преображения, которому время от времени подвергается. В самом ли деле он хотел бы видеть во мне спасителя? Не похоже. Визиты Оливы становятся все более частыми. Если же она не приходит, я должен считаться с возможностью, что Аякс ночью покинет дом, убежит, вылезет через окно. Его тело видится мне сплошь состоящим из пламени. (До сих пор в этом «Свидетельстве» мне удавалось избегать слишком сильных слов.) Олива расхаживает по дому с невозмутимостью самки животного: показывая всем своим видом, что ей нечего больше желать от любимого. – Я наблюдаю совершенное земное счастье. И не верю в его долговечность. Наверняка утренний небосклон этой любви был затянут тучами. Олива беременна, это уже заметно. Должен ли я предположить, что Аякс сошелся с ней прямо в первый день прибытия? Такое маловероятно. Сам же он об этом молчит. – Мне неведомы многие места действия человеческого театра. Даже комната Аякса – сцена, скрытая от меня стеной. Тогда что я должен думать о доме Ениуса Зассера, расположенном на побережье, в Крогедурене? – Что Аякс иногда проводит там ночи. Что Ениус Зассер тем временем либо ловит рыбу, либо не ловит рыбу. Что они спят – вдвоем или втроем – под одной крышей. Что, может, дело обстоит иначе и укрытием для любящих служит какой-то сарай. Или только один из этих троих спит, а двое ловят рыбу. Или Аякс убегает не к Оливе. А гонит его в ночь что-то совсем другое. Или что там, где я подозреваю вину, царит полный порядок… а где, как я предполагаю, разворачивается красивая страсть, на самом деле действует холодный расчет, который приведет к измене или к преступлению…
Моя жизнь, вопреки моей воле, открылась для Аякса; нынешние зубчатые соединения – взаимного доверия, признаний, удовольствий, размолвок, лживых измышлений и умолчаний, – очевидно, возникли по произволу судьбы, вне зависимости от человеческих намерений. Эти случайности не имеют общей цели. Я, во всяком случае, не распознаю никакой закономерности в том, как я в них запутываюсь… неважно, по собственной вине или нет. Недоразумения, или двусмысленности, переплелись, как вьющиеся растения, образовав опасные заросли, и спокойно разрастаются дальше; ни мне, ни Аяксу не хватает сил, чтобы выдрать их с корнями. Безусловной готовности идти навстречу друг другу (которая, может быть, с самого начала была иллюзией) больше не существует; вероятно, мое нежелание уступить домогательствам Аякса сильно ухудшило наши отношения. Я чувствую, что не способен отделить в репликах, которыми мы обмениваемся, правду от притворства и хитростей, откровенность – от актов самозащиты. Хотя я – в письменном виде – отчитался перед собой почти обо всех наших разговорах, мне неведом подлинный масштаб собственных лживых высказываний. Они были брошены, как камни, в колодец моей души, чтобы поднялся уровень воды – все равно, чистой или мутной. Насколько же меньше я могу оценить конструкцию внутренней защиты Аякса! Мои подозрения часто делали его непознаваемым для меня. Я ищу ошибки в предпринятых мною мерах, но не могу их найти; разве что все мое поведение в отношении Аякса было чередой сплошных неудач – одно звено цепи за другим оказывалось слишком слабым, чтобы надежно соединить, среди текучей воды, якорь и корабль, – и мне вообще не следовало терпеть его рядом-присутствие. Мой характер, возможно, испортился в сновидческой стране утопий. Я, если смотреть на меня со стороны, всего лишь человек со странностями – чудак.
Теперь тревога нарастает, сколько бы я себя ни успокаивал: неспособность принимать решения усиливается, тогда как сила, потребная для работы, иссякла. Ощущение покинутости становится невыносимым. Настроение у меня действительно мрачное как никогда. Аякс сделался навязчивым; он попросил, чтобы я подумал над нашим совместным будущим: по крайней мере, дал ему знать, на какие наличные выплаты с моей стороны он может рассчитывать и какие условия я хочу в связи с этим поставить. Он не говорил, что покинет меня. Он еще раз предложил мне купить тот алмаз. Он не пытался меня шантажировать. Он только потребовал, чтобы я для него что-то предпринял. Чтобы сделал его уже не слугой, а домоправителем{253}. Но что ему, в сущности, даст маленькая прибавка к жалованью? У него преувеличенное представление о моих доходах. Он не понимает, что необычайно высокие гонорары, которые я получал в последние месяцы, не покрыли моих расходов. Что безостановочное записывание музыкальных идей не может продолжаться долго. Я уже сейчас чувствую, что мысли начинают иссякать. Мне придется, хочу я того или нет, сделать паузу. Четвертая часть концертной симфонии – наверняка эта часть будет самой длинной – выходит из-под пера медленно, хотя все строительные блоки, которые я хотел бы использовать, уже собраны. У моего духа, как и у тела, есть свои времена года. (По большому счету нет ничего более абсурдного, чем вера в планомерный ход событий. Я увяз в судебном разбирательстве; все, что случается, это меры, принимаемые судом, а предметом расследования и приговора является моя жизнь{254}. Способа заслониться нет. И никогда не было. Эти судебные чиновники – личности незаметные, но бдительные.) – – – Час назад – одна из первых сильных осенних бурь играет на арфах деревьев, кричит на черепицу, заставляет листья и крупные капли дождя со звоном ударяться о ночные темные стекла, – час назад я зашел в комнату к Аяксу, чтобы предложить ему выпить по стакану пунша. Потому что меня знобило. Но Аякс опять отсутствовал. Окно было открыто и под ветром норовило сорваться с крючка. Ветер вихрился вокруг всех предметов, шевелил одеяло на кровати и разметывал пепел, выпавший из печи. Почему Аякс вылез через окно? Почему он не пользуется входной дверью? Он имеет на нее такое же право, как и я. Была еще даже не ночь, а только ранний темный вечер. У Аякса уже вошло в привычку избегать коридора, когда он покидает дом. Я вновь и вновь вижу себя пребывающим на границе какого-то нового мира, слишком отличного от того, в котором заперт я сам. – Я не отважился закрыть окно, хотя опасался, что к утру буря и дождь усилят беспорядок в комнате. И что стекла, да даже и рамы, могут сломаться.
Я не отважился действовать наперекор Аяксу… Пить пунш мне расхотелось. Я добрался до конюшни, обнял Илок, прижался головой к ее груди. Говорят, что когда лошадь осторожно и нежно – доверительно – обдает нас дыханием своих ноздрей и снисходит до телесного соприкосновения с человеком, она мысленно возвращается из бескрайних пространств в очень тесное, где только и может общаться с нами. – Ах, лошадь одарена фантазией щедрее, чем мы; но она точно так же нуждается в любви… и воспринимает добрые слова, как если бы они были музыкой. – Я выпил рюмку шнапса, поскольку меня все еще знобило. Непогода разыгрывается. Мертвые листья с шуршанием приближаются к дому, издалека, и случатся, как слабые детские руки, в двери и окна. Зачем Аяксу, в такое ненастье, понадобилось покинуть дом? Какая тревога, какие планы гонят его? Или все дело в его неразумной любви к девушке, чью душу он наверняка знает весьма поверхностно: к девушке, которой прежде него овладел кто-то другой и которая теперь носит в себе другого, в ком уверена больше, чем в нем? Неужели Аякс так зависит от плотского вожделения, как мало кто кроме него, – безусловно? Неужели предался этому вожделению безоглядно, на радость или горе? И что же, прошлое Оливы его совсем не волнует, лишь бы ее настоящее принадлежало ему? Или овладевшая им болезнь еще безнадежнее, ибо желание – его способность желать чего бы то ни было – вообще не может насытиться? Потому что в жилах его течет жидкий огонь? И его тягу к проявлениям телесной удали, как и свойственную некоторым людям жажду власти, не удержать никакой запрудой? Его голод нельзя утолить? Он никогда не насытится вином? Никогда – ароматами? Никогда – притворством? Никогда – соприкосновениями? Никогда – похвалами в его адрес, дающими ему чувство удовлетворения? Никогда – привкусом крови от чужой прокушенной губы? Никогда – уступчивостью Другого? – Потому ли, что вновь и вновь у него возникает мысль: он кому-то не нравится? Возникает гложущая боль, оттого что его готовность и готовность других всегда находятся лишь в начальной стадии, не достигая полной меры? – Несчастлив ли он или просто не хочет знать никаких ограничений? Старается сделать как лучше или по натуре своей порочен? Действует ли по трезвому расчету или переживает начальную стадию чудовищного опьянения? Отправился ли он, в самом деле, к Оливе или бродит по округе в поисках другой добычи, чтобы продемонстрировать новую грань своей постепенно раскрывающейся многогранной личности? Является ли Аякс, вопреки моему внутреннему сопротивлению такой идее, двойником Тутайна, выбрасывающим из себя все то, что прежде подавлялось, все прежде обращенные внутрь силы и желания: то есть человеком, который не скован некогда совершенным убийством, но обладает безусловной телесной свободой – свободой оставаться самим собой? —
Я знаю, новые вопросы не умножают число ответов. Но проведенная в одиночестве ночь сослала меня в края Неопределенности. Я не боюсь; однако пространственная пустота вокруг меня велика. Буря – могучий изменчивый голос; но ближайший ко мне человек – наверное, мой сосед, живущий по ту сторону проселочной дороги. А если бы и нашелся кто-то поближе, это бы все равно меня не успокоило. Я вынужден предположить, что с Аяксом случилось несчастье; или – что его гонит какое-то нечестное намерение; или – что у него есть послание для меня, которое меня испугает.
Я одинок. Аякс ходит своими путями. Это не должно меня беспокоить. Я мог бы упрекнуть его, если бы он пренебрегал своими обязанностями; но их-то он исполняет. Он мне помог. Угроза – опасные головокружения, от которых я периодически страдаю, – исходит от меня самого. Аякс делал для меня все, о чем я просил. Он по натуре – по крайней мере, отчасти – покладист. Не его вина, что я одинок. Начавшееся разрушение моего тела, моих мыслей, моего будущего – это признаки возрастной осенней поры… вполне обычного отрезка долгой человеческой жизни, наполненного резкими ветрами и безотрадным светом. Может, еще предстоят сборы урожая. А может, последние плоды просто упадут на землю. Что же меня мучит? Или – кто? Кто держит мое сердце в плену, заставляя его биться о прутья решетки? Дело тут не только в унынии, свойственном людям моего возраста. Может, это действительно страх: что у меня нет будущего, что вечер моей жизни будет бессобытийным – бессобытийным и непроясненным, полным хмурого, бессмысленного раскаяния, чуть ли не цинизма, – и что даже ни один призрак не захочет меня навестить? Что моей единственной радостью останутся тихие ночи, когда меня еще будет окутывать тепло собственного тела, удерживаемое одеялом? Это без-событийное одиночество, одиночество без сумасбродств… одиночество как выжженная равнина… – Дыхание Илок: оно всегда становится для меня прибежищем, когда я чувствую себя покинутым. Я должен остерегаться ложных шагов. Я не вправе пытаться привязать к себе Аякса какими-то узами. Он все равно убежит через окно. И по-другому никогда не будет: никакие обещания, никакое богатство его не удержат. Илок – хотя ее глаза способны вместить и леса, и степи, – Илок любит свою конюшню, ее радуют сладкий аромат сена, приятный запах размолотых зерен. Когда, в период течки, она позволяет жеребцу излиться в нее, когда потом рожает жеребят и выкармливает их молоком, она познает доступную ей меру счастья. Я, хотя отпущенная мне власть мала, могу удовлетворить ее желания. Тогда как желания Аякса необозримы. Илок, в момент какого-то дикого порыва, может копытом раздробить мне стопу… Айи же, в момент гнева или заносчивости, отбросит меня в такое место, достаточно далекое от него, что сможет вообще обо мне забыть. Забыть? Не он это определяет. Он не наделен властью полубога. Он лишь притворится, что забыл меня. Но это еще хуже, чем естественное расстройство памяти. Это приговор. (Сам того не желая, я только что назвал его Айи. Так его называет Олива, когда нежность к нему переполняет ее, становясь нежным безумием.)
Тьма этой ночи, тьма-сообщница, ставшая укрывательницей моих мыслей, – она пахнет, как тяжелые животные в хлеву, привязанные возле кормушки. – Пусть бы мир окутался животным запахом стонущих коров… а человек, я думаю, проклят.
Все обстоит по-другому. Я – единственный человек на этом месте действия. Для меня не найдется искомого слова. Даже мертвец не даст мне беззвучного ответа. Мне нужно выпить еще две или три рюмки шнапса, тогда я перестану мерзнуть и тревожные мысли улягутся. Тогда вопрос о ближайшем соседе утратит значимость. Как и вопрос о человеке, который, может быть, принесет мне дурное послание, или чувствует себя несчастным, или имеет неблаговидные планы. – Любовные пары – при любой погоде – лежат в канавах по обочинам дорог. Потому что тепло удваивается, когда ты с кем-то вдвоем.
Наверняка дело обстоит так: даже и в эту ночь, на этом острове, мучаются коровы, которые вот-вот должны отелиться. После болезненных схваток коровье тело выталкивает сформировавшегося внутри теленка, который появляется на свет уже с красивой шерсткой, с черной мордочкой и подвижным, жадным до молока язычком. Родившегося теленка корова любит. Она любит его и вылизывает своим языком. Вот о чем я хочу думать. Это скудное, но надежное утешение. Плотские существа грязные, зато очень добрые.
* * *
Он действительно вернулся домой насквозь промокший. Промокший, грязный, в рваной одежде. Было семь утра. Он вошел через дверь. Я встретил его в коридоре. Он немного смутился, увидев меня.
– Я подумал, что ты, наверное, ночью закрыл окно, – сказал он. – Кроме того, я хотел сэкономить силы, не лезть наверх. Ведь спускаться легче, чем подниматься.
Во время таких ночных вылазок он не носит свою ливрею – матросский костюм; поэтому уже через несколько минут он предстал передо мной умытым и одетым, как обычно. Но его знобило. Лицо у него было пустое, известково-белое.
– Я бы приготовил себе глинтвейн, – сказал он, – если ты не против.
– Конечно, – ответил я. И отметил, что теперь ему захотелось пунша, о котором я думал еще накануне, собираясь насладиться этим напитком вместе с ним. Меня больше не знобило. Но я крикнул ему, в кухню: – Приготовь стакан глинтвейна и для меня…
Аякс был совершенно измотан. Он жадно прихлебывал горячий напиток, чтобы тепло скорее вернулось в его тело.
– Где же ты был? – спросил я; не столько из любопытства, сколько желая продемонстрировать сочувствие к его невзгодам, о которых ничего не знал.
– Снаружи, – отрезал он.
– В такую ночь? И без крыши над головой?
– Да, – подтвердил он.
– Один? – спросил я.
– Не все ли тебе равно? – вскинулся Аякс. – Я вернулся поздно, в этом моя ошибка…
– Боюсь, ты подцепил какую-нибудь хворобу, – проворчал я.
– Если и так, то она осталась пустым яйцом.
– Что ты хочешь сказать? – удивился я.
– Яйцо отложено, но болезнь из него не вылупится, – пояснил он.
Теперь он принялся за еду: ел так же жадно, как прежде пил, и продолжал заливать себе в глотку горячий пунш. Следы ночного приключения на моих глазах исчезали с его лица. Впору было подумать, что он уже все забыл.
– Ты подумал о моей ситуации? – спросил он.
– Я думал о ней, – сказал я, – но от этого возможное решение не стало более легким.
– Так поделись со мной трудным вариантом, – настаивал Аякс.
– Я не знаю, чего ты для себя ждешь, – сказал я.
– Многого, – сказал он.
– Мне придется разочаровать тебя, – сказал я.
– Лучше мало, чем ничего, – сказал он.
– Я владею достаточно скромным состоянием, а живу на проценты с него, – начал я. – Еще когда наши товарищеские отношения только начинались, я не утаил от тебя свое социальное положение. В общественной иерархии я нахожусь на много ступеней ниже, чем находился твой прежний господин. Когда Тутайн был жив, доходов едва хватало на нас двоих. Поэтому он начал торговать скотом – овцами и коровами… позже лошадьми. На его деньги мы построили дом и приобрели участки земли в этой безлюдной местности. А что моя музыка стала приносить существенные суммы, новость для меня самого… и удивляет меня. Наверняка этот поток вина и хлеба насущного не будет изливаться долго. Он иссякнет, как только моя слава пойдет на убыль или голова у меня устанет. То и другое очень вероятно. Но даже если исходить из доходов последнего времени, я могу повысить твое жалованье лишь ненамного…