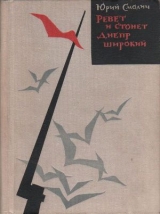
Текст книги "Ревет и стонет Днепр широкий"
Автор книги: Юрий Смолич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 62 (всего у книги 62 страниц)
Против Думы Иванов с ходу вздыбил–остановил коня, даже шлея лопнула. И оба они – Иванов и Боженко – побежали, раскрыв объятия, к всадникам.
Обнимались, целовались, смеялись.
А люди спешили со всех сторон, теснились, бурлили вокруг толпой и кричали:
– Наши Ура! Наши!
Теперь их было шестеро.
Когда горячие минуты первых приветствий миновали, тут же на мостовой против Думы состоялось нечто вроде первого совещания освободителей. Юрий Коцюбинский, народный секретарь, командующий Украинской советской армией, «председательствовал». Он сказал:
– Предлагаю до отмены осадного положения и создания органов местной власти товарища Полупанова назначить военным комиссаром города.
– Правильно!
– А гражданским комиссаром – товарища Чудновского. Возражений нет?
– Нет!
Муравьев, правда, пожал плечами: он считал комендантом украинской столицы – и военным и гражданским – себя. – Даже разослал уже всюду, куда только мог, соответствующие телеграммы.
Коцюбинский улыбнулся Иванову:
– Поддерживаешь, Андрей, – как председатель революционного комитета?
– Поддерживаем! – дружно крикнула толпа, теснившаяся вокруг в бурном водовороте.
– Поддерживаю! – улыбнулся, кивнув на толпу, Иванов. – Сам видишь, Юрий!
Люди вокруг, опередившие его радостным возгласом, смутились. На минутку стало тихо.
В этой тишине слышен был лишь стук колес по мостовой. Через Крещатик из Липок катили экипажи. Множество экипажей. С людьми и вещами – чемоданами, корзинками, баулами.
Впрочем, движение экипажей в этот момент шло по всем улицам Киева и во всех направлениях. Кареты, коляски, фаэтоны, дрожки, брички, линейки, возы и повозки тарахтели в Липках, на Караваевской, Владимирской, Подвальной, Рейтерской. Спускались на Подол или к Цепному мосту, спешили к Святошину. Потом выбирались ни шоссе и дороги: на Вышгород и Межигорье, на Пущу и Ирпень, ни Борщаговку и Брусилов, на Боярку и Васильков, на Кончу и Триполье. Все виды киевского гужевого транспорта вдруг поднялись с места и двинулись… То киевская буржуазия – купцы и коммерсанты, фабриканты и банкиры, то киевская аристократия – князья и графы, дворяне и действительные статские советники, то колонии иностранцев – консулы и коммивояжеры, директора фирм и служащие торговых палат, – все вдруг, посреди зимы, ринулись на дачи. Подальше от большевиков! Может быть, миновав дачи, удастся проскочить на открытый путь – к морю и к границам? А может быть, отсидевшись некоторое время в летних домиках, удастся и… переждать большевистскую напасть вообще? Немыслимо же, чтоб большевики так и остались, чтоб на такое безобразие не обратил внимания и не вмешался… цивилизованный мир? Может быть, Антанта, может быть, немцы и австрийцы? Может быть, те и другие вместе, исполу? А может быть, и сами Соединенные Штаты Америки? Ведь мистер Дженкинс, представитель Соединенных Штатов, здесь! Где Дженкинс? Вы не видели мистера Дженкинса? Вчера еще обедал у Роотса – ведь ресторан Роотса не бастует. Дженкинс покупает фабрики, покупает заводы, даже замороженные, обремененные закладными! Не по высокой, понятно, цене, однако же – доллары! Вы слышали, мистер Дженкинс покупает, кажется, даже Исторический музей? И вообще – скупает всякую старину! И железные дороги! Не для большевиков же он хлопочет! Для кого–то…
– Задержать? – кивнул Полупанов на ландо банкира Доброго.
Коцюбинский махнул рукой.
– Если сами уедут – туда им и дорога. Вот только… – он улыбнулся, – не знаю куда? А банки и ценности… Чудновский! Ты уж позаботься, чтоб возле банков и всех соответствующих мест была поставлена надежная охрана.
Вшестером они двинулись дальше по Крещатику. Они проедут по центральным магистралям столицы – на вокзал, затем по местам ожесточенных боев вдоль территории железной дороги и вернутся на Печерск.
На вокзале их ожидает радостная встреча: по харьковской линии из–под Гребенки должен прибыть поезд с правительством Украинской Советской Республики: народные секретари, во главе с Евгенией Бош, члены Центрального Исполнительного Комитета. Правда, не все доедут до Киева: Тарногродский еще в Дарнице увидит воинский эшелон, который раньше правительственного поезда пройдет Киев и направится к Жмеринке. Тарногродский сразу пересядет в эшелон, чтоб попасть как можно скорее в родную Винницу: ведь он снова, заочно, избран председателем Винницкого совета.
С вокзала будет дана и телеграмма Совету Народных Комиссаров в Петроград:
«Кровь украинских и русских рабочих и крестьян, пролитая во имя рабочей революции на Украине, навеки освятила братский союз между трудящимися массами Великороссии и Украины».
Кровь…
Они ехали улицами растерзанного Киева, и лошади под ними то и дело настораживали уши, храпели и шарахались в сторону. На мостовой там и тут темнели рыжие пятна.
Кровь. Кровь бойцов за революцию, за власть Советов, за освобождение Украины…
На Печерске их ждет скорбная минута…
Коцюбинский ехал рядом с Муравьевым, и они беседовали.
Собственно, говорил один Юрий – страстно, горячо.
– Поймите, Муравьев, – убеждал Юрий, – ваш нигилизм, хуже – ваше пренебрежение к национальному вопросу, еще хуже – враждебность – нам просто смешны, хотя и… отвратительны! Я, разумеется, не собираюсь обращать вас в нашу большевистскую веру, но ведь вы – интеллигент, русский интеллигент, а известно, с какой благородной нетерпимостью передовая русская интеллигенция всегда относилась к любым гнусным проявлениям антисемитизма, украинофобства, мусульманоедства – всяческого человеконенавистничества, расовой или национальной нетерпимости. Откуда это у вас? Вы же заявляете, что вы – социалист!
Муравьев улыбался уголком тонких сухих губ:
– Коцюбинский! Вы витаете в эмпиреях и… отстали от жизни. Второй Интернационал, как известно, был социалистическим. Однако, как только началась между государствами война, он, как вам, должно быть, известно, распался, и социалисты разных стран как миленькие пошли агитировать за войну против других наций, во имя интересов своих государств: француз резал немца, немец – русского, ну и русские, тоже не отставали в этой резне…
– Но мы, большевики, – горячо воскликнул Коцюбинский, – отметаем социал–шовинистский Второй Интернационал, как предательский! И мы создаем Третий Коммунистический Интернационал! Раз вы пошли с нами, большевиками, пускай и не разделяя нашей социальной программы, однако же – против контрреволюции, то должны… – Юрий сдержался и заговорил спокойнее, речь его даже начала звучать несколько мечтательно: образ Ленина возник перед его внутренним взором, и слова Ленина звучали у него в ушах. – Поймите, Муравьев: мы, большевики, сделаем каждый народ бывшей Российский колониальной империи свободной и равноправной нацией. Чтобы это была нация со своей высокоразвитой национальной культурой, со своей, стоящей на высоком уровне экономикой и общими для всех наций, заботливо взлелеянными, социалистическими взаимоотношениями между людьми – в быту и на производстве. Мы объединим все освобожденные социалистической революцией народы в одно социалистическое государство, построенное на принципах интернационализма, взаимоуважения и взаимопомощи народов, сотрудничества и солидарности. Этим мы и победим, Муравьев! Этим поведем за собой и все другие народы мира – к последней, всемирной победе социализма. К коммунизму, Муравьев… И горе тому, кто не пойдет этим путем. Особенно горько придется тому, кто в нашей революционной борьбе за свободу народов видел для себя нечто иное, другую цель, и только потому пошел с нами, большевиками, до времени в одном русле…
– Послушайте, юноша, – довольно миролюбиво, однако кривя губы, прервал Муравьев, – бросьте вы эти… бабушкины сказки для учеников приготовительного класса и экзальтированных барышень. А ваши угрозы…
Это был последний разговор между Коцюбинским и Муравьевым, последняя, вряд ли целесообразная и нужная, попытка повлиять на сознание, на психику этого наркомана–истерика и отщепенца–шовиниста, да, наконец, просто авантюриста. И разговор этот был внезапно прерван: со стороны Прорезной вдруг послышались выстрелы. Залп из винтовок, а за ним еще несколько отдельных: пистолетных.
Что там? Что такое? Коцюбинский пришпорил коня.
Четыре всадника и пролетка с Ивановым и Боженко рванулись с Крещатика за угол Прорезной.
На крутом спуске улицы, у поворота на Пушкинскую, они увидели группу солдат – те как раз перезаряжали винтовки, посылая свежий патрон в магазин. Напротив, под стеной спортивного магазина «Орт», на тротуаре лежало несколько мертвых тел в военной и штатской одежде. Эти люди были только что убиты – кровь стекала еще на желтые кирпичи тротуара. Молодчик в элегантной гусарке и заломленной набекрень папахе засовывал в кобуру пистолет. Это он – после залпа расстрела – добивал из пистолета еще живых. Группа людей – в штатском и в военной форме – понуро стояла в стороне, окруженная бойцами с винтовками на руку. Эти люди, совершенно очевидно, ожидали для себя той же участи, что постигла уже плававших в собственной крови на желтых кирпичах.
Коцюбинский подскакал первым.
– Стой! – закричал он. – Отставить! Что такое? В чем дело? Я Коцюбинский!.. Кто стрелял? Кто приказал стрелять?
Молодчик в гусарском доломане и папахе набекрень уже засунул пистолет в кобуру и вразвалочку, однако с грацией – он был пьян, но при этом пшют – приблизился к Коцюбинскому. Это оказался Шаров, адъютант и правая рука Муравьева.
Муравьев, Полупанов, Чудновский тоже подскакали. Подъехала и пролетка с Ивановым и Боженко.
Шаров сделал вид, что вытянулся – как это умеют делать только гвардейские офицеры: и стал «смирно» и не стал, – элегантным движением подкинул два пальца к папахе:
– Я приказал, товарищ командующий. Согласно приказу главкома Муравьева – о борьбе с контрреволюцией…
– Что же они сделали?
– У них на руках свидетельства разных там… старорежимных, а также украинских учреждений… кто его знает, каких именно, не разберешь – написано на их, петлюровском, языке…
Круги пошли перед глазами Коцюбинского – очевидно, он был в эту минуту в таком состоянии, когда человек не отвечает за себя. Он выхватил пистолет из кобуры и выстрелил Шарову прямо в лоб.
– Бандит! – еще, кажется, крикнул он.
Ферт в гусарском доломане завалился навзничь – на трупы только что добитых его рукой неизвестных людей.
– Проклятье! – завопил Муравьев и тоже схватился за кобуру.
Коцюбинский сидел перед ним на коне – вытянувшийся, прямой, бледный: еще никогда Юрий не был так бледен. Голубые его глаза стали черными.
– Негодяй! – задыхаясь, сказал Коцюбинский. – Можете считать, что я стрелял в вас, а не в вашего… бандита. И жалею, что не убил вас сейчас… Нас с вами, командующих, должен судить суд нашего правительства!
Рука Муравьева дрожала, но пистолет был уже вынут, и он медленно подымал его.
– Отдайте ваш пистолет товарищам! – приказал Коцюбинский.
Рука Муравьева помедлила, глаза хищно забегали: он был один, против него – несколько. Солдаты с винтовками – дисциплинированные исполнители злодейского приказа его опричника – сокрушенно смотрели себе под ноги.
Муравьев протянул пистолет, не глядя, назад. Чудновский взял и спрятал его себе в карман.
Но Муравьев вдруг заверещал:
– Вы за это ответите! Я вас… Мы вам…
– Отвечу. Не вам.
– Я буду жаловаться!
– И я.
Муравьева уже била истерика. Лицо его дергала судорога, тело корчило.
– И вообще… – визжал Муравьев, – я здесь не останусь!.. Я отказываюсь с вами!.. Я попрошусь на другой фронт!..
Коцюбинский пожал плечами и натянул повод. Конь поднялся на дыбы и сошел с тротуара на мостовую. Боженко зло бросил Муравьеву:
– На фронт к контре тебе дорога!.. Зараза!
Коцюбинский, все еще бледный, все еще напряженно вытянутый, приказал солдатам:
– Задержанных – в комендатуру!.. Чудновский, – добавил он, – одолевая волнение, – ты разберешься? Если среди задержанных есть националистические главари – под суд. Если просто служащие, даже и военнослужащие – конечно, отпустишь…
Муравьев тоже вдруг вздыбил коня, сделал большой скачок – ездок он был бравый – и карьером поскакал к Крещатику. Все смотрели ему вслед.
– Глядите, – сказал Иванов, – чтоб он не поскакал к своим подначальным и не пустил там какой–нибудь провокации: мол, наших бьют! Чтоб не наделал беды. Этого от него… можно ожидать!
– Полупанов! – сказал Коцюбинский. – Это – твой начальник. Присмотри!
Полупанов повел плечом, поправил бескозырку на лбу:
– Можете быть спокойны. Моим братанам он уже въелся в печенку. Приглядим!.. Да только, – добавил еще матрос, – никакого шелеста он и не поднимет: он против овец – молодец, а против молодца – сам овца: трус… Хлестать спирт подался, а не то нюхать марафет…
Дальше по улицам растерзанной освобожденной столицы – до вокзала, а потом на Печерск – они ехали уже только впятером.
Киев не пел в тот день. Киев – стонал. Люди выбирались из подвалов, где прятались от стрельбы и пожарищ. Люди были худые и подавленные: десять дней почти без пищи и воды. И сразу же начинали куда–то торопиться: разыскивать своих, расспрашивать о близких – кто где, кого куда занесло, кто жив, а кто – нет… Киев был первым городом в стране, испытавшим такие жесткие бои и вступившим в гражданскую войну в пламени пожаров и реках крови.
А по Печерску – из «Арсенала», из казарм понтонеров, из авиапарка, с гауптвахты, с улиц Никольской, Московской, Рыбальской, с Набережной – шли процессии с гробами. К Мариинскому парку.
Против царского дворца была вырыта широкая и глубокая траншея – будто котлован под огромное здание. Семьсот пятьдесят гробов опустили в эту могилу. Братскую могилу бойцов за революцию.
Арсенальцы, авиапарковцы, печерские, подольские, демиевские, шулявские и вовсе не киевляне – все те, кто стоял на Печерске насмерть, кто пробился сюда на помощь восставшим из других районов города…
Но и улицами других районов тянулись обозы гробов. На Байково кладбище, на Лукьяновское, на Зверинецкое, на Щелкавицкое, на погосты всех церквей и монастырей.
Бойцы Подола и Куреневки, бойцы Шулявки, бойцы Соломенки, бойцы Демиевки. Те, которые полегли с оружием в руках за Октябрь, за власть Советов в Киеве и на Украине – против националистической контрреволюции.
Но могилки в тот день вырастали не только на кладбищах – они выросли просто возле домов во дворах, в садиках под вишней или яблоней, на перекрестках улиц. На Куреневке и Приорке, на Сырце и под Пущею, в Святошине и за Кадетской рощей, на Слободках и Трухановом острове… Это были могилки известных и неизвестных бойцов: одни погребали родного человека поближе к себе, другие предавали земле прах неведомого бойца, что сложил голову, защищая их дом.
Две тысячи человек опустил в тот день Киев – в киевскую землю.
Могила в Мариинском парке, на круче над Днепром – чтоб было видно, было слышно, как ревет могучий, – росла и росла… И над нею Киев запел.
Пели четыре песни – подряд, одну за другой; «Вы жертвою пали», «Реве та стогне Дніпр широкий», «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте», «Интернационал».
Киев в тот день горько плакал.
Потому что радовался своему освобождению, а погибших бойцов с ним уже не было.
Киевлянин!
Ты живешь в Киеве – в прекрасном, чарующем городе. Помни, что каждая пядь земли здесь полита кровью твоих отцов.
Ты проживаешь на Печерске – больше, чем воды в Днепре, отдано здесь рабочей крови. За Октябрьскую социалистическую революцию.
Ты житель Демиевки – здесь кровью героев окроплены каждая улица и каждый дом. За волю народа.
Ты работаешь на Подоле – каждый завод и фабрика там были крепостью, и на стенах этой крепости кровь воинов. За счастье трудящихся.
Ты идешь центром города – Крещатиком, улицей Ленина, бульваром Шевченко, Владимирской, – здесь с каждого камня мостовой лишь дожди, снега и ветры – время – смыли кровь борцов.
Ты строишь коммунизм, а они отдали жизнь за то, чтобы ты мог его построить. За твою жизнь и твое счастье. Наши первые коммунары.
Киевлянин! Не забывай этого! И пусть никогда, ни дети, ни внуки твои не забудут.
Киев
1960








