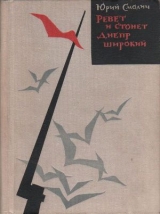
Текст книги "Ревет и стонет Днепр широкий"
Автор книги: Юрий Смолич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 56 (всего у книги 62 страниц)
Боже, как тоскливо и горько жить на свете! Может, правда, пускай лучше убьют?
– Рамка двести!
Матросы шли.
И вдруг в матросской шеренге затрещали пулеметы. Они шли и волокли пулеметы по снежному насту за собой. Теперь они повернули их и ударили по окопу.
И сразу там и тут послышались крики и стоны. Прицел матросы установили еще загодя.
– Не хочу, не хочу! – крикнул Флегонт.
Но за треском своих пулеметов, пулеметов матросской цепи, за грохотом винтовок и всеобщим ревом Флегонт и сам себя не услышал.
Уже никто не скомандовал: «Рамка сто», хотя до матросской волны теперь было не больше ста шагов. Матросы шли и кричали. Что они кричали? Разве услышишь? И какое это имеет значение!.. Ведь сейчас – умирать. О господи, как тяжело умирать, когда не знаешь, за что! Нет, нет! Знаешь!.. Не знаешь – за что, но знаешь, что не за то…
Реалист слева бросил винтовку и кинулся из окопа назад – бежать. Он пробежал, проваливаясь в снег, шага три и упал: пуля догнала его. Гимназист справа тоже бросился назад. Ему удалось пробежать шагов десять.
Матросы шли и кричали «ура». Кое–кто из них тоже падал и не вставал.
В окопе несколько голосов крикнули «слава!».
Кажется, Флегонт не думал в эту минуту ни о Лии, ни о Марине. И вообще – ни о чем. Он только смотрел. На победителей, которые идут. И на побежденных, которые лежат или собираются бежать. Но видел он – себя. Проклятье! Вот так бы и он шел… победителем. Почему он не идет?.. Сказал Петлюра…
Да, да! Такая мысль у него была – может быть, это была последняя мысль: перебежать? Повернуть винтовку и стрелять – туда, назад?
Мысли о том, чтобы поднять руки и сдаться, не было: возможно, он просто не догадался.
Матросы вдруг начали падать в снег и замахиваться. Они что–то бросали. Ах, гранаты! Один за другим – несколько, много – взрывы взметнулись вдоль окопов защитников Крут, а некоторые и в самих окопах…
И сразу же матросы побежали. Глубоко увязая в снегу, но широкими прыжками. Винтовки они держали на руку – они шли врукопашную, в штыки.
Но Флегонт уже не дождался той минуты, когда матросская цепь кинулась в окоп, чтоб обагрить свои штыки кровью.
Он упал лицом в снег. Снег был сверху пушистый, только что выпавший, а под ним – твердая корочка наста. Лица Флегонта продавило корочку и ушло глубже – в давний, слежавшийся, ноздреватый, плотный – фирновый, как написано в учебнике географии Иванова, снег. В этом, нижнем, слое снега были уже проталинки, отдушины у самой земли. Может быть, то продышало себе ход к солнцу какое–нибудь раннее растеньице – луковка подснежника, например…
Цепь матросов с криком «ура» прошла со штыками через окоп и покатилась дальше – за теми, кто еще пытался убежать.
Но таких уже оставалось мало…
Сзади, за катившейся победоносной лавиной матросов и красногвардейцев, шли еще люди: тоже матросы, красногвардейцы – рабочие в кожаных куртках, солдаты в шинелях, крестьяне в кожухах и сермягах. Это были, по большей части, легкораненые, которые бежать с цепью уже не могли, но и оставить свою цепь не желали.
Совсем позади – держа винтовку, точно вилы, перед собой – плелся и вовсе уже пожилой дядька в кожухе. Он сокрушенно качал головой и скорбно поглядывал вокруг: на трупы, на красную кровь на снегу. Через трупы он не переступал, а осторожно обходил каждый.
То был Авксентий Нечипорук. До Ленина, в Петроград, он не добрался. Поезда не шли. Вьюги. Мороз. Он пристал к эшелонам, что из Брянска с матросами и красногвардейцами направлялись на Украину. Пристал не потому, что потерял веру или ослаб и хотел поскорее вернуться домой. Нет, за правдой к Ленину идти было еще далеко, а матросы сказали ему, что уже везут ленинскую правду с собой.
И Авксентий пошел с ними.
4
Горовиц и Иванов прощались у дренажной штольни.
Другого выхода нет – надо идти!
Оба были без оружия, и вид приняли по возможности «посторонний», чтоб хотя бы на первый взгляд не показаться повстанцами: Иванов надел свою полуофицерского покроя бекешу, Горовиц очистил от грязи и крови студенческую шинель и фуражку. Но руку не скроешь – рука была на перевязи и сквозь марлю проступала кровь: вчера Сашу ранило в бою.
– Послушай, – сказал Горовиц, – а может быть, я все–таки возьму винтовку? – Он протянул руку к карабину, прислоненному к срубу колодца.
– Нет, нет! – сказал Иванов. – Только накличешь беду: сразу расстреляют. Да и зачем? Если уж нарвешься на кого–нибудь, все равно одному ничего не сделать… А так, безоружному, может быть, удастся проскочить…
Иванов сказал это не совсем уверенно. Проскочить от лавры на Подол, когда Набережная кишит гайдамаками и «вильными козаками», – как тут рассчитывать на… удачу?.. Но идти надо все едино. Другого выхода нет. Надо было идти: кручами через кустарник – до Аскольдовой или под самым берегом по льду…
Горовиц с сожалением поставил карабин обратно.
И тут же снова схватил:
– Нет, я все–таки возьму!
Иванов молча взял винтовку из рук Горовица и поставил на место.
Вчера и даже еще сегодня утром все было как будто хорошо. Железнодорожники творили действительно героические дела: завладели товарной станцией, захватили пассажирский вокзал, держали в руках Киев–второй; а группа Ветрова врезалась уже в центр города: улицы Жилянская, Мариино–Благовещенская, Дмитриевская, Галицкий базар, даже часть Бибиковского бульвара, до Ботанического сада – все это было уже во власти восставших. Демиевцы соединились с Боженко и по Васильковской подходили к Крещатику, а через территорию выставки дошли почти до Собачьей тропы. Гайдамаков и «вильных козаков» прижали к самым днепровским кручам – в Мариинском и Купеческом садах… Подольские тоже не отставали: вернули позиции первого дня и снова вышли к Богдану Хмельницкому и на Глубочицу. Центральная рада оказалась почти окруженной. Открытым оставался разве что путь на Лукьяновку и Сырец… Но и там шулявцы с Довнар–Запольским и Горбачевым отбили Политехникум, установили на его крыше пулеметы и держали Сырецкое поле под огнем, разворачивая одновременно боевые действия и в направлении к Посту Волынскому. Они – с одной стороны, Симпсон с соломенцами – с другой парализовали резервы Центральной рады в Кадетской роще… Словом, контрудар восставших дал прекрасные результаты. Даже осажденные, вконец измученные четырехдневным боем арсенальцы тоже удачно провели наступательную операцию: взяли Московскую и Никольскую. Победа клонилась, безусловно, на сторону восставших: за несколькими сотнями, поднявшимися в первый день, уже шли тысячи – много тысяч – рабочих, пригородных крестьян, студентов, даже школьников, мещан…
Потому–то и выкинули белый флаг войска Центральной рады. Они не капитулировали – нет, они не складывали оружия; они предлагали окруженному «Арсеналу» перемирие и переговоры.
«Арсенал» согласился. Делегаты арсенальского ревкома и сейчас сидят в Мариинском дворце: ведут переговоры и поджидают делегацию националистов, которая то и дело – по каждому пункту требований восставших – бегает советоваться в Центральную раду. Возможно, к утру и будет достигнуто какое–нибудь соглашение. Впрочем, навряд ли… Ведь восставшие требуют немалого: не только снять осаду «Арсенала», но и прекратить боевые действия в городе – признать победу рабочих.
Ревком «Арсенала» наперед знал, что Центральная рада на это не пойдет. Но ревком хотел использовать перемирие, чтоб выиграть время: войска Коцюбинского уже соединились с северной группой русских красногвардейцев и двигались от Нежина и Гребенки на Борисполь и Бровары. А Второй гвардейский корпус хотя и не овладел еще Винницей, однако передовые ударные группы левого фланга гвардейцев выходили уже и за Калиновку и под Казатин, даже под Фастов. Скорее бы гвардейцы! Нажим гвардейцев на тыл Центральной рады обеспечил бы победу восстания!..
Но…
Красное зарево стояло над левым берегом Днепра, и даже лед, которым лютые морозы сковали течение могучей реки, рдел и точно переливался – где огненно–желтым, где тускло–фиолетовым, а у Броварских лесов и ближе, на Слободках, взлетало к небу яркое пламя. Горели Слободки и Русановка, горела Дарница, горело под Княжичами. Пожары подступали уже к Выгуровщине и Бортничам. В Броварских лесах ухали орудия и прокатывалась пулеметная стрельба.
Петлюра оставил фронт и со своими «черными гайдамаками» спешил на помощь Центральной раде в Киев. В Броварах продвижение Петлюры попробовал задержать его же, Петлюры, Наливайковский полк, присоединившийся к восставшим: ревком «Арсенала» специально выслал туда товарищей, чтоб открыть глаза обманутым казакам. Но «черные гайдамаки» ринулись на наливайковцев вдесятеро превосходящими силами: арсенальских посланцев убили – допрашивал их лично, собственной персоной, Петлюра, а полк… через одного расстреляли из пулеметов.
Теперь «черные гайдамаки» всё предавали огню: здесь под Киевом, в окрестных селах, зародился и отсюда черпал новые силы киевский пролетариат, а сейчас здесь ютились семьи киевских рабочих, умиравших на баррикадах. Гайдамаки прошли огнем и мечом Дарницу, вышли к Слободкам и штурмовали мосты: лед разбило разрывами снарядов четырехдневного артиллерийского боя – по льду перебраться в город было невозможно.
Авиапарковцы защищали мосты.
Но надолго ли хватит живой силы у героических авиапарковцев?..
Иванов и Горовиц прощались у дренажной штольни под Никольским монастырем. Ревком «Арсенала» решил отправить своих посланцев за помощью. Горовиц вызвался идти на Подол: он, уполномоченный правительства по организации восстания, должен согласовать действия арсенальцев и подолян. Иванову предстоял более далекий путь: пробиться по железной дороге на запад, ко Второму гвардейскому.
Странно, но сейчас – когда во всем городе кипел бой, зарева пожаров вздымались над предместьями, разъяренный враг рвался из–за реки, а они, двое, может быть, уже никогда не увидят друг друга, – они двое, здесь, в минуту временного затишья продолжали спорить, словно на одном из вечных диспутов в клубе на Собачьей тропе.
Иванов говорил:
– Пойми, Саша: мы действовали верно, но в то же время и неверно. Все силы киевской партийной организации мы бросили на то, чтоб поднять массы на борьбу за Советы. Это – верно! Так и надо было делать. Когда речь шла о национальном освобождении, то мы – справедливо веря, что национальный вопрос может быть разрешен только властью пролетариата и проведен в жизнь только социалистической революцией, – мы еще усиливали нашу борьбу за власть Советов. И опять это было верно!.. Но вместе с тем вообще все национальное движение мы как–то исключили из сферы нашего внимания, хуже – мы просто пренебрегали им, ибо оно, мол, от… буржуазной Центральной рады. Вот это и было неверно! Потому что это движение распространялось шире и шире – и под эгидой Центральной рады и вне ее, как историческая закономерность, – а националисты из Центральной рады подбирали, подхватывали, присваивали и… возглавляли его. Вот что самое неверное, вот где наша непростительная ошибка! Потому что фактически вышло так, что мы как бы сами отказались от борьбы за национальное освобождение и Центральная рада сумела хитро использовать это против нас. Ей удалось увлечь за собой не только мелкую буржуазию, но и крупную, она апеллировала к интеллигенции, а вслед за кулаком она захватила кое–где и несознательную еще, классово не дифференцированную трудовую крестьянскую массу, демагогически используя наши же, социалистические лозунги…
Саша Горовиц уже давно порывался что–то возразить, собственно – не возразить, а, наоборот – согласиться, но острие горькой, неумолимой критики направить на себя: на свои неверные позиции когда, осознав уже ошибку, о которой говорил Иванов, и, желая выправить ее, впал в другую крайность – стал искать компромисса с Центральной радой. Но после каждой новой фразы Иванова ему и возражать и соглашаться надо было иначе – начинал об одном, а уже отвечать надо было на другое. Наконец, при последних словах Иванова, Саша все–таки перебил его.
– Но ведь, – воскликнул Саша, – у тех, что пошли было за Центральной радой, тоже уже начинают открываться глаза! Еще в июле поднялись полуботьковцы, потом и среди богдановцев вспыхнул бунт! А в октябрьские дни с нами была и часть богдановцев, и часть шевченковцев. A теперь пришел курень сагайдачников, отдельные группки из других полков… Восстали даже наливайковцы. А по селам… по селам Киевщины и всей Подолии…
– Верно! – сказал Иванов. – Это, Саша верно. – И это прекрасно!.. Но сколько еще идет за ними! У них еще армия. А в селах…
Горовиц опять перебил:
– Неужели ты думаешь, что полтысячи мальчиков, погибших вчера под Крутами… Их погибло пятьсот, но прозрело пятьсот тысяч, может быть, пять миллионов… – Саша остановился: ему больно было вспоминать о пяти сотнях юношей, погибших во вражеских рядах. Ведь среди них в студенческом батальоне сложили головы и его однокашники, приятели, из одного с ним, киевского, землячества, вместе ведь сдавали статистику Воблому, вместе бушевали на заседаниях старостата, юность прожили вместе…
Иванов воспользовался тем, что Горовиц примолк, и решительно прервал разговор:
– Мы заболтались, Саша! А надо идти. Уже стемнело – можно попытаться…
И в самом деле, небо уже потемнело – от зарева на горизонте оно казалось особенно черным в зените, и мрак здесь, на правом берегу, в темном, неосвещенном городе, стал оттого особенно густым. Даже снега не белели: казались где рыжими, где синими.
– Прощай, Саша, – сказал Иванов просто, словно прощались они только до утра, чтобы завтра начать новый день труда и борьбы. – Будь здоров! И… выполним каждый, что нам поручено. Я пошел…
– Будь здоров, Андрей!
Они крепко пожали друг другу руки.
Иванов сразу пошел – свернул направо, к лавре: Цитаделью, потом ниже линии бастионов, Саперным полем он выйдет к железной дороге, затем – к Посту Волынскому и на Фастов. А там – Второй гвардейский! И с гвардейцами возможно скорее назад, сюда.
Горовиц смотрел Иванову вслед. Неясный силуэт Иванова минутку еще маячил на снегах Провала, потом растаял под стенами лавры.
Саша перекинул ногу через сруб, в штольню дренажного колодца; подземным ходом он выйдет на Набережную. А там – если повезет – пробьется и на Подол.
Но Саша еще вернулся, взял все–таки карабин, закинул его за спину и тогда уже нырнул в черный зев подземелья.
Он пробирался по тесному штреку, согнувшись в три погибели, электрический фонарик скупо освещал путь, не более чем на пять–шесть шагов; в подземном лазе было тепло – куда теплее, чем наверху в эту морозную ночь; даже душно и сыро, стены сочились влагой. Саша продвигался вперед, и в голову ему лезла всякая чепуха. Например: отсюда рукой подать до «ближних пещер» – и там за кладкой, за тонким слоем глины и песка покоятся мощи лаврских «святых», а патлатые монахи – тоже с электрическими фонариками, а не с восковыми свечечками, как днем при богомольцах, – топчутся с бутылями лампадного масла, «святым миром»: заливают «миро» – в черепа «святых», чтоб завтра днем, на глазах у обалдевших и потрясенных богомольцев, из глаз «святителей» текли «исцеляющие слезы». А где–нибудь подальше, в соседней пещере, в это время стучит печатный станок – и те же благочестивые монахи… печатают листовки против восстания. Саша бродил по лаврским пещерам еще гимназистом, а подземную лаврскую погромную типографию он – уже как член Исполкома Совета рабочих депутатов – опечатывал в июльские дни. Конечно, у монахов была не одна такая типография, а может быть, еще и подземные склады оружия… Когда же конец этому проклятому штреку? Саша уже задыхался от недостатка воздуха и был весь в поту от жары…
Но шаги Саша внимательно отсчитывал. Дренажники дали точный счет: тысяча шагов – и выход.
Девятьсот… девятьсот пятьдесят…
Фу!.. У Саши уже кружилась голова. Фонарик он на всякий случай погасил и теперь двигался в темноте на ощупь…
Непременно, непременно Саша пробьется на Подол, свяжется с подольскими, потребует, чтобы они сконцентрировали все свои силы для удара в этом направлении – на Печерск, на соединение с «Арсеналом», и тогда все вместе они устоят и против войск, наступающих из центра, и против Петлюры с «черными гайдамаками» – из–за Днепра…
Девятьсот девяносто… Тысяча.
И верно, впереди точно посветлело, забрезжило. Снег! Саша увидел снег – у выхода из штольни возле водокачки! И мелькали на снегу отблески зарева заднепровских пожаров…
А в это время, воспользовавшись темнотой, наконец окутавшей подступы к «Арсеналу», переулками и дворами, прилегающими к его стенам с запада, – потихоньку продвигались Иван Брыль и Максим Колиберда.
Иван Антонович и Максим Родионович все–таки решили идти в «Арсенал».
Там ведь были свои: все арсенальцы – как на работе. Что ж это получается – все там, а они снова отдельно? Нет, они должны быть со всеми!
Собственно, старики не обсуждали между собой этого вопроса. Они только поглядывали друг на друга хмуро, даже сердито, и молчали. Но за четверть века побратимства они отлично научились понимать друг друга и без слов. Они молча встали, молча взяли шапки, молча и пошли.
И брели теперь тоже молча. Только все посматривали друг на друга. Впотьмах они не видели этих взглядов, но знали, что поглядывают и – как именно: сердито, гневно.
К тому ж у Ивана с Максимом, старых родителей, было в «Арсенале» еще и дело к их непутевому сыну, Даниле, Данилке, Даньку: маленькая Тося благополучно разрешилась от бремени! И явился на свет сын. Надо ж было сообщить такую радостную новость! Правда, сперва было возник спор: как назвать новорожденного? Ивану хотелось бы – Иван, но из вежливости он, само собой, предложил назвать Максимом. Максиму до смерти хотелось – Максим, но он тоже, само собой, предложил назвать Иваном. В конце концов порешили: пускай будет Данько, Данилка, Данила – в честь молодого отца. Непутевый, известно, архаровец, а все–таки… героически воюет сейчас за дело рабочего класса. Можно сделать уступку…
Иван с Максимом пробирались украдкой. За спиной у них были мешки – собрали все, что удалось наскрести в чуланах у Брылей и Колиберды: немного пшена, немного картошки, десяток луковиц. Особо – специально для Данилки – мамы передали хвост селедки и окаменелый бублик: приберегли еще от рождества. От Тоси несли слова: возвращайся живой, Данилка, муж!.. И в лоскутке – пучок волосенок. С маковки младенчика. Родился с чубчиком. Казак!.. Пускай молодой отец подержит меж пальцев, поглядит – будет знать, что сын у него есть. Все ж таки в бою, не ровен час…
А Саша Горовиц наконец выбрался на поверхность.
Вокруг лежали снега… Напротив, за Днепром, подымалось зарево. Багряное и злое. Он вдохнул – глубоко, свободно – морозный, даже колкий воздух и едва не задохнулся: закружилась голова.
Карабин был за спиной.
Кустами Саша пополз вниз, к тропинке, ведущей на Набережную.
Старался как можно тише, но морозный снег все–таки поскрипывал, шуршал, хрустел под ногами.
И вдруг раздалось из–за кустов:
– Кто? Эй! Стой!
Другой голос откликнулся лениво, равнодушно:
– Да брось… Пускай… Пробирается кто–то… домой… Сотни их тут вот так пробираются… Пускай идет…
Теперь Саша уже видел людей. Два поближе, сразу за кустами. Немного дальше – еще кучка. Патруль! Они приглядывались к фигуре, вдруг вынырнувшей из снегов, из зарослей Провала. Сотни киевлян вот так пробирались сейчас из одного района города в другой: домой, или из дому, или еще по кому–нибудь неотложному делу. Патрули пропускали их. Возможно, пропустили бы и Сашу.
Но тот же голос, что Саша услышал первым, вдруг крикнул:
– Эге! Да он с винтовкой!.. Тревога!
И сразу в морозной тишине защелкали затворы.
Саша сорвал карабин с плеча. Раненая рука заболела от резкого движения.
– Стой! Руки вверх!
Саша щелкнул предохранителем и выстрелил первый.
Но уже гремели выстрелы – пять, десять, двадцать.
Неужели не пробьюсь?! Надо же, надо!.. Во что бы то ни стало – надо! Связь… чтоб вместе… чтоб победить…
Неизвестно сколько пуль впилось в Сашину грудь, голову, ноги.
Саша упал.
А они уже налетели. Штыки вонзились в Сашино – верно, уже неживое – тело. Лезвия шашек полоснули по плечам и голове – уже мертвого…
5
Двухколейная линия впереди – это был единственный путь на Киев… Пойти кружным путем, левым флангом – через Хмельник, на Бердичев и Житомир – вдвое дальше и в десять раз дольше: брести по зимнему снежному бездорожью с артиллерией, зарядными ящиками, обозом… Зайти с правого фланга – на Турбов, Погребище, к Белой Церкви – путь вдвое короче, но как раз тут, от Житомира и до самой Сквиры, пересекая железную дорогу на Киев, отрезая и подступы к Белой Церкви, стоял корпус заслона генерала Скоропадского: семьдесят тысяч штыков, бронепоезда на линии, каждое местечко – артиллерийский форт, в каждом поселке – пулеметные заставы.
Нет, идти на Киев можно только по железной дороге. В лоб! Мечом рассечь корпус надвое. И прорваться!.. Пускай сомкнутся сзади: придется тогда идти с боями вперед, а сзади тоже отбиваться.
За три года мировой войны такого на фронте не случалось. Но ведь теперь война гражданская, и фронт был повсюду.
В конце концов, Второй гвардейский тоже имел шестьдесят тысяч штыков – против семидесяти.
Но семьдесят тысяч заслона националистов стояли, вытянувшись сплошным фронтом, а шестьдесят тысяч наступающих – полками, батальонами, даже ротами – растеклись по всей Подолии: от речки Мурафы до верхнего течения Буга. Ведь это же они, гвардейцы Второго, стали оплотом борьбы за власть Советов на Подолии – создали между линией фронта и Киевом советский плацдарм. Они оказали немалую услугу делу победы революции на Украине, но как раз в этом и был сейчас источник трудностей: в ударном кулаке оставался разве что один Кексгольмский полк, ну, еще отдельные группы волынцев, артдивизион, конная разведка, подрывники… Пять–шесть тысяч от силы…
А депеши из Киева приходили одна за другой:
«Без вас не можем начать восстания… Не можем не начать восстания – ждем помощи… Восстание началось – перевес на стороне врага: поспешите!.. Держимся из последних сил… Не удержаться…»
Корпусный комитет решил: идти!
Жалким по сравнению с силами заслона «кулачком» пробиваться в лоб по железной дороге: Винница – Калиновка – Казатин – Попельня – Фастов. Одновременно ослаблять сопротивление противника, дезорганизуя его тылы и отрезая передовые позиции от главных сил.
Для этой цели гвардейцы решили создать ударные диверсионные группы – по двадцать – тридцать бойцов. Задача: взрывать железнодорожную линию за бронепоездами, прерывать связь или хотя бы поднимать панику…
Демьян Нечипорук вышел с первой ударной группой. Во мраке, в пургу, без дорог, по колено в снегу, по замерзшим кочкам пашни группа шла, чтобы отрезать Винницу, к ручью Десенка. За мостом – в полуверсте, ближе к Виннице – стояли бронепоезда: один, два, три. Железных громад не разглядеть, погашены и сигнальные фонари, но жар из топок бросает сквозь поддувала светлые пятна вниз, на заснеженные шпалы пути. Три мерцающих огненных пятна на насыпи – саженей двести одно от другого.
Демьян взобрался на насыпь ползком: в зубах шнур, в обеих руках «ладанки» с динамитом. Договорились так: когда взрыв раскатится эхом по долине – а в морозную ночь его услышат за десять и более верст, – группы слева и справа бросаются на полустанок за мостом. Полустанком надо завладеть или хотя бы поднять панику до самой Калиновки! А бронепоезда взять под Демьяновы пулеметы. Хорошо, если в панике удастся захватить. А нет – все равно они в эту сторону мертвы: колеи позади у них уже не будет… А тем временем «главные силы» ударят на отрезанную Винницу.
Демьян не раскапывал балласт под шпалами – земля промерзла слишком глубоко, он выгребал тесаком рыхлый гравий из–под самой рельсы. Двое помогали ему слева и справа. Потом сунули в углубление «ладанки»,
– Сматывайся! – приказал Демьян, тяжело дыша. Пар изо рта сразу оседал на борт шинели, на воротник, на усы густым игольчатым инеем.
Напарники покатились с насыпи вниз. Так катятся со снежных горок, играя, мальчишки – катышом, на боку. Через миг они уже вывалялись в снегу, как «снежные бабы»; еще миг – и живые катыши уже не распознать было в снежных сугробах сквозь пелену пурги. Но Демьян подождал еще несколько секунд: чтобы ребята успели отбежать хотя бы шагов на сорок, – шнур он нарочно отрезал короткий.
Как тихо вокруг!.. Если это можно назвать тишиной: ржут лошади у полустанка, где–то выводят песню, а у бронепоездов приглушенно сопят паровозы. Ветер сечет снегом лицо. И все ж таки – тишина. Как в крещенский вечер в родной далекой Бородянке: где–то под Дружней выводят девчата колядки, ржут лошади в конюшнях графа Шембека в экономии, а он, Демьян, – войны еще нет, он еще не солдат – поджидает за церковью: вот–вот выйдет Вивдя. И пойдут они на вечерницы воск топить, курице подсыпать меченое зерно, глядеть в зеркало да в миску с чистой водой: кому что судилось и кто кому суженый… Понесла или не понесла Вивдя… ребенка?.. Эх, и побывка у милой женушки была: пришел – и в бой, а из боя – прятаться в чулан; только часок и побыли вместе, обнявшись… А там – снова в корпус, в полк, в комитет, в бои…
Демьян поджег шнур и сразу кубарем, переворачиваясь с боку на бок, «снежной бабой» покатился с насыпи. Вскочил и, проваливаясь по колено в снег, побежал, еле вытаскивая ноги, в поле подальше: не погибать же от своей собственной руки…
Пламя взрыва взметнулось в небо, когда Демьян был уже в полусотне саженей от насыпи. Дохнуло бурей снежных вихрей, сыпануло гравием, льдинками, песком.
– Ну вот…
Демьян опять стал на ноги: оказывается, он таки свалился в снег при взрыве, – и свистнул. Свистнул в тишине. Немедленно же отозвались свистом со всех сторон: ребята были наготове.
– Пулеметы! – подал голос Демьян.
Пулеметы ударной диверсионной группы гвардейцев загремели.
Но уже стреляли и с бронепоездов и на полустанке. Мороз хватал за уши и за пальцы. Так и колол иголками.
Второй гвардейский дрался и за Винницу и за Киев одновременно.








