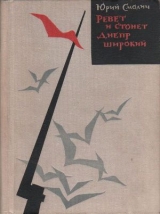
Текст книги "Ревет и стонет Днепр широкий"
Автор книги: Юрий Смолич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 62 страниц)
ИВАНОВ ШЕЛ В ЦЕПИ
1
Иванов шел в цепи – шел через брошенные юнкерами окопы, скользил на размокшей под осенней изморосью глине, проклинал темноту, так как вечер уже давно сменила темная осенняя ночь, – и каждый раз весело присвистывал, когда наклонялся, чтобы поднять брошенную винтовку. За спиной у него было уже четыре. Четыре винтовки – четыре бойца! «Инсургенты оружие добывают в бою», – вертелось у него в голове; черт его знает, кто это сказал, – кажется, Гарибальди, А кончалось это изречение так: «И именно потому они всегда побеждают…» Настоящие слова, ничего не скажешь!..
– Товарищи! – покрикивал он. – Все оружие передавай по цепи налево, в Медицинский институт: там уже выставлена охрана!
Он передал свои винтовки и стал взбираться вверх – по склону к Виноградной. Боже мой! – Перед ним была тропка, протоптанная его ногами, – по ней ходил он на работу в «Арсенал»! Протоптанную собственными ногами тропку надо брать с боем!..
Иванов поглядел наверх: не светится ли оконце за кустами барбариса? Мария всегда выставляла ночничок на окно, чтобы он не блуждал по кручам в темноте. Теплом повеяло на Иванова и сразу же ледяным холодом сжало сердце: Мария! Сколько арсенальских пуль пролетело за эти два дня как раз сюда… Андрея Васильевича обдало холодным потом, и он даже вынужден был остановиться на миг – подогнулись ноги: кровохарканье обессилило его, два дня он был в бою и уже которую ночь не спал ни минутки.
– Что там, Андрей Васильевич? Засада? – сразу подскочил к нему Харитон, щелкнув затвором винтовки. – Где? Впереди? Или в саду? – горячо шептал он. – А ну, погодите минутку, я пробегу вперед… Давай, Данила, сюда! – После взятия губернаторского дворца, они уже не отходили от Иванова.
Иванов отстранил Харитона: – Погоди, шахтарчук! Иди, брат, где шел…
И двинулся в гору быстрее – сорабмольский отряд, который заходил теперь штабу в левый фланг, едва поспевал за Ивановым.
Надо забежать к Марии!.. Нет, нельзя: цепь продвигается с боем, и он здесь – командир…
Сердце стучало у Иванова от подъема по крутой тропке и то и дело замирало от недобрых предчувствий. Взгляд тянуло наверх, налево – туда, где прямо в затянутом тучами небе должно было светиться оконце его лачуги; он даже зажмуривался на миг и тут же раскрывал глаза – может быть, после черной тьмы ярче блеснет желанный огонек?.. Нет, оконце и его доме не светилось. – А может быть, он ошибся и смотрит не туда? Может быть, его окно левее или правее?.. Ни левее, ни правее тоже не светилось ни одного огонька. В районе боя дома притихли, люди притаились. А может быть, нет в живых!.. Какая темная ночь! Такой черной ночи, казалось, еще никогда не было. Еще никогда не была такой высокой и такой трудной эта круча…
Но вот и круче пришел конец. Теперь еще двадцать шагов налево, вдоль соседского забора, и – Виноградный переулок. Еще двадцать шагов и – лаз во двор. Так забежать или нет? А как же, непременно забежать!
Стиснув зубы так, что казалось, челюсти затрещали, Иванов миновал лаз к своему дому.
Вот и угол переулка. И на углу чернеет…
– Стой! – негромко произнес Иванов. – Руки вверх!
Мгновение было совсем тихо, только Данила слева да Харитон справа дышали коротко и часто. Потом, словно из другого мира, словно из воспоминания, долетело измученное и радостное:
– Андрейка!.. Ты!
На углу переулка в темноте и одиночестве стояла Мария. И сразу же она метнулась навстречу – еще не видя, но уже чувствуя в своих объятиях, всем существом ощущая любимого, родного человека.
– Мария! – укоризненно и нежно промолвил Иванов, привлекая жену к груди. – Зачем ты вышла? Что ты тут делаешь?..
– Я ждала тебя… Я вышла тебе навстречу…
И было это так понятно и просто: муж замешкался, жена не дождалась и вышла его встречать. В темноту, в ночь, в бой, в опасность – ибо сердце полно любви и заботы, а грудь леденит тревога. Ведь ее муж был там, по ту сторону линии боевого огня, а здесь, по эту сторону, был враг: она ждала на территории врага, высматривала его сквозь бой с той стороны. Любимый должен прогнать врага и прийти сюда к ней…
– Ты не зайдешь сейчас домой?
– Конечно! Иди, серденько! Вот только закончим восстание…
– Кровь есть?..
– Нет. Хорошо. Все хорошо.
Она сунула ему что–то в карман.
– Что это?..
– Два яйца. Ломоть хлеба. Ты же, верно, не ел?
– А это?
Во второй карман опустилась какая–то склянка.
– Это лекарство, что доктор прописал. Я сбегала в аптеку. Ты же, верно, ту бутылочку прикончил?
– Ах, кальций–хлорати! Спасибо…
Он крепко обнял жену, шепнул что–то на ухо – так тихо, что и сам не услышал, услышала только она, – и сразу оторвался.
– На Виноградную, хлопцы, – тихо подал он команду, – забирай правее!
На углу, где Левашевская одним концом круто сбегает вниз, Иванов остановился.
– Вот что, – сказал он, когда вокруг него сгрудилось полсотни бойцов, – цепи стоять здесь, дальше ни шагу: там уже их заставы перед штабом. А я… Если я не вернусь через полчаса, поднимайте бучу: палите из всех винтовок, кидайте гранаты, по цепи – приказ нашим пушкам: открыть огонь вокруг квартала штаба. Вокруг! – повторил с ударением Иванов, – Чтоб не попали в самый штаб, слышите? Там же томятся наши ревкомовцы. Но вокруг – густо и громко, чтоб жарко стало. Для паники.
– А ты?
– А я пойду в штаб… парламентером. С предложением от восставшего народа: сложить оружие, удовлетворить все наши и требования…
– Один пойдешь? А если тебя убьют на месте?..
– Не убьют! Парламентер ведь! Да и не осмелятся: я же говорю – через полчаса вы заставите их поверить, что отсюда направлен мощный удар: не полсотни, а полтысячи, тысяча штыков прорыва! И пушечки чтоб били вокруг – фейерверк, как на гулянье в царское тезоименитство. – Иванов тихо засмеялся.
– Вот тогда–то они тебя и пристрелят!
– Навряд ли!.. А впрочем… война… риск. Одному, во всяком случае, стоит рискнуть, если за ним… народ. Словом, некогда растабарывать. Я пошел! Двое пускай со мной: если надо будет что–нибудь передать, пошлю одного… потом другого. Данила, Харитон! Пойдете со мной?..
И сразу же за тяжелой чугунной оградой защелкали затворы винтовок.
– Стой! Кто идет? Стой на месте – не то будем стрелять!
– Стою на месте. Вызываю генерала Квецинского!..
2
На Пулковские высоты тоже спустилась черная осенняя ночь. Плотные всклокоченные тучи сплошной пеленой затянули небосвод – они были такие тяжелые, что казалось, лежали прямо на земле: густой туман, клубясь, тянулся с низин, с побережья и, словно дым от прикрытого влажными листьями костра, расстилался по размокшей от осенней непогоды болотистой земле. Не видно было огней Петрограда, не видно было ничего и впереди – там, где подразделения врага уже, очевидно, занимали позиции.
Войска Керенского взяли уже Гатчину, и генерал Краснов похвалялся раздавить восставшую столицу империи одним наскоком верных престолу, то бишь – свободе и революции, доблестных боевых частей, три года одерживавших победы ни фронтах войны.
Юрий Коцюбинский с отрядом семеновцев занимал левый фланг. Справа залег сводный отряд из солдат разных частей, которые раньше не принимали участия в восстании, а теперь заявили, что готовы пролить кровь за власть Советов. Слева – отряд рабочих завода «Новый Лесснер»: это были не красногвардейцы, получившие уже боевую закалку в дни восстания, а совсем не обученные военному делу рабочие, преимущественно подростки и пожилые, только что, несколько часов тому назад, призванные под ружье штабом обороны пролетарского Петрограда.
Смутно и тревожно было на сердце у Юрия. Впереди стояли хорошо вышколенные, к тому же разъяренные, натравленные контрреволюционными агитаторами боевые части, и количество их было неизвестно: вне всяких сомнений, целая армия. С малыми силами ни наглый, но трусоватый Керенский, ни тем паче опытный и осторожный генерал Краснов не решились бы двинуться на охваченный революционным подъемом Петроград. И против такого противника стояла горстка пускай горячих, окрыленных великой идеей, однако неопытных, случайных бойцов, а главное – разрозненных, распыленных, не сбитых еще в один боевой коллектив. Их объединяла воля к победе, но не сплачивала ни воинская дисциплина, ни даже единое военное командование: каждый отряд действовал сам по себе и приказы сверху получал противоречивые, с военной точки зрения подчас нелепые и невыполнимые.
В хибарку – деревянную дачку, где отряд семеновцев устроил свой командный пункт, вошли двое: подтянутый юноша в кожаной куртке, подпоясанный солдатским ремнем, с кобурой нагана, и богатырь в демисезонном пальто, тоже подпоясанный – пулеметной лентой. В руках он держал винтовку.
Это были Примаков и Фиалек – делегаты от Киевского совета на Второй съезд Советов: съезд объявил себя мобилизованным на защиту Петрограда, и делегаты съезда разошлись по вновь организованным частям пролетарской обороны. Юрий был рад принять в свою часть киевских земляков.
– Ну? – спросил быстрый и порывистый Виталий Примаков еще с порога.
– Какие же будут твои предложения, командир? – неторопливо проговорил, ставя винтовку к стене и отряхивая капли дождя с фуражки, богатырь Фиалек. Юрий горько усмехнулся.
– Вот, – протянул он товарищам путеводитель по Петрограду, раскрытый на плане города, – все, что я имею для… ознакомления с позициями и… изучение боевой обстановки. Нету даже карты – ни военной двухверстки, ни хотя бы геодезической десятиверстки… Я думаю, товарищи, что мы займем оборону вот по этой линии – вы разбираете что–нибудь в этом идиотски мелким масштабе? Но в обороне мы оставим половину бойцов, а из второй один из нас создает ударную группу прорыва, которая, как только получим приказ командования, ринется вперед, клином, вот в эту низину, между… Эх! – прервал он вдруг сам себя. – Нужен приказ командования, но ведь командования, которое осуществляло бы оперативное руководство всеми участками боя, пока что нет…
Как раз в это время дверь хибарки снова отворилась, в комнату ворвались клубы пара и вошел военный – лихой офицерик, правда без погон и без кокарды. Он звонко отрапортовал:
– Смирно! Командующий участком фронта обороны!
Коцюбинский вскочил, Примаков и Фиалек тоже стали подыматься. Командующий участком фронта обороны! Какой командующий? Да ведь беда как раз в том, что такого командующего нет!..
3
Следом за офицериком порог переступил второй офицер. Он был в бурке – на черном ворсе искрилась осенняя роса; на голове лихо заломленная набекрень черная папаха с широченной красной лентой поперек; из–под бурки, меж раскрытых пол, виднелся красный бешмет с серебряными газырями. Щегольские лаковые сапожки были забрызганы грязью.
Офицер! Ну что ж, кому и осуществлять командование, как не военному специалисту!
Офицер, очевидно назначенный наконец командующий, подбросил руку к папахе, отдавая честь.
– Здравствуйте, товарищи! – сказал офицер: голос его сразу задел что–то в памяти Юрия – удивительно знакомый голос.
– Здравствуйте, – ответили вместе, по–военному четко Коцюбинский и Примаков.
Фиалек тоже произнес;
– Здравствуйте!
Юрий всмотрелся пристальнее – насколько мог при тусклом мигающем свете плошки: худое, с запавшими щеками лицо, ровный оскал зубов и глаза – как у пациента психиатрической больницы… Муравьев! Полковник Муравьев.
– Вы? – спросил Юрий.
Муравьев впился своим взглядом одержимого в лицо Коцюбинского.
– А! Шильонский узник!.. Действительно, мы с вами уже встречались, и не раз. Прапорщик Коцюбинский, если не ошибаюсь?
– Вы назначены… командующим?
– Так точно! – ирония блеснула в недобром взгляде Муравьева. – Имею честь доложить: назначен Советом Народных Комиссаров командующим обороной Петрограда на этих высотах.
– Но ведь вы… не большевик.
– Так точно, эсер! – Муравьев, так же зло улыбаясь, бросил бурку на руки адъютанту. Тот подхватил, лихо щелкнув шпорами. – Вы, товарищ, по–видимому, забываете о трех вещах: левый эсер, а левые эсеры принимают участие в руководстве восстанием вместе с большевиками – это раз; восстание отнюдь не большевистское, а всех левых сил России – два; и, к вашему сведению, вооруженные силы революции требуют для руководства… настоящих военных специалистов. Затем что бой надо выиграть, а не играть в войну. Не так ли, товарищ большевик?
Что ж, Муравьев был прав. Для проведения военных операций большевики нуждались в военных специалистах – штаб–офицерах в первую очередь. А Муравьев был опытный штабист. В конце концов, дело по организации «ударных батальонов смерти» он наладил совсем неплохо. Он был кадровый офицер царской армии и воевал за Россию, против немцев. Будет воевать и теперь: ведь Керенский именно и намеревался открыть немцам фронт, чтоб расправиться с революционным Петроградом.
Так думал Коцюбинский.
В голове Муравьева в это же время вертелось множество мыслей. Ему бы и самому их всех не охватить – разве сосредоточишься в такую минуту! Россия. Революция. «Громокипящий кубок». Эпоха. Эра. Жизнь и смерть. «Живи, живое». А старый мир, безусловно, себя изжил: какие–то лунные призраки и мороженое из сирени. Серость! Гнилому – гнить. Еще лучше – испепеляющий огонь и дезинфекция кровью. И утвердится новое. Что, собственно, новое? Личность. Индивид. В человечестве и в веках. Быть неповторимым индивидом претендовал саратовский или симбирский адвокат Сашка Керенский. Рыжий присяжный поверенный лез в вожди! Приволжский гуртоправ Корнилов тоже метил в диктаторы. Им ли перевернуть мир, когда нужно идти по земле с мечом? Как Христос, что изгнал из храма фарисеев и еще там кого–то – в общем, маравихеров и спекулянтов. Меч поднимет он, Муравьев. Будет вождем, будет и диктатором. Испепелит и дезинфицирует. И утвердит новое. Собственно – свою личность, неповторимый индивидуум…
Муравьев сел и положил кулаки на стол:
– Итак, прапорщик, вы здесь – командир участка? Докладывайте обстановку!
Но Коцюбинский еще не овладел собой. Примаков и Фиалек тоже поглядывали хмуро. Коцюбинский заговорил:
– Однако же… насколько я знаю ваши воззрения…
Муравьев резко прервал его:
– О моих воззрениях не вам судить, прапорщик! Докладывайте обстановку. – Он бросил на Юрия злобный взгляд. – Или вы, может быть, отказываетесь? Тогда…
Коцюбинский сказал – он побледнел еще сильнее:
– Нет, я буду исполнять ваши указания, раз вы назначены Советом Народных Комиссаров, но…
– Что?
– Действовать как большевик.
– Что вы хотите этим сказать?
– Действовать, как должен действовать член одной партии при… представителе другой партии.
Муравьев вздернул бровь и с издевкой посмотрел на Коцюбинского:
– Критически, предубежденно и… настороже? Силь ву пле! – Искорки злой иронии в его глазах погасли. – Так вот, прощу подчиняться моему приказу: командир участка обороны, докладывайте командующему боевую обстановку.
– Слушаю! – Коцюбинский наклонил голову. – Сейчас доложу. Но прежде прошу предъявить мандат Совета Народный Комиссаров…
Рука Коцюбинского – на всякий случай – лежала на поясе, поближе к кобуре с пистолетом.
За окнами хибарки вдруг поднялась частая беспорядочная стрельба.
В комнату вбежал еще один офицер, очевидно второй адъютант Муравьева:
– Товарищ командующий! Противник под покровом ночи и тумана пошел в штыковую атаку!
Контрреволюционные войска Керенского и Краснова двинулись штурмом на красный Петроград через Пулковские высоты.
4
Генерал принял парламентера в своем кабинете.
Справа от него сидел комиссар Кириенко, слева – комиссар Василенко. Офицер для особых поручений стоял на своем месте у окна, возле аппарата ставки фронта, с блокнотом и карандашом наготове.
Бронзово–хрустальная люстра под потолком не светилась: город бастовал, света в городе не было. Огоньки двух стеариновых свечек пугливо трепетали на столе перед генералом. Пять человеческих теней, словно огромные доисторические чудовища, колыхались по стенам из угла в угол.
Боголепов–Южин чиркнул зажигалкой и зажег свечу на столике у телефона. Тени сразу вспорхнули и запрыгали по потолку.
Генерал повел бровью.
– Погасите третью свечу! – приказал он.
Штабс–капитан щелкнул шпорами и дунул на свой огонек. Чудовища на стенах заметались.
– Итак? – спросил генерал. – Я слушаю… Вы можете сесть.
– Спасибо. Буду говорить стоя. Усмешка тронула губы Иванова. – Из уважения к миссии, которую я выполняю.
– О! – удивился генерал. – Вам даже известно такое… иностранное слово, как «миссия»?
– Да, – сдержанно ответил Иванов, – оно мне известно. – Усмешка снова чуть тронула его уста. – Как и вам, господин генерал.
Генерал не уловил иронии в интонации Иванова. Пряча ненависть за учтивостью, он сказал:
– Ах, вы, очевидно, не простой, как это… пролетарий, а… гм… интеллигент с… этим самым… «хождением в народ»! Какой университет кончали? Киевский? Московский? Петербургский?
– Я кончил церковноприходскую школу в селе Кукшево под Костромой. Как–нибудь в другой раз, – добавил Иванов, не скрывая вызова, – на досуге, мы обменяемся с вами, господин генерал, сведениями из наших биографий, а сейчас…
Боголепов–Южин угрожающе брякнул шпорами у окна, генерал высокомерно поднял брови: этот… гм… пролетарский парламентер еще, оказывается, и наглец?
– …а сейчас, – закончил Иванов, – я хотел бы перейти прямо к обмену мыслями по вопросу, который нас обоих больше всего интересует. В моем распоряжении… – он взглянул на стенные часы, – лишь тридцать пять минут. Итак… наши притязания – мне известно и это слово, господин генерал, – сводятся к трем пунктам…
Генерал сделал жест не то удивления, не то негодования. Комиссары тоже заерзали на своих местах. Но Иванов не дал им вымолвить и слова.
– Первое: немедленно освободить членов ревкома.
Комиссар Кириенко поднял руку – очевидно, чтоб остановить его, но Иванов не обратил на это внимания.
– Второе: прекратить боевые действия и сложить оружие…
Генерал хлопнул ладонью по столу.
– И третье: признать власть Советов в городе и в подлежащем вашей юрисдикции, – теперь он нарочно употреблял иностранные слова, – Киевском военном округе.
– Какая наглость! – прозвучало у окна.
– С вами, господин штабс–капитан, – Иванов бросил через плечо, – не разговаривают. Вам, согласно субординации, надлежит молчать, когда обращаются к старшему чином.
Генерал поднялся со своего кресла – красный, разъяренный. Он, очевидно, хотел крикнуть, но сдержался. Мгновение в комнате царила мертвая тишина. Потом генерал заговорил. В его голосе звучала нескрываемая ненависть, но он пытался иронизировать:
– Ах, вам известны и правила воинской субординации! Вот как!
– Я солдат, господин генерал. Войну прошел в пехотном полку армии генерала Самсонова в Мазурских болотах.
– В таком случае вам должно быть известно, что рядовой не имеет права обращаться прямо к генералу! И вам одна дорога: пока на гауптвахту, а потом… а далее… – генерал зашелся от злости.
– А далее, – подхватил Иванов, тоже повышая голос, – я пришел к вам парламентером от ревкома с ультиматумом!
– Ультиматум! Боже! – всплеснул руками комиссар Василенко. – Это в самом деле нахальство!
Комиссар Кириенко потянулся через стол к кнопке звонка. Он, очевидно, намеревался вызвать стражу.
Иванов взглянул на часы, теперь у себя на руке:
– У нас осталось всего… тридцать две минуты, генерал!
Генерал сел.
– Что дает вам право, – прохрипел он, задыхаясь, – ставить условия и…. ультиматумы, да еще таким… таким…
– Императивным тоном? – подсказал Иванов, снова подбирая иностранный термин. – Не буду ссылаться на законы классовой борьбы, это вас все равно не убедит. Скажу понятным вам… армейским языком: право… силы, господин генерал!
– Силы? – генерал как–то по–бабьи всплеснул руками. – Да ведь наши вооруженные силы в десять раз больше ваших!
– Были, господин генерал! – пожал плечами Иванов. – Однако примите во внимание: польский легион объявил нейтралитет, славянская дружина сербо–хорватов тоже, чехословацкая бригада вышла из боя, Казаки заявили, что не станут вмешиваться в дела Украины, эшелоны, вызванные с фронта, не прошли дальше Поста Волынского. Три юнкерских училища разгромлены. Остатки юнкеров под нашими ударами отступили почти к самым стенам вашего штаба…
Генерал снова хлопнул ладонью по столу: хватит.
– В нашем распоряжении еще достаточно сил! Против вас вся Россия!
– Это покажет будущее, – ответил Иванов и снова посмотрел на часы. – У нас осталось для беседы только двадцать восемь минут.
– Черт побери! – рявкнул генерал. – Чего вы все тычете в нос ваши минуты? Что это означает?
– С этого вопроса, следовало начать, генерал. Отвечаю: наш ультиматум дает вам полчаса на размышления. Теперь осталось двадцать пять минут. Впрочем, – Иванов снова повел плечами, – я согласен считать полчаса с этого момента…
Генерал молчал, вращая глазами, – его душила астма, он не мог вымолвить ни слова. Комиссары Василенко и Кириенко сидели бледные и оцепеневшие. Тяжело дышал Боголепов–Южин у окна. Тикали часы на стене. Снаружи, там и тут – где–то далеко – порой щелкал винтовочный выстрел, еще дальше рассыпалась вдруг пулеметная очередь, изредка – совсем далеко бухал разрыв артиллерийского снаряда. Шел бой, но шел он где–то вдалеке и почти затих. Точнее, притаился, как живое существо. Чтобы сделать прыжок, взорваться снова еще с большей силой.
На какую–то минуту в кабинете командующего Киевским военным округом, охваченным восстанием – и городах Проскурове, Жмеринке, Виннице, Казатине, Фастове, Коростене, – воцарилась тишина.
5
А этажом ниже, в вестибюле штаба, в это время бурлила шумная толпа разъяренных офицеров и юнкеров. Они размахивали револьверами и винтовками и орали. Возбужденная толпа окружила двух пареньков в штатских «жакетах», подпоясанных ремнями, с пулеметными лентами крест–накрест через грудь. Кепки хлопцы надвинули на самые глаза, в руках держали винтовки с примкнутыми штыками.
Красногвардейцы Данила и Харитон – эскорт парламентера – держались, как приказано: стоять вольно и ни на что не обращать внимания – неприкосновенность им гарантирована офицерским честным словом. Толпа офицеров клокотала вокруг них, сыпя проклятьями и угрозами.
– На виселицу их!.. На телеграфные столбы!.. Изрубить в капусту!.. Продажные шкуры! Грязные босяки!
Данила с Харитоном отклонялись от кулаков, когда их подносили слишком уж близко, отводили глаза от обнаженных шашек, не смотрели на револьверы. У Данилы глаза ушли под самый лоб и горели двумя черными огоньками. Он весь съежился и напрягся – словно готовясь к прыжку: ринуться бы в самую гущу и дубасить прикладом винтовки, руками и ногами. Харитон держался спокойнее. Он только шмыгал носом и смотрел куда–то в потолок, словно обнаружил там что–то очень интересное, никогда не виданное. Но был он почти прозрачный – так бледнеют только рыжие; веснушки на его лице походили на горсть дроби, выпущенной в него из охотничьего ружья.
– Проклятые совдепщики! Большевистские ублюдки!.. Жидовское отродье!..
Харитон уклонился от кулака, который тыкали ему под самый нос.
– Не выражайтесь, граждане, не выражайтесь… Образованные люди, а такие слова… Матюкаться – некультурно…
6
– Т… так, – произнес наконец генерал, – значит…
Собственно, он не знал, что сказать. Все, что сообщил ему парламентер, – о частях, ему подчиненных которые… гм… вышли из боя, – все это была правда. Горькая правда и позор – Но это еще не было поражением. В распоряжении генерала было еще вооруженных сил в десять раз больше – только здесь, в самом Киеве и его окрестностях. А округ? А фронт? А остальные фронты? А, наконец, вся Россия? Не может того быть, чтобы Россия пошла за большевиками. В этом генерал был твердо убежден. Не может того быть, чтоб победила чернь. В это генерал свято верил. Он не знал законов классовой борьбы, а если б и услышал о них, не пожелал бы их понять. Ведь солью земли русской был именно он и ему подобные. Это усвоил он от отца, а отец от деда: испокон веков в России чернь была внизу, а избранники наверху. Как, впрочем, и во всем мире. Разве допустят, чтобы где–то в варварской России плодился шашель, подтачивающий устои, на которых держится весь мир? Нет, не допустят этого никогда! И союзники уже обещали помощь. Вон прямой провод из Петрограда толькo что сообщил: в помощь Керенскому должен высадиться десант на севере и на Балтийском побережье. Через Румынию, с юга, тоже должны подойти – американцы, англичане, французы, итальянцы, еще там черт его знает кто, но должны подойти! Чтоб раздавить гидру смуты в самом зародыше! Как Георгий–победоносец на белом коне с копьем в деснице поражает огнедышащего змия…
– Вы… вы… – начал было генерал, и Иванов почувствовал, что наступает решающая минута: сейчас он позовет своих вестовых и отдаст приказ – вопреки всем законам войны, вопреки своему собственному джентльменскому слову офицера – расстрелять парламентера тут же под стенкой в его собственном кабинете. – Вы… вы, – задыхался генерал, и багровый румянец теперь заливал уже все его лицо… – Вы не дождетесь, чтобы… как его… это самое…
Ему на помощь пришел комиссар Кириенко. Он все же сохранил способность владеть собой: он был человек партийный, да и партия его считала себя самой демократической, так что, в конце концов, был он в стороне и в случае чего… в смысле личной своей безопасности мог рассчитывать на… по крайней мере хотя бы на нейтральное отношение. Он сказал Иванову, помогая генералу прийти в себя:
– Вы сами должны понять, что ваши требования безрассудны. Безрассудны по существу, но это уже сфера межпартийных дискуссий. Безрассудны и практически… Начать хотя бы с первого пункта вашего… гм… ультиматума. Освободить членов ревкома? Да они сами отказываются выйти на волю!.. Да, да! – повторил он, отвечая на удивленный взгляд Иванова. – Боятся, чтобы при выходе их не растерзала возмущенная толпа… народа, который… гм… ненавидит бунтовщиков–большевиков…
– Вы говорите чепуху, господин… комиссар, – сказал Иванов, – и о намерении толпы растерзать ревкомовцев–большевиков: об этом свидетельствует восстание и тот факт, что вот я пришел к вам парламентером, и о нежелании товарищей выйти на волю. Это…
– Вы хотите сказать – неправда? – ехидно подсказал меньшевистский комиссар.
– Нет, я хочу сказать: ложь! – отрубил Иванов. Кириенко даже качнуло, но он сдержался, только побарабанил пальцами по столу.
– Пожалуйста, пожалуйста! Я думаю, что мы даже могли бы доставить вам… гм… удовольствие – убедиться в этом лично. – Он повернулся к генералу. – Если господин командующий не возражает, мы могли бы пригласить сюда председателя ревкома… товарища Пятакова, и он лично изложил бы свои… мысли и чувства…
Генерал все еще хлопал глазами – он еще не пришел в себя. Но и это время на столике у окна загудел зуммер телефона. Боголепов–Южин поднял трубку. Послушав минутку, он молча опустил трубку и, щелкнув шпорами, обратился к генералу:
– Вас, ваше превосходительство… лично.
– Что ж, – кивнул генерал комиссару Кириенко, беря трубку, – пожалуйста, пожалуйста. Не возражаю. Прекрасный случай. Даю вам десять минут на свидание. Только затем этого… – он сделал гримасу, – Пятакова сюда? Господин парламентер может туда пройти. Пожалуйста, проводите господина парламентера в комнату арестованных.
Иванов какое–то мгновение стоял в нерешительности. Что такое? Быть того не может! Или… вынудили под пытками? Нет, нет, нет… Или Пятаков снова пошел на компромисс со своими друзьями–меньшевиками?
Иванов сделал шаг к двери. – Кириенко сразу подбежал нему и даже взял под руку:
– Прошу, прошу, товарищ… Сюда…
Когда дверь за Ивановым и комиссаром Кириенко закрылась, генерал сказал в трубку:
– Добрий вечір, Михайле Сергійовичу, слухаю вас!
Генерал Квецинский – ополяченный хохол с берегов Немана – приветствовал председателя Центральной рады по–украински.
Но ответа на свой «добрий вечір» генерал не получил. И вообще не сразу разобрал, что говорит ему Грушевский. Профессор пыхтел и заикался. Наконец генерал понял: Грушевский просил, молил, заклинал генерала… как можно скорее выпустить арестованных ревкомовцев!
Генерал оторопел: неужто Центральная рада снова помирилась с большевиками и поддерживает их наглые требования? Ах, эти чертовы мазепинцы–сепаратисты! Генерал всегда знал им цену – недаром, еще будучи жандармским ротмистром, в тысяча девятьсот пятом году он шомполами расправлялся с демонстрантами, шедшими с портретом Шевченко, а нескольких закатал в Сибирь! Да, да, только так надо со всеми этими подрывателями основ! В тюрьму, на каторгу, на виселицу!
Уже не прибегая из вежливости к украинскому языку, генерал раздраженно спросил:
– Что случилось, Михаил Сергеевич? В своем ли вы уме? Почему мы должны потакать головорезам?..
7
А случилось вот что.
Полчаса назад в Центральную раду явился парламентер от ревкома – Затонский.
Городской штаб восстания, расположившийся в университете, теперь уже установил живую связь с ревкомом – через Бессарабку и Собачью тропу. Саша Горовиц опять, как он ни ругался, как ни молил, вынужден был сидеть в помещении «Арсенала», где разместился ревком, – для связи и неотложных решений. Он и передал Затонскому приказ ревкома отправиться в Центральную раду и спросить: с нами или против нас? Либо пусть признают все решения ревкома, либо вооруженные силы восстания будут считать себя в состоянии войны с Центральной радой. Именно с Центральной радой, а не с ее вооруженными силами, ибо эти вооруженные силы уже и сами разлагаются и целыми частями откалываются от Центральной рады. Так вот – война Центральной раде, но не ее солдатам!..
Затонский выругался не злым, тихим словом – дипломатия с Центральной радой ему уже осточертела – и пошел. В конце концов, сбегать в Педагогический музей было делом пяти минут: лишь пересечь Бибиковский бульвар и пройти полквартала по Владимирской.
На углу Бибиковского и Владимирской стояла застава: гвардия Центральной рады, сечевики полковника Коновальца.
Узнав, что идет парламентер от восставших, молодчики в мазепинках решили тут же на месте его расстрелять – во славу неньки Украины и на страх всем ее вороженькам.
– Московский холуй!.. Руби ему, хлопцы, ноги и руки… На кол его!.. Наматывай кишки на штык!.. Пся его мать…
– Я парламентер и иду к председателю Центральной рады. Прошу вызвать вашего начальника.
– Куренного сюда!.. Пана чотаря Мельника!.. – закричали отдельные голоса.
Но другие, те, что поближе, наступали и грозили:
– Зачем чотаря или куренного? Сами управимся!.. Большевистский агент! Уж не тот ли, что склонил богдановцев на измену?
Догадка была небезосновательной: как раз Затонский выступал в Богдановском полку на митинге, как раз после того, как он разъяснил им смысл происходящих событий, две сотни богдановцев присоединились к восставшим.








