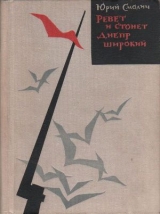
Текст книги "Ревет и стонет Днепр широкий"
Автор книги: Юрий Смолич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 62 страниц)
– Словом… оформляй, унтер, такой приказ…
Унтер, как военный специалист, пока еще переводил бойцам на язык солдатской словесности приказы неискушенного командира.
– Все четыре пулемета открывают огонь по гнездам пехоты; две сотни винтовок поддерживают их шквальным огнем; две сотни остаются в резерве… А в это время…
Матрос Гречка, топивший в Черном море «Гебена» и «Бреслау», усатый унтер, что три года отсидел в окопах на позициях, да двое красногвардейцев, харьковские слесари, слушали, ошеломленные и сбитые с толку: пришли завоевывать Полтаву и уничтожать контру, а пойдут захватывать конский табун из–под гайдамаков…
Через полчаса, под прикрытием четырех пулеметов и двухсот винтовок две сотни «червонцев» вышли на левый берег и прижали к земле на правом берегу спешенных гайдамаков; две сотни кинулись по льду через речку – в штыки; и еще две сотни – кулаком – рванули на ту сторону, табуну гайдамацких лошадей наперерез.
За полчаса эта «подготовительная» операция была закончена. Две сотни красных казаков – кто из бывших кавалеристов, кто только гонял помещичьи табуны в ночное, а кто и вообще впервые сел на коня – врубались в тесные улочки полтавских окраин: Рогозного, Панянки, Кривохаток. Собственно говоря, не врубались, а встреливались и вкалывались, потому что шашек казаки еще не имели и либо стреляли с седла, либо – с седла же – кололи штыком. В кавалерийском уставе такая операция действительно не предусмотрена. Впереди скакал сам командир полка красных конников Виталий Примаков и стрелял из нагана. Он проскакал и прострелял Полтаву насквозь – через Некрасовку, Зеньковку, Юровку, Терновщину – до самого поля славного исторического сражения, редутов Полтавской битвы.
Итак, червоные козаки сели на коней и отныне стали красной кавалерией.
А за ними, под холмами над Ворсклой, в Щепиловке и Кобыштанах остальные «червонцы» – пока еще пехота – расправлялись с деморализованными, охваченными паникой гайдамаками.
4
Для Полтавы это был знаменательный день.
Знаменательным этот день был и для всей Украинской республики. Вслед за червонным козачеством – первой регулярной частью Украинской советской армии, овладевшей городом во взаимодействии с русскими красногвардейскими отрядами, брошенными из Харькова Антоновым–Овсеенко, – подошли и донецко–криворожские шахтеры и красногвардейцы Екатеринослава, которые громили калединских казаков и корниловские офицерские полки, а теперь, по приказу Ленина, шли на помощь с юга, через Константиноград. Таким образом, произошло объединение вооруженных сил и начинался боевой поход на столицу Украины.
Коцюбинский и Муравьев встретились на вокзале.
Это тоже была знаменательная встреча!
Коцюбинский вошел в Полтаву с боем – на бронепоезде люботинских железнодорожников.
Муравьев прибыл с эшелоном штаба – в шести роскошных салон–вагонах управления Северо–Донецкой Екатерининской железной дороги.
Когда под вечер, отогнав гайдамаков под Абазовку, бронепоезд Коцюбинского вернулся на станцию Полтава, на территории железной дороги уже зажглись фонари и на перроне вокзала стояли на постах десятка два бравых матросов Балтийского флота: бескозырки набекрень, чубы по ветру, широченные клеши, тельняшки под распахнутыми бушлатами – даром что мороз был трескучий, ниже двадцати градусов.
Появление закоптелого, со свернутой вражеским снарядом башней бронепоезда матросы приветствовали громовым «ура». Боевой экипаж бронепоезда ответил радостными кликами. И люботинские слесари и балтийские моряки стали шваркать шапками оземь и обниматься.
Юрий тоже был растроган. Не в одиночку шел в бой против националистической контрреволюции украинский народ! Вот его братья по классу, русские пролетарии пришли ему на помощь – чтоб добывать победу сообща, рядом обливаясь кровью в бою.
– А почему такой парад? – перецеловавшись наконец со всеми, кивнул Коцюбинский на ярко освещенные окна зала первого класса.
– Главком Муравьев ужинают! – молодецки откликнулись морячки: что гульба, что сеча – доброе угощение, или добрый бой – были для матросской вольницы лучшими, достойными и уважения и зависти часами человеческой жизни.
– Победу главком спрыскивает!
– Крещение празднует!
– А так оно и есть, чтоб вы знали: попы воду святят, а мы – буржуйскую кровь!..
Меж тем на веселый гомон из дверей вокзала высыпало еще с полсотни матросов и красногвардейцев.
Юрий никогда не любил митинговых речей и вообще избегал пышных слов, а тут ему до смерти захотелось сказать речь: он был в приподнятом настроении после боя, взволнован этим – символическим, если хотите, – братанием с прибывшими петроградцами и кронштадтцами. Он встал в люке бронепоезда и заговорил:
– Товарищи! Не сегодня, а еще в октябрьские дни, на баррикадах пролетарской революции, начался наш общий путь борьбы за победу социализма! Но сегодня вы, сыны русского народа, пришли на помощь народу украинскому, восставшему против украинской контрреволюции. А завтра – если будет в том нужда – и мы, сыны народа украинского, поможем Советской России. И этим сказано все, товарищи! Исторический путь у наших народов общий, мы с вами братья по классу, и цель у нас одна: мировая революция, коммунизм на земле! И никогда никакой враг не заставит нас с вами свернуть с нашего пути и не сломит нашего единства: и горе, и радость, и победа, и даже поражение – если и его придется испытать – только еще крепче сплотят нас!.. Слава же партии большевиков, поднявшей нас на последний и решительный бой и указывающей нам путь в борьбе! Спасибо вам, что пришли, да здравствует товарищ Ульянов–Ленин, приславший вас сюда!..
– Слава! Ура! Хай живе! – лихо гаркнули моряки и красногвардейцы.
И только тут Коцюбинский вдруг сообразил, что обращался он к русским товарищам не по–русски, а, как привык, по–украински. Не важно – речь его поняли отлично и даже отвечали украинскими же «слава» и «хай живе».
Когда Коцюбинский еще кончал речь, из дверей вокзала вышел и пробился сквозь толпу матросов стройный красивый молодой человек в офицерской папахе и элегантном белом кожушке; из–под кожушка виднелись широченные модные бриджи, а на белых фетровых валенках бренчали кавалерийские шпоры.
– Шаров – отрекомендовался щеголь. – Главком приглашает вас к столу – отужинать.
– Муравьев?
– Так точно: главком Муравьев!
Что ж, и поужинать после боя не повредит, и надо обсудить план дальнейших боевых действий с Муравьевым, только почему – главком? И что за… титул такой «главком»?.. Главный командующий. Чем? И почему главный?
Юрия Коцюбинского Народный секретариат назначил командующим всеми вооруженными силами молодой Украинской советской республики.
Военспеца Муравьева комиссар Антонов–Овсеенко взял к себе начальником штаба и теперь поручил ему руководить наступлением на Киев.
– Ладно, – ответил Коцюбинский адъютанту Муравьева. Потом отдал приказ экипажу: – Часовым остаться у люков, остальным – ужинать!
Яркий свет ослепил Коцюбинского, когда они вошли в зал первого класса: включены были все люстры под потолком, бра на стенах, канделябры на столах – как перед прибытием курьерского поезда с международными вагонами. В зале шел пир горой.
Муравьев был в точности такой, как и при их первой встрече в Петрограде: малиновая черкеска, белый ворот шелковой рубашки, серебряные газыри. Только лицо у Муравьева стало еще бледнее, каким–то зеленым, и взгляд пронзительных глаз казался еще более неистовым. А впрочем, возможно, это был лишь эффект яркого электрического освещения или результат выпитой уже водки.
Муравьев поднялся навстречу Коцюбинскому:
– Ну, здоров, Коцюбинский! – широко раскинул он руки, как для объятия. – Шаров, чару ему! Кубок белого орла – за боевые заслуги, и чтоб нас догонял!
– Здравствуйте, – ответил Коцюбинский. – Не пью. Только маленькую рюмочку с морозу. А бойцам экипажа прошу к ужину по стопке.
– Шаров! – крикнул Муравьев, как загулявший купчик на ярмарке. – Бочку спирта героическим бойцам моего друга Юрия Коцюбинского!
Юрий остановил адъютанта, стремглав кинувшегося выполнять приказ:
– Не надо! Мы на войне, только по стопке – с мороза.
– О! – крутнул головой Муравьев. – Ты, я вижу, строго поддерживаешь дисциплину! Хвалю!..
Руки, широко раскинутые для объятий, Муравьев опустил, сделав вид, что откидывает за локоть широкие рукава черкески.
– Боевой дружок! – счел он нужным объяснить сидящим за столом. – Вместе воевали против Керенского на Пулковских…
Люди вокруг стола зашевелились, пробежал одобрительный гул.
Но Коцюбинский еще не разглядел присутствующих. Они с Муравьевым стояли друг против друга и смотрели друг другу в лицо. Настороженно, выжидающе, подозрительно.
Разноречивые чувства охватили в эту минуту Коцюбинского, разные мысли и воспоминания проносились в голове – в голове, еще полной звуков только что отгремевшего боя… Петроградская комендатура в июльские дни, не пришедший еще в себя после тюремного заключения Коцюбинский и наглый полковник Муравьев… Цирк «Модерн», эсер Муравьев призывает воевать против немцев, а большевик Коцюбинский защищает лозунг: «Долой войну!»… Бой на Пулковских высотах во время путча Керенского – Савинкова… Что ж, тогда они вместе были в бою: полковник Муравьев – командующий и прапорщик Коцюбинский – под его командой. Коцюбинский тогда с честью выполнил боевое задание, хорошим командиром – организатором победы – показал себя и Муравьев. Теперь, значит, опять… вместе… Жаль!..
А что думал в эту минуту Муравьев? Какие его волновали чувства?
Муравьев думал – этот сосунок сказал мне тогда, в комендатуре Инженерного замка: не верю! Он бросил мне на митинге в цирке «Модерн»: авантюрист! И он не хотел на Пулковских высотах признать над собой мое командование… Но теперь должен поверить, мальчик, должен признать: у меня мандат Совета Народных Комиссаров…
Взаимная неприязнь – это, пожалуй, превалировало над всеми их чувствами в эту минуту.
Но дольше стоять было неловко, и Муравьев и Коцюбинский сели. Налили чарки. Придвинули еду. Вокруг составленных вместе вокзальных столиков сидело человек двадцать – штаб и командиры отрядов группы Муравьева: с десяток военспецов, в офицерских шинелях без погон и с красными ленточками на папахах; человек пять матросов в бушлатах или черных шинелях; человек пять в кожаных куртках или солдатских шинелях: командиры питерских, орловских и курских красногвардейцев. Старый, с длинными обвислыми усами, рабочий – комиссар штаба – особенно внимательно приглядывался к Коцюбинскому, бросая искоса взгляды и на Муравьева. Он сидел с Муравьевым рядом. По другую руку развалился элегантный, наглый адъютант Шаров.
Выпили: Муравьев – кружку, другие – из стаканов, Коцюбинский пригубил. Комиссар только поднес стакан, обмакнул усы и поставил.
Все молчали: появление нового человека прервало веселое пиршество, новоприбывший юноша был народным секретарем, стоял во главе всех вооруженных сил республики, а натянутость между ним и Муравьевым почувствовали все. Впрочем, усатый комиссар поглядывал на Коцюбинского ободряюще.
Прерывая неловкое молчание, Муравьев заговорил первым:
– Вот мы и опять встретились с вами, Коцюбинский, – Он перешел на «вы», и это Юрию было приятно. – Ну так как? Кто из нас был прав? Помните, в Петрограде, в цирк «Модерн? ” Вы распинались тогда: да здравствует мир, долой войну!.. – Тонкие недобрые губы Муравьева искривила язвительная усмешка. – И вот мы с вами уже вторично – вторично! – крикнул он, – встречаемся на войне… И теперь вы к войне призываете…
Комиссар кашлянул себе в усы. Коцюбинский ответил сдержанно:
– Вы забываете, Муравьев, что тогда речь шла о войне империалистической, а сейчас мы с вами, – Юрий сделал ударение и на «мы» и на «с вами», на каждом отдельно, – ведем войну классовую.
Красногвардейские командиры и матросы вокруг стола одобрительно загудели. Военспецы хранили учтивое молчание.
Комиссар кашлянул и добавил от себя:
– А против империалистической войны наша большевистская делегация и сегодня воюет в Бресте…
– В Бресте! В Бресте! – вскипел Муравьев. – Вы, большевики, опять совершаете ошибку! С империализмом нельзя мириться! Не мир, а война империализму – вот лозунг истинно революционный! Не мириться с немецкими империалистами надо, а на остриях штыков нести в Германию, в весь буржуазный мир социальную революцию!
Коцюбинский все так же сдержанно ответил:
– Мы, большевики, как известно, думаем иначе: революцию не приносят на штыках, революцию совершает трудовой народ, каждый в своей стране.
– В своей стране! – Муравьев снова вспыхнул. – Почему же тогда вы, украинцы, не совершаете сами революции против вашей Центральной рады, а зовете на помощь русских?
Коцюбинский тоже готов был вспыхнуть, но сдержался:
– Мы призвали на помощь не русских, Муравьев, а братьев по классу – русский пролетариев. Калединцев и корниловцев, тоже русских, мы не зовем, наоборот – помогаем вам их громить…
Матросы и красногвардейцы вокруг стола снова одобрительно загудели.
Коцюбинский хотел на том и закончить свой ответ, но одобрительный гул товарищей его подзадорил, и он продолжал:
– А они, корниловцы и калединцы, тоже не признают Бреста, тоже против мирных переговоров и, в конце концов, именно потому и двинулись войной против нас… Нас с вами, – добавил он еще.
Муравьев хлопнул ладонью по столу, очевидно собираясь что–то возразить, но Коцюбинский уже разошелся, неприязнь к этому авантюристу полыхнула в нем жгучей ненавистью, пробудила дерзость:
– Что же до вас, Муравьев, то, признаюсь, я несколько удивлен… встретив вас на Украине. Если память мне не изменяет – тогда, на митинге в цирке «Модерн», не Центральную раду, а всех украинцев вообще вы обзывали… контрреволюционерами.
Это уже был вызов. Военспецы зашевелились. Матросы и красногвардейцы, наоборот, примолкли. Муравьев взмахнул рукой, опрокинув широким рукавом черкески стопку со спиртом.
– Я тогда руководил битвой против контрреволюции! – крикнул он. – И я отстоял тогда Петроград, колыбель революции!
Коцюбинскому тоже хотелось опрокинуть что–нибудь, вскочить и грохнуть кулаком. Презрение к этому хвастуну прожигало его насквозь. Но он увидел глаза усатого комиссара – суровый, но встревоженный взгляд – и все–таки сдержался. Впрочем, совсем уняться он уже не мог. По возможности спокойно он сказал:
– Если припомнить ваши слова – и тогда, во время боя на Пулковских, и до того, на митинге в цирке «Модерн», то воевали вы против Керенского потому, что Керенский хотел открыть фронт немцам…
– Я воевал против немецкого империализма! – завопил Муравьев. – И за мировую революцию!
– Если память мне не изменяет, – весь так и клокоча, ответил Коцюбинский, – и если припомнить, кроме того… – Юрий нарочно прибегал к таким витиеватым оборотам, чтобы помочь себе сдержаться, – припомнить ваши… «ударные батальоны смерти», то невольно приходишь к выводу, что вам… безразлично – за империализм или против империализма, за революцию или против революции, за Керенского или против него…
Суровое и испуганное лицо усатого комиссара так и прыгало перед глазами Юрия, он уже не в силах был сдерживаться, как того ни хотел, как ни понимал, о чем молили глаза комиссара: воздержись, не надо, ведь война, командир же он!
– …безразлично – за царя Николая или против…
Муравьев – бледный – вскочил с места и взвизгнул:
– Прапорщик!
Коцюбинский тоже встал:
– Полковник!
Адъютант Шаров схватился за кобуру. Комиссар положил руку на локоть Муравьева.
– Спокойно… полковник… – сказал он.
Вокруг стола возмущенно зашумели – громче всех военспецы. Недовольны были и матросы с красногвардейцами: Муравьев был их командир, и под его командованием они рубили и калединцев и корниловцев! Комиссар поглядывал на Коцюбинского с двойственным чувством. В его суровом, но как–то потеплевшем взгляде можно было прочитать: дружок, это, конечно, верно, – правда, дружочек, на твоей стороне, но… понятие надо иметь, молодой товарищ…
Опорожнив стопку, не глядя в сторону Коцюбинского, Муравьев сел на свое место, желваки на его острых скулах ходили вверх и вниз, точно он что–то жевал.
Торжественный ужин был испорчен.
Матрос, сидевший рядом с Коцюбинским – его лицо запомнилось Юрию в толпе, когда он говорил речь на перроне, – подвинул ему тарелку:
– Ешьте! Вы ж таки повоевали сегодня…
– Спасибо, – сказал Коцюбинский, – не хочется.
– Действительно, аппетит пропал, – буркнул и Муравьев и, наконец, взглянул на Коцюбинского. Ничего, кроме ненависти, в его сумасшедших глазах не было. Впрочем, во взгляде Юрия он встретил то же.
– Может быть, перейдем сразу к делу?.. – Коцюбинский заставил себя произнести это спокойно. Но чувствовал, что он так же бледен, как и Муравьев.
Комиссар сразу подхватил:
– Ага! Самый раз! Только общего обсуждения операции предлагаю сейчас не устраивать, – он сделал жест в сторону тарелок, стопок, – не время, знаете, после того… Но диспозицию на ночь надо наметить теперь же…
Муравьев процедил сквозь зубы:
– Резонно, товарищ комиссар… – Он был еще бледен, но тоже старался держаться спокойно. – Так вот, получите, товарищ Коцюбинский, от меня следующую диспозицию…
Коцюбинский смотрел на Муравьева и раздумывал. Мысли были и такие: старший здесь – я, меня назначило правительство Украинской республики. Он – командует лишь группой дружественных, союзных войск. Не он мне, а я ему должен… давать диспозицию… Но ведь он действительно военный специалист, а я всего лишь прапорщик… даже без боевого опыта. Может быть, в данном случае я должен признать его авторитет… И за ним же такие бравые боевые русские ребята: балтийские матросы; питерские, орловские, курские пролетарии… Нет! Пускай у Муравьева и мандат Совета Народных Комиссаров, но все же это – Муравьев, и я, большевик, не могу пойти на то, чтобы он стал во главе борьбы всего народа. И Коцюбинский сказал:
– Простите, товарищ Муравьев, но диспозицию буду давать я, а не вы.
– Я главком! – снова осатанев, вскочил Муравьев.
– Нет, – Коцюбинский тоже поднялся. – Я главнокомандующий вооруженными силами Украины.
И опять стояли они друг против друга и смотрели друг на друга – тяжелым, грозным, непримиримым взглядом.
5
Авксентия Нечипорука снаряжало как есть все село.
Хлебом благословили на дорогу три раза – за порогом родной хаты, у церкви и на выходе, за околицей: теперь мешок Авксентия распирали уже три буханки. Кузнец Велигура вынес боковинку сала, фунта три, – все, что припас на зиму: ведь дорога дальняя старику! Домаха, тайком, от скуповатого Софрона, кинула в торбу веночек мелкого, но забористого луку. Австрийцы подарили три пачки махорки из рациона военнопленных – даром что Авксентий был некурящий. Омелько Корсак вынес мешочек, с полфунта, соли – розовой, конской, из запасов графских конюшен. Кто–то из чиншевиков дал пшеничный хлебец, другой – ржаную лепешку, кто–то из экономических – «мерзавчик» с постным маслом. Даже дед Маланчук – официальный председатель недействующего Совета крестьянских депутатов – принес головку чесноку.
Управились и с одежей. Кобеняк и сапоги у Авксентия были. Вивдя отдала припасенные для Демьяна холщовые онучи – о Демьяне после побывки не было ни слуху ни духу, Гречкина Ганна вынесла старые, хотя а латаные, но еще годные, матросские бязевые исподние – пошел Тимофей на тот проклятущий съезд, да так и не вернулся. Чистую сорочку на смену постирала и выкатала собственными руками Меланья: она как раз опять случилась в селе – снова за полупудом гречки или проса, потому в Киеве уже пошла голодовка и нечего было дать перехватить ни лихому красногвардейцу Данилке, ни сердитому на весь мир, хмурому мужу Ивану.
Итак, экипирован был старый Авксентий хоть куда, ну прямо вокруг света отправляйся – если люди не брешут, что земля и правда круглая! И на сердце у односельчан стало спокойнее: по крайней мере, на совести не будет греха, а там – доберется дед или не доберется – пускай уж идет, раз уперся. Да и, по совести говоря, был интерес: а вдруг таки дойдет, а там, гляди, вернется и таки принесет стящий закон и настоящую правду?
Всем селом и провожать вышли за околицу – до самого моста через Здвиж.
Старый Авксентий шествовал, известное дело, впереди – прямо сгибаясь под тяжестью: на спине вьюк с харчами, на груди сверток с бельем. В правую руку он взял добрый посох. За левую руку брата держалась сестра Меланья: до Киева пойдут через Гостомельские боры вместе, а там подсадит Авксентия в какой–нибудь эшелон и умоется слезами – приведется ли еще раз свидеться? Народ – может, с полтысячи, целая процессия – плелся сзади: морозный снег на дороге скрипел и повизгивал, и пар от людского дыхания облаком клубился над толпой. Шли и старые, и малые, и бабы, и деды; дети баловались в пушистом снегу, весело забегали вперед, и все время приходилось прикрикивать на них – ведь такая серьезная минута! Шли пленные австрийцы со своим капралом Олексюком. Шли экономические, и парубки, и девчата – это племя, известное дело, все со смешками да визгами, им хоть бы что, хоть какой торжественный момент, только бы дурачиться да лясы точить. Шли – кто из чиншевиков, кто из хозяев на своей земле, кто батрацкого рода. Шли – правда, позади утоптанной уже в снегу стежкою – даже управитель Савранский и богач Омельяненко, а при них семинарист Дудка – в шапке с красным верхом я с наганом не боку, ибо объявили себя ныне властью от партии эсеров на селе, и еще учитель Крестовоздвиженский – теперь самый высший авторитет, потому что грамотный был на трех языках и даже получал газеты из Киева.
За мостом – то была уже не Бородянская, а Бабинецкая земля – стали прощаться окончательно. Бабы сразу принялись голосить, да Омелько Корсак цыкнул на них – он хотя и был тут самый младший, но после того, как ушел Тимофей Гречка, объявил себя председателем ревкома и тоже, в пику семинаристу Дудке, верховной властью на всю Бородянку.
– Ну, прощайте, дядька Авксентий, – сказал Омелько как мог степеннее, – желаем удачи, раз уж вы такое дело в голову себе втемяшили! А по–нашему, по–пролетарскому: не только света, что в окошке, придет со временем революция и в наши места, незачем переться аж за двунадесятую параллель, чтоб искать революционного закона на буржуйское беззаконье… Вот как дадим им огня из ста двадцати орудий…
Омелько Корсак, став председателем ревкома вместо матроса Гречки, считал подобающим перенять и его полуморяцкую, полуученую терминологию.
Бабы и девчата снова начали хлюпать, но Омелько Корсак глянул на них – из–под кудлатой шапки да еще когда наган на боку, взгляд его и вправду казался грозным, – и женский пол притих.
Тогда сказал и кузнец Велигура:
– Прощевай, брат! Иди здоровый, вертайся скорее, в дороге не застудись, ишь какой мороз! И чтоб принес нам писаный закон, и такой, как людям надобно, a не какое–нибудь там невесть что, пся крев!
Он обнял Авксентия – с малых же лет вместе и свиней пасли, и в ночное гоняли, и батрачили, и в парубки вышли, – обнял и пустил слезу. Шапку он снял, серебряные космы чуприны сразу покрылись блестящей изморозью, и поцеловался со стариком трижды накрест.
Вивдя и Домаха чмокнули отца в руку и спрятали глаза в платочки.
Софрон подошел, вроде стыдясь и дичась, смотрел куда–то в божий свет, а не родителю в лицо, и тоже приложился к руке Авксентия.
Потом стали жать руку, кто ближе стоял. Одни – с добрыми пожеланиями, другие молча, угрюмо. Подошел и австрийский капрал Олексюк:
– Счастья вам, пане батько, отец рдный, скажите там при случае, что и мы хотя австрийского народа, а таки свои украинцы, таки хлопы–селяне, и нам без земли нет жизни. Скажите – кланяемся, просим революцию и к себе, в Галичину…
На каждое слово, на каждое пожелание старый Авксентий отвечал поклоном, держа шапку в руке.
Тем временем подошли и Омельяненко с Савранским да Дудка с Крестовоздвиженским. Семинарист Дудка вылез вперед и тоже сунулся к Авксентию с рукой.
– Отойди! – оттолкнул его Омелько Корсак. – Не твой делегат!.. Посылай своего – пану Грушевскому зад целовать!
Семинарист Дудка схватился за наган:
– Я здесь – власть! А ты мне такие слова!
Омелько Корсак тоже положил руку на револьвер за поясом.
Девчата завизжали, но Крестовоздвиженский – Дудку, Велигура – Корсака сразу развели подальше друг от друга.
Старый дед Маланчук тяжко вздохнул.
– А может, – зашамкал дед: он теперь слышал совсем хорошо, да зубы все равно второй раз не вырастают, – а может, не пойдешь, Авксентий, как–нибудь перетерпим?.. Дорога не близкая, мороз, да и пожелают ли еще там с тобой разговаривать… с простым мужиком?
Дед Маланчук был среди тех, кто с самого начала отговаривал Авксентия от его затеи, и попытался кинуть словцо и теперь, напоследок.
Но Авксентий покачал головой и надел шапку.
– Порешил я, дед, – промолвил Авксентий твердо: может, впервые в жизни говорил он так твердо и неколебимо. – Пойду!.. Либо правду добуду, либо загину… Пусть тогда моим костям земля будет пухом – где бы им ни полечь…
Бабы зашмыгали носами.
Сзади, посмеиваясь, подал голос Омельяненко:
– Авксентий Опанасович! А может, и вправду одумаетесь? Дурость на старости лет ударила вам в голову… Где ж это видано?.. А если, представьте, пожалуйста, да из всех сел всей российской земли попрутся к нему этакие делегаты? Что ж он, полагаете, так со всеми и беседовать будет?
Он ожидал, что, как всегда, люди отзовутся на его слова смехом, но никто не засмеялся.
– И будет! – твердо ответил Авксентий и надвинул шапку глубже на лоб. – И будет беседовать, чтоб ты знал! Потому как должен! Потому – народ!.. – Он подумал минутку, прикинул в уме, сколько ж это, в самом деле, наберется народу, если пойдут делегаты со всех концов, и добавил рассудительно: – А сойдется много, пускай соберет всех гуртом, так бы сказать – на вече, селянскую сессию такую, – Авксентий теперь уже не мог, чтоб не ввернуть какое–нибудь новое революционное словцо, – и пускай сделает революцию сразу для всех. А мы тихонько посидим да послушаем…
– Ну, смотрите… – Омельяненко сплюнул. Мороз был такой хваткий, что плевок, падая, зазвенел уже льдинкой.
Софронова Домаха и Тимофеева Ганна всхлипнули.
Демьянова Вивдя стояла выпрямившись, онемевшая, высоко вскинув брови, широко раскрыв глаза, словно глядела куда–то вдаль и сама словно отсутствовала. Руки она прижала к животу.
– Смотрите, – крикнул уже со злостью Омельяненко, – чтоб вам да на коленках не ползти от самого Петрограда в родное село! Как на отпущение грехов! А мы… мы не простим тогда, чтоб вы знали! Не будет вам нашего прощения, нет!
– Ну, ты! Буржуй! – гаркнул Омелько Корсак, бывший батрак своему бывшему хозяину. – Сам поостерегись! И не смей народу такие контрреволюционные слова говорить! За пузом своим смотри!
Вивдя охнула, как бы опомнившись, и прислонилась к плечу Домахи.
На ухо ей она зашептала:
– Домасенька, родненькая, вот побей меня бог, пускай земля подо мной расступится: слышу уже! Слышу! Под сердцем ворохнулось! Крест святой!..
Авксентий глянул с укором сперва на Омельяненко, потом и на Корсака. Грызутся люди, сердятся, грозят друг другу. Революция!.. Разве ж это – по–человечески! Разве так надо? Переменился свет, ох, переменился!..
А что переменилось, как и куда? Что будет и чего не будет? Какой людям на дальнейшую жизнь выйдет декрет? Кто скажет? Кто знает!.. Только он. Только он один. Другого, говорят люди, чтоб знал правду, на свете нету…
Авксентий поклонился в пояс – всем, трижды, потом махнул рукой, отвернулся и пошел.
Меланья тоже засеменила, держась за левую руку брата.
Авксентий решил идти за правдой, за настоящим законом о земле аж в Петроград, к самому Ленину.








