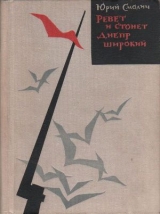
Текст книги "Ревет и стонет Днепр широкий"
Автор книги: Юрий Смолич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 62 страниц)
Ростислав поставив на стол пустой стакан. Не глядя на сестру, он спросил:
– Ты… очень сердишься, что я его… ударил?
Теперь не ответила Марина.
Ростислав поднял на нее глаза. Марина смотрела на него, в ее взгляде были недоумение, укор, гнев. Ростислав кивнул. Марина смотрела на него – вот–вот заплачет.
Ростислав скользнул взглядом по Марининой голове и улыбнулся:
– Какая ты трепаная, Маринка!
Маринина грива, и всегда вихрастая, теперь, после того как она повалялась по подушке и Флегонтовым коленям, была похожа на перевернутый сноп прошлогодней соломы. Марина покраснела – ей в эту минуту подумалось, что Ростислав видел, как она… Она встрепенулась и стала приглаживать волосы руками.
Ростислав встал.
– Знаешь что, Маринка? – сказал он. – Давай и впредь друг у друга ни о чем не спрашивать? Согласна?
Марина тоже поднялась.
– Разве я о чем–нибудь спрашивала?
– Нет, это я так… – Ростислав снова усмехнулся. Усмешка была какая–то кривая, горькая. – Просто, чтоб тебе не вздумалось…
– Я и не собиралась.
Марина подошла к брату и положила ему руки на плечи:
– Ах, Ростик!..
Она спрятала лицо у него на груди.
– Ах, Ростик, то–то и плохо, что я прекрасно понимаю, что… не понимаю тебя! И что ты меня… не понимаешь…
– Ax, какие же мы с тобою загадочные!
– А ведь мы – брат и сестра.
Ростислав помрачнел:
– Александр тоже нам… брат. Брат! – повторил Ростислав с болью. – И как нам с тобой… вытащить его из болота?
Марина молчала, молчал Ростислав. Они стояли посреди комнаты – Маринина голова по–прежнему у него на груди, а глаза смотрят куда–то в пространство, ничего не видя. Ростислав тоже уставился пустым взглядом неведомо куда. Найдутся ли у них силы, чтоб спасти брата? Есть ли способ его спасти? И что это означает – спасти? И кого из них надо спасать?..
Наконец Марина тихо спросила:
– А все ж таки, Ростик, скажи мне: что ты думаешь делать?
Ростислав взял ее голову за вихры и повернул лицом к себе:
– Ты это о нем спрашиваешь?
– Нет, нет! Что ты! – испугалась, даже ужаснулась Марина. – Я же не о том! Это я и сама знаю! Это только тот… кокаинист мог подумать. Я о том, собираешься ли и дальше оставаться в красногвардейском штабе?
Ростислав смотрел на сестру, в глазах его мелькнул смех:
– Мы же договорились не спрашивать?
Марина упрямо тряхнула волосами:
– И все равно спрашиваю!
Искорки смеха разгорались во взгляде Ростислава:
– А ты бы хотела, чтоб я… перекинулся в твое «вильное козацтво»?
Марина отшатнулась возмущенная:
– Фи!
– Что – фи? – искренне удивился Ростислав. – Не поверю, чтобы ты изменила свои… симпатии и взгляды. Чтоб тебе на твои украинские дела было – фи!
– Ах, нет! – даже топнула ногой Марина. – Я не потому сказала «фи». – Она вдруг засмеялась этому забавному междометию, которое они сейчас обсуждали, словно какой–то важный тезис. Но тут же стала снова серьезна, даже сурова. – Я же знаю, что ты никогда не пойдешь против своих убеждений! И возмутилась: как ты мог подумать, что я спрашиваю об этом.
Ростислав прервал ее.
– Ну вот, – сухо промолвил он, – значит, не о чем и спрашивать. Мы договорились, что не будем задавать друг другу вопросов. И я тебя ни о чем не спрашиваю.
– Ах, Ростик! – вскрикнула Марина, не скрывая муки. – Может быть, как раз и надо, чтоб ты меня спросил!
Она гневно оттолкнула брата.
Ростислав внимательно посмотрел на нее:
– О чем ты, Марина? С тобой что–нибудь… неладно?
Марина стояла отвернувшись. Она уже овладела собой.
– Мы же договорились… не спрашивать.
С минуту длилось молчание. Совсем тихо было в квартире Драгомирецких. За окном шел дождь – сеялся по стеклам, словно сквозь сито.
Ростислав произнес задумчиво:
– Да… да!.. Не думал, что и тебя… обуревают сомнения…
Марина тряхнула головой, выпрямилась, постояла так минутку, словно ожидая, словно надеясь на что–то, и пошла к двери.
– Спокойной ночи, Ростислав.
– Спи спокойно.
Но на пороге Марина задержалась на миг и бросила через плечо:
– Я б и правда хотела, чтобы мы с собой были… вместе.
5
И вот они лежали рядом в Марининой комнате – теперь уже и не зажигая лампы. Света от чуть сереющего прямоугольника окна было достаточно, чтоб различить контуры мебели в комнате, но, если смотреть друг на друга вблизи, черты лица едва мерещились – их надо было угадывать, даже придумывать; только чуть блестели глаза.
– Может быть, мне уже уйти? – прошептал Флегонт. – А то… неудобно…
– Подожди еще немножко, – так же шепотом сказала Марина, – ведь комната Ростика на том конце – ему ничего не слышно. А мне… плохо сейчас одной.
И Флегонт остался.
Марина лежала на спине, закинув руки за голову, вялая и расслабленная, и смотрела, должно быть, в потолок.
Флегонт неудобно вытянулся рядом, на самом краешке дивана, почти вися в воздухе. Он лежал прямой и длинный – от валика до валика – словно натянутая тетива. И, как туго натянутая тетива, трепетал – от напряжения неестественно вытянутого, повисшего над пустотой тела и от внутренней настороженности: он целомудренно следил, чтобы не коснуться ненароком тела девушки рядом.
Марина сказала:
– Странно! Как я мечтала, чтоб мои братья… тоже ощутили в душе этот священный огонь… любви к родной украинской отчизне…
Она говорила медленно, отрывисто – точно астматик, речь ее текла вяло, словно нехотя, и голос был глухой, без интонаций, как будто равнодушный к содержанию того, что они говорила, старческий:
– Как горько мне было всегда, что ни один из них не участвует в нашей борьбе за возрождение нации… Как я возмущалась, что Алексашка не хочет признавать себя даже по происхождению украинцем…. Как больно кололи меня всегда его грязные насмешки над нашим языком… И вот…
В Марининой речи наконец послышался отголосок каких–то чувств, удивления:
– …как мне теперь больно, как возмущает, что он… признал себя украинцем!.. Как… ненавижу я его за то, что… пошел служить в украинскую армию…
Флегонт заволновался:
– Ну это же так понятно! Потому что это и в самом деле оскорбительно! Потому что он же – нечестно! Он ведь только до времени! И такие, как он, лишь пятнают, позорят… нашу армию…
– Нашу… армию… – повторила за ним и Марина, опять безучастно, машинально, словно бездумно или, наоборот, особенно задумавшись над этими словами.
Флегонт хотел говорить еще – хотел высказать все свое возмущение, весь свой гнев и протест, но Марина остановила его, коснувшись рукой:
– Не надо… я понимаю, что ты хочешь сказать.
И они снова лежали молча.
В квартире Драгомирецких было совсем тихо, как и должно быть тихо ночью, когда люди спят. За окном немолчно шуршал мелкий, но частый, надоедливый осенний дождь.
Там, за окном, в ночи, был город, но он тоже сейчас как будто не жил, а может быть, и жил – только притаился; может быть, отходя ко сну, может быть, в лихорадке бессонницы, может быть, готовясь, как хищный зверь, к какому–то смертельному прыжку – в огромный мир или только сюда, в эту тихую темную комнатку, на эти два притихшие во мраке и неизвестности юные существа. И это было жутко, было страшно…
Но все–таки там – за окном, за стенами дома – был город, был весь мир, а здесь только два живых существа, одни. И это было еще страшнее.
– И как это так вышло, – снова заговорила Марина, – что все мы такие разные?!
В ее голосе теперь звучало изумление – безмерное и не находящее ответа:
– Братья и сестра… Один отец и одна мать… Братья в детстве даже ходили в одинаковых костюмчиках – не различить, словно близнецы. И мама водила одного за правую, а другого за левую руку. И подарки им всегда дарили одинаковые. И учились в одной гимназии, на один только класс разница.
Все сильнее и сильнее звучало удивление в голосе Марины, и в удивлении звенел уже гнев.
– Почему же Ростислав с детства увлекался футболом, а Александр перелистывал страницы «Нивы» за тысячу девятьсот пятый год, вырезал портретики офицеров – героев японской войны, наклеивал их в тетрадку и формировал из них роты, батальоны и полки? Это была у него любимая игра… Почему Ростислав вечно пропадал на рыбалке, а Александр бегал на все военные парады? Почему Ростислав всегда ходил небрежно одетый, перемазанный в смоле, а Александр еще в третьем классе начал носить воротничок «композиция» и все требовал, чтоб ему сшили новые брюки, непременно модные – на штрипках, как у офицеров, хотя за офицерские штаны со штрипками гимназистов сажали в карцер и оставляли без обеда. Почему это так, Гонта?..
Флегонт собирался ответить обстоятельно – о том, что все люди разные, что даже близнецы живут каждый своей самостоятельной жизнью, с особой психикой, вкусами и пристрастиями, – об этом он недавно вычитал в журнале «Огонек», в статье про сиамских близнецов. Хотел выложить и то, что тоже недавно услышал в публичной библиотеке на лекции «Какими представляет себе марксизм человека, семью и общество при социализме»: не только в семейном быту, но и в схожей социальной обстановке формируются совершенно разные, даже антагонистические характеры. Думал сослаться и на самую популярную среди гимназистов и гимназисток книгу «Половой вопрос» Фореля, которую и он и Марина читали тайком от родителей еще в шестом классе. Но Марина не дала ему заговорить. Свою тираду она закончила совершенно неожиданно:
– Ах, Гонта, я, кажется, начинаю ненавидеть все наше украинское движение только потому, что к нему, сам видишь, примазываются такие, как наш Алексашка…
– Ну что ты! – возмутился Флегонт. – Как ты можешь говорить такие вещи! Да ты пойми…
Но Марина снова остановила его, тронув рукой:
– Не говори, я знаю, я понимаю… Я сказала глупость. И они снова примолкли.
Флегонт искоса поглядывал на Марину. В мутном рассеянном свете видны были лишь контуры, но Марина лежала на уровне Флегонтовых глаз – и абрис ее фигуры был совершенно четкий. Флегонт не мог не смотреть: когда Марина лежала на спине, вот так выпрямившись, ее девичьи, маленькие, но выпукло очерченные под блузкой груди точно исчезали: рядом лежал мальчик. Флегонта даже тянуло положить руку Марине на грудь, коснуться, проверить: неужто и в самом деле совсем исчезают, растворяются, словно и не было?
Но, конечно, Флегонт никогда не позволил бы себе этого. Ему стало страшно и стыдно от одной мысли. Ему даже сделалось нехорошо. Он вытянулся еще сильнее, чтобы нигде, ни одной точкой своего тела не коснуться тела девушки рядом.
Марина наклонила голову и уперлась лбом Флегонту в плечо. Даже сквозь сукно гимназической куртки чувствовалось, как горит ее голова.
– Ах, Гонта, – прошептала Марина. – Мне стало так одиноко… так худо… И, поверишь, мне кажется, что я уже… ни во что не верю…
Нет, не возмущаться надо бедной девушкой, не сердиться на нее за упадок духа, а отвлечь, утешить, приголубить… Как жаль, что Флегонт не мог решиться на это – вот так прижать к груди, обнять, погладить по голове, может быть даже поцеловать. Нет, он не мог на это отважиться.
Марина приникла лбом еще крепче – даже больно стало плечу, и положила ему руку на другое.
Теперь Флегонту стало совсем нехорошо. Словно во всем теле, во всех уголках его существа вдруг забарабанили сотни и тысячи молоточков. Ему даже показалось, что в эту минуту, – нет, на один только миг, он и Марина, – нет, не он и Марина, а только его и Маринино тела, вдруг припали друг к другу, тесно, плотно, всеми точками с ног до головы.
Но это был только мираж, только греза, даже не греза, ибо Флегонту такое и пригрезиться не могло, – а химера, призрак, наваждение. Флегонт лежал все так же, туго вытянувшись на краешке дивана. Марина – рядом, на расстоянии, не касаясь его, только лоб ее прижимался к левому плечу, a рука покоилась на правом.
Но как он любил ее – Флегонт Марину! Как была она ему дорога, мила. Как ему хотелось громко закричать об этом – чтоб все услышали, даже запеть, а может, и заплакать.
– Марина… – заговорил было Флегонт, но должен был откашляться и заговорить вновь, потому что только пошевелил губами, а голоса не было. – Марина…
Марина шевельнула рукой, той, что лежала на правом плече, и положила ему ладонь на губы:
– Не говори, не говори, молчи… я знаю…
Было прекрасно, и Флегонту хотелось вытянуть губи и поцеловать Маринину ладонь, это было непреодолимое желание, но еще сильнее оказался гнев. Поворотом головы он освободился от Марининой руки.
– Что ты… знаешь? – негодуя, чуть не крикнул он.
– Всё…
– Что – всё?
– Что ты хочешь сказать…
– Ну и… что?
Марина сняла руку с Флегонтова плеча, подняла и голову с другого и смотрела прямо перед собой – Флегонту в сером сумраке видно было лишь, как поблескивают белки ее глаз над ним. Марина произнесла так же, как и раньше, – без интонации, словно безучастно, словно в прострации:
– И я отвечу тебе… Ничего… ничего… может быть… не нужно человеку… ничего нет на свете дороже… и нужнее человеку… чем любовь…
– Марина…
– …и единственное, что теперь… мне нужно. Хочу… больше ничего не хочу… чтоб ты меня… тоже любил…
В СТОЛИЦЕ
1
Теперь Киев стал самой настоящей столицей. Государство провозглашено, действуют парламент и кабинет министров, прибыли иностранные послы, консулы и миссии.
Что касается иностранцев, то Украинской народной республике просто повезло. Как только стало известно, что Центральная рада в Киеве не признает Совета Народных Комиссаров в Петрограде, из ставки верховного главнокомандующего хлынули в Киев представители генеральных штабов Антанты. Следом за ними – курьерскими поездами – потянулись и дипломаты. Они не были полномочными представителями при Украинской республике, потому что их правительства еще не признали де–юре УНР, однако же де–факто они оказались в Киеве, где действовали экс–официо многочисленные консульства нейтральных во время войны стран: греческое, датское, испанское, норвежское, португальское, шведское и швейцарское. Иностранные дипломаты разных рангов прибыли: от Англии, Бельгии, Италии, Румынии, Сербии, Франции и Японии.
И вот древний стольный град, первенец истории Украины и мать городов русских – очаровательный, хотя несколько старомодно–провинциальный и по–азиатски сонный, тихий и уютный Киев – вдруг превратился в шумный и фешенебельный европейский город.
По Крещатику, Фундуклеевской и Бибиковскому бульвару сновали теперь роскошные автомобили, на радиаторах у них развевались разноцветные флажки, со львами, орлами, мальтийскими крестами или золотыми звездами в квадратике чистейшей небесной голубизны: штандарты полутора десятка мировых держав.
Осадное положение в Киеве снято. Теперь гуляки могли шататься по киевским злачным местам хоть до утра. И хотя шел четвертый год кровопролитной, изнурительной войны, городские улицы и бульвары сразу приняли совершенно мирный вид. Мужчины щеголяли в пальмерстонах при котелках или в накидках при цилиндрах. Дамы – в боа и палантинах из норки, выдры, горностая, соболя, а не то и шиншиллы.
Лакеи в ресторанах снова облачились в белые жилеты и нацепили галстуки бабочкой. Репертуар таперов: ойра, матчиш, тустеп, кек–уок, бальное танго. Но в восемь – при открытии – неизменно исполнялась «Ще не вмерла», в три ночи – при закрытии – гопак.
Новых лиц в Киеве вдруг объявилось без числа. Паспорта этих новоявленных киевлян, проживавших в номерах–люкс гостиниц «Европейская» и «Континенталь» либо в особняках Липок и на дачах в Святошине, имели постоянную прописку полицейских участков Санкт–Петербурга или Москвы, – на разве порядочный человек, уважающий себя и свое состояние, мог проживать ныне в Содоме и Гоморре, где хозяйничали страшные «совдепы» и ужасные большевики?
Сорок синематографов и двадцать кабаре–миниатюр зажгли электрические вывески и ежевечерне меняли программу. Гвоздем сезона снова были: в кабаре – Вертинский, Вяльцева и цыгане, в синема – Макс Линдер, Глупышкин и Пренс. A на Зверинце, в недостроенном Брусиловском соборе, спешно производились съемки первого украинского фильма о последнем перед Руиной главе не расчлененного еще стародавнего Украинского государства: «Гетман Дорошенко».
2
Глава новоиспеченного Украинского государства, премьер Украинской народной республики принимал посетителей. Прием посетителей был объявлен ежедневный – кроме среды и субботы – от одиннадцати до трех, за исключением тех случаев, когда на эти часы приходились неотложные дела государственной или партийной важности: сессии Центральной рады, заседания Малой рады, пленумы Городской думы или собрания Викорого, а также конференции Центрального комитета Украинской социал–демократической партии, коей лидером он состоял, или совещания в редакции «Украинской рабочей газеты», коей был он редактором–аншефом.
Нынче, в понедельник, ни заседаний, ни собраний в первый, тяжелый день недели не предвиделось – премьер был на посту, и перед ним лежал список посетителей на сегодня.
Впрочем, Винниченко видел список как сквозь туман.
Пышное празднование возрождения нации состоялось не далее, как вчера, и после торжественной церемонии и донского шампанского немного шумело в голове.
Вчера на исторической Софийской площади прочитан был «универсал» о создании УНР – соборными дьяконами в четыре голоса сразу во всех четырех концах площади, пел хор в тысячу человек под управлением Кошица и Калишевского, звонили во все колокола по всем ста двадцати киевским церквам. Молебны с ектиньею о даровании и с провозглашением «многая лета» служили в каждой часовне, и после крестного хода городские церковные хоры пели на папертях «Вже нам, браття молодії, усміхнулась доля»: замена в тексте гимна наречия «еще» на «уже» и флексии «еться» на «улась» была узаконена специальным указом Центральной рады. Затем гайдамацкие старшины на вороных жеребцах помчались на все окраины – на Слободку и Китаев, на Батыеву гору, хутор Грушки и урочище «Кинь грусть» – и читали там текст «универсала» прямо с коня. Гайдамацкие трубачи трубили при этом в бараньи рога, а гайдамацкие бунчужные размахивали кошевыми и куренными бунчуками. Под конец торжества генеральный секретарь военных дел проскакал на белом жеребце через весь город, и сотня его личной охраны галопом неслась за ним, размахивая саблями и во всю глотку вопя «слава! ”.
Вечером Грушевский произнес речь в цирке, а Винниченко – спич на банкете в «Континентале».
В списке посетителей на сегодня значилось:
1. Депутация представителей торга, промысла и финансов.
2. Делегация деятелей национального возрождения;
3. Уполномоченные глав находящихся на Украине иностранных фирм;
4. Посланцы села Великий Кут на Елизаветградщине и Елизаветградской Мужской гимназии…
Бесконечный столбец записи, номеров пятьдесят, терялся где–то в тумане – ведь как болела голова! – но слова «Елизаветградщина» и «Елизаветградской» не могли не привлечь его внимания. Боже мой! Из села Великий Кут на Елизаветградщине происходил отец Винниченко – Кирилло, а в Елизаветградской гимназии Владимир Винниченко учился когда–то, пока за украинофильство – написал по–украински и распространял в списках крамольную, против самодержавия, поэму – не был исключен с волчьим билетом…
Тепло вольной и широкой южной украинской степи вдруг согрело исхлестанную солеными житейскими штормами душу. Великий Кут, речка Ингулец и степь без края!.. Латинские экстемпорале, подпольное певческое товарищество, епархиалочка Женя, безобеды и карцеры, первая любовь… Ну конечно, принять – раньше всеx! Сразу! Немедленно!..
Но Владимир Кириллович успел обуздать свои эмоции. Он же не просто бывший, четверть века назад, гимназист: он же глава государства – и нельзя оказывать протекции даже милым воспоминаниям! Дойдет дело, в порядке справедливой очереди, и до реминисценций, рефлексий и душевных утех. Кто там дальше, после номера четвертого?
Под номером пятым была записана солдатская вдова Мотря Пилиповна Периберибатченко.
Владимир Кириллович сперва улыбнулся: ну и фамилия, только украинцы придумают такое! Надо непременно записать и где–нибудь использовать в романе, пьесе или рассказе. Но тут же Владимир Кириллович поморщился. Черт побери, депутации и делегации – это одно, а вот когда идут на прием персонально – это уже совсем другое. Персональных посетителей Владимир Кириллович недолюбливал. Во–первых, у них дела частные – и это только отвлекает от важных государственных дел. Во–вторых, речь пойдет, конечно, о том, что солдатской вдове Переберибатченко не платят пенсии за погибшего мужа, а на руках пятеро детей, – значит, подавай вспомоществование, субсидию, дотацию… А где он, Винниченко, пускай он и премьер и глава кабинета министров, возьмет денег?.. Вон в государственных мастерских и секвестированных на время войны заводах и поместьях уже по два–три месяца не плачено рабочим и служащим, – и черт его знает, где эти миллионы на оплату взять? Украинское государство есть, а украинского государственного банка не имеется! Собственно, государственный банк есть, но – всероссийский, и фонды идут из Петрограда, от комиссаров–большевиков, а власти большевиков–комиссаров над Украиной Центральная рада не признала – не признает контора государственного банка и украинских финансовых претензий…
Владимиру Кирилловичу стало тоскливо.
– Вдов, – сказал Винниченко, – собрать всех вместе, и пусть их примет генеральный секретарь труда добродий Порш.
– Слушаю, пане презес! – склонила голову София Гaлечко.
София Галечко со дня провозглашения УНР перешла секретаршей к председателю генерального секретариата: председатель Центральной рады профессор Грушевский теперь в ее услугах не нуждался, так как имел целый консультативный секретариат, с референтами по каждому вопросу политики и государственного строительства. Австрийский френч панна Галечко сняла и теперь щеголяла в штатском: юбка шантеклер и английская блузка с широким кушаком.
Винниченко отодвинул список:
– Сегодня, товарищ София, индивидуального приема не будет. Только депутации и делегации. И прошу строго придерживаться записи. Просите депутацию торга, промысла и финансов.
– Но, бог мой, пршу пана презеса! То невозможно!
– Почему?
София Галечко обвела глазами кабинет премьера:
– Прошу пана презеса: депутация торга, промысла и финансов слишком многочисленна и тут не поместится! Пану презесу лучше будет выйти в конференционную залу. Их, прошу, что–то около девяти десятков…
– Девяносто?! – ужаснулся Винниченко.
Но тут же и обрадовался: девяносто – это ведь только депутация! Сколько же тогда всего деятелей торга, промысла и финансов на Украине? Девять тысяч? Девяносто тысяч!.. О! Если в государстве так широко развиты торговля, промышленность и финансовое дело, то и государство, выходит, нешуточное! Торговцы, промышленники, финансовые тузы! Ого! Сейчас он их… возьмет под ноготь, эту чертову буржуазию, и выжмет–таки из них денежки на строительство государства, и… хоть бы и социализма.
Тумана в голове уже как не бывало. Владимир Кириллович был профессионал–революционер, знал вкус борьбы, и борьба ему была по вкусу. Сейчас он ринется в битву – пускай и один на один, против пускай и бесчисленных полчищ врагов–эксплуататоров! Сейчас он даст им генеральный бой, и не из подполья, с опаской и оглядкой, а с вершины власти. Ибо сегодня он уже не гонимый и презираемый изгой–протестант где–то на дне, сегодня он – на самой что ни на есть вершине общественной пирамиды, у кормила верховного управления в подвластном ему государстве, однако же народном, демократическом! И социалистическом… разумеется, в перспективе.
Винниченко упруго поднялся с кресла:
– Идем в залу, товарищ София!.. И сколько раз я вам говорил: обращайтесь ко мне, пожалуйста, «товарищ», а не «пане»!..
– Приношу извинения пану презесу. Так есть, пане товарищ…
На пороге Винниченко замедлил шаг и, подумав минутку, бросил Галечко через плечо:
Конечно, в некоторых случаях, как вот, например, сейчас, при разговоре с этим… панским отродьем, из соображений, так сказать, дипломатических, будет лучше, если вы станете обращаться ко мне все–таки «пане», а не «товарищ». Чтоб не отпугивать зря.
– Так есть! Сориентируюсь, прошу товарища презеса…
3
Когда Винниченко вошел в конференц–зал, навстречу ему – с кресел, стульев и банкеток под стенами – поднялась и в самом деле изрядная толпа людей. В глазах у него стало черно и зарябило белым: члены депутации торга, промысла и финансов были сплошь одеты в черное – сюртуки, визитки, смокинги, со сверкающими крахмальными манишками.
Винниченко волновался. Буржуазно–капиталистическая система, самая концепция эксплуатации человека человеком потерпела поражение. И вот они здесь, представители этой системы и концепции, точнее, они сами и были этой системой и концепцией. Против буржуазии он, Винниченко, боролся всю жизнь, но лицезрел ее воочию, собственно говоря, впервые, и именно тогда, когда побежденные и поверженные в прах эксплуататоры явились, как видите, к нему депутацией в качестве… просителей.
Ах, победа! Сладкое это чувство – победа!
А впрочем, для чувств времени не было: навстречу Винниченко, отделившись от толпы поверженных в прах, спешил человечек с лысиной и круглым брюшком.
Человечек с брюшком, в визитке и сером жилете, учтиво склонил лысину и сказал:
– Уполномочен… по поручению депутации… приветствовать… – он, очевидно, был болен астмой и чуть не после каждого слова ловил ртом воздух, – выразить… наше почтение… Демченко.
Ах, Демченко! Так вот он какой, этот знаменитый Демченко.
Винниченко жал уполномоченному от депутации Демченко руку и смотрел на него с нескрываемым любопытством.
Имя Демченко было хорошо известно Винниченко и всегда вызывало в нем двойственное чувство. С одной стороны, бескомпромиссную лютую классовую ненависть: крупный фабрикант, нотабль нескольких акционерных обществ, инициатор и организатор съездов и корпораций деятелей торговли и промышленности – акула капитализма. С другой – фигура Демченко не могла не вызывать у Винниченко, литератора, исследователя человеческих душ и общественных процессов, искреннего восхищения: мужицкий отпрыск, свинячий подпасок, голодранец и плебей, на протяжении короткой человеческой жизни стал одной из самых заметных фигур не только на Украине, но и во всей бывшей Российской империи. Стал примером и образцом – истинным эталоном! – для молодого поколения нуворишей, выскочек и парвеню; был предметом зависти и в кругу равных ему по состоянию, ибо перед ним приходилось отступать таким древним купеческим династиям с вековым промышленным опытом, как Морозовы, Сабанеевы, Апостоловы. И притом настоящий человек двадцатого века: известный инженер, меценат разных искусств и… не ренегат, как это ни странно: ярый украинец и покровитель родной старины. Его пожертвования на всевозможные украинские культурные начинания в кабальных условиях царской России уступали разве только вкладам Семиренко или Алчевских. Во вновь созданную в Киеве корпорацию «лиц, занесенных в родословные книги» Демченко принят не был – ведь он не дворянин, но вот от депутации деятелей торга, промысла и финансов… уполномочен.
Винниченко с искренним восхищением взирал на своего нового знакомца. Живой герой для романа! Жаль, что в своих многочисленных литературных опусах Владимир Кириллович рисует представителей буржуазно–капиталистических кругов только с убийственным сарказмом. Фигура активного организатора, так сказать, созидателя… знаете, привлекательна… Палитра, понимаете, ярких тонов…
Между тем Демченко счел нужным представить премьеру республики все уважаемое общество, почтившее его своим визитом. Широким жестом он обвел присутствующих. И Винниченко вынужден был обойти вдоль стены весь зал, от человека к человеку: пожать каждому руку и коротко приветствовать. Девяносто человек, девяносто рукопожатий! И ничего не поделаешь – положение обязывает: вон президент Соединенных Штатов Америки в день своего рождения с восьми утра до трех пополудни стоит на пороге своего кабинета – и каждый гражданин Соединенных Штатов Америки может подойти и пожать ему руку. Демократия! Престиж! В конце концов, раз ты глава государства, даже с врагом надо быть корректным.
– Граф Бобринский. Очень приятно.
Ого! Ну и птички залетели сегодня на огонек в Центральную раду! Что значит – победа сил революции!..
– Винниченко. Очень приятно.
Приятно или неприятно, а был это владетель изрядной части всей украинской земли и того, что под землей и над землей. Луга, поля, плантации сахарной свеклы, фабрики и заводы, шахты и рудники, даже собственная железная дорога! С фактом его существования, в частности с фактом его присутствия сейчас здесь, нельзя было не считаться.
– Харитоненко. Очень рад.
– Очень рад. Винниченко.
Радоваться, быть может, и нечему было, но знакомство, безусловно, волнующее: в латифундиях магната Харитоненко Винниченко в юности, когда он бродил в поисках заработка по панским экономиям, довелось выгребать навоз на знаменитых харитоненковских конных заводах.
– Егермейстер двора его императорского величества Валахов!
– Очень приятно…
Винниченко почувствовал, что его пронимает дрожь. Он пожимает руку самому богатому и самому сановитому человеку на Украине.
– Князь Святополк–Четвертинский…
– Лизогуб…
– Григоренко…
– Шемет…
– Ханенко…
– Кочубей…
– Куць…
Слава богу! Пускай и буржуи, но все ж так свои – хохлы…
– Бродский.
– Фон Мекк…
– Граф Гейден…
– Де Лятур…
– Рихерт…
– Спилиоти…
Матка бозка! Да тут целый интернационал!
Некоторые, рекомендуясь, считали нужным тут же кратко информировать о характере своей деятельности и пользе от нее для человечества.
Представлялись так:
– Мойше Калихман – известь, алебастр, портлендский цемент.
– Колибаба – духовые инструменты и барабаны.
Они, очевидно, не полагались на популярность своих фамилий, а больше – на популярность выпускаемой ими продукции.
Другие особенно подчеркивали давность своего промысла:
– Морозов, Захар Саввич – Богородско–Глуховская мануфактура, существует с 1870 года.
– Иосиф Цукервар – оборудование сахарных заводов, с 1884 года.
– Курис – бриллианты. Покупаю всех дороже, продаю дешевле всех, с 1899 года.
– Росси – мраморные надгробья и убранство склепов, с 1870 года.
Ого! Сколько же уважаемых граждан за эти полвека успел проводить в достойном убранстве мосье Росси? Промысел, безусловно, прибыльный – без кризисов, без угрозы стачки, невозможен даже локаут…
Другие – на писательский глаз – были еще занятнее: они представали как бы сразу в нескольких ипостасях, обладали сразу несколькими фамилиями, и неизвестно было, которая же именно принадлежит им:
– Хряпов–Энни–Энни–Вейс! Счастлив познакомиться! Киев, Кирилловская, 43. Основной, запасный и амортизационный капитал миллион сто тысяч. Пивоваренный завод.
Пиво фирмы Хряпова–Энни–Энни–Вейса Винниченко в молодости случалось отведывать. Он с любопытством посмотрел на человека, который был то ли Хряповым, то ли первым Энни, то ли вторым, а может быть, и Вейсом. Неужто и на пиве можно стать миллионером?








