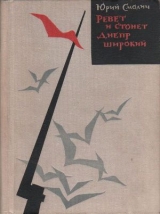
Текст книги "Ревет и стонет Днепр широкий"
Автор книги: Юрий Смолич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 62 страниц)
ПОБЕДЫ ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
1
Это был судебный процесс, подобных которому не случалось ни до этого, ни после.
Ровно в девять часов военно–полевой суд Юго–Западного фронта, в полном составе занял свои места. Председательствовал генерал, прокурор тоже был генералом, трое его помощников – полковники. Защищали пять военных и пять гражданских юристов.
На скамье свидетелей обвинения восседали сто пятьдесят штабных писарей. На скамье подсудимых – семьдесят семь солдат и один офицер, обвиняемые в нарушении военной присяги и в измене родине.
Процесс проводился открытым, по специальному приказу Керенского, показательным порядком – и пятьсот мест, отведенных для публики, занимала по меньшей мере тысяча людей.
Но еще теснее было за стенами суда, на улице. К девяти часам утра чуть ли не всю площадь Богдана Хмельницкого залило волнующееся людское море. Трудящиеся Киева организованными колоннами, а то и просто толпами стекались сюда со всех концов города. Кроме того, явились в полном составе, соблюдая строй, и воинские части: Третий авиапарк, артиллерийский дивизион, батальон понтонеров, две дружины воронежскиx ополченцев.
И людское море беспрестанно, безудержно, все ближе наплывало на тротуары, а там, на тротуарах, в три шеренги выстроились юнкера с винтовками на изготовку. Как густая нива сплошной волной колышется под ветром из края в край и в тоже время клонится в отдельности каждый ее колосок, так в едином порыве двигалась огромная, тысячеликая масса людей. Бронзовый гетман на бронзовом коне на гранитном постаменте возвышался на площади среди человеческого моря. Булавой он указывал на север – как раз на помещение присутственных мест, где происходил суд, и уже какой–то шустрый мальчонка взобрался на монумент и нацепил на гетманскую булаву красный флаг с надписью мелом: «Под суд правительство министров–капиталистов!»
Над толпой реяли транспаранты и знамена. На транспарантах было начертано: «Царский суд – вон из революционной России!», «Судите весь народ!», «Мы – тоже подсудимые». Впрочем, преобладали обыкновенные знамена: «Мир – хижинам, война – дворцам! ”, «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ”, «Вся власть Советам!» И, конечно, стократ повторялся призыв «Долой войну!».
Толпа росла с каждой минутой, люди подходили со всех улиц и скверов, толпа надвигалась и наплывала – и начальник караула, дежуривший у входа в помещение суда, наконец отважился отдать приказ: толпе разозойтисъ, не то он вынужден будет применить оружие.
Приказ был выполнен незамедлительно: толпа нажала еще, прорвала все три цепи охраны и мигом разметала перепуганных юнкеров.
И люди ринулись в здание. Людские потоки затопили все коридоры и канцелярии суда.
Как раз в эту минуту прокурор начал чтение обвинительного акта.
И в эту же минуту оркестры перед зданием заиграли «Варшавянку»: «Вихри враждебные веют над нами…»
Генерал–прокурор побледнел, генерал–председатель тоже был бледен, бледны были все: прокуроры, защитники, свидетели и часовые – кирасиры с обнаженными палашами. Побледнели и семьдесят восемь человек на скамье подсудимых.
2
Прокурор читал: «Именем Российской республики…» А на площади военный духовой оркестр исполнял: «Черные силы нас злобно гнетут…»
Прокурор читал дальше: «…семьдесят семь комитетчиков–солдат, подстрекателей к непослушанию целого полка… и их инспиратор, главный преступник, офицер–большевик…»
А оркестры на площади не затихали ни на минуту: заканчивал мелодию один оркестр, и сразу же ее подхватывал другой, заканчивал этот – и тут же вступал третий.
Прокурор читал: «…отказ выполнить приказание командования… нарушение воинской присяги… измена родине…».
А тысячная толпа на площади, вслед за оркестром, пела:
Но мы поднимем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело…
Председатель суда позвонил в серебряный колокольчик, прервал чтение обвинительного акта и заявил, что при таких обстоятельствах он вынужден будет приостановить и даже совсем отменить судебное заседание.
В зале, на скамьях публики, раздался смех. Состав высокого суда способен был разве только объявить итальянскую забастовку: сидеть себе и молчать, так как отменить что–либо было уже невозможно, и даже сам состав суда не смог бы выйти из помещения, – судебное заседание происходило в обстановке осады со стороны десятков тысяч людей.
Председатель суда еще раз позвонил в колокольчик и предупредил: если в зале будет шумно, то он вынужден будет очистить помещение от публики и дальше проводить заседание закрытым порядком.
Зал разразился дружным хохотом: коридоры были залиты толпами людей, а вокруг на площади тоже бурлили непроходимые толпы.
Председатель суда побледнел еще больше, огляделся по сторонам, пожал плечами и сел.
– Продолжайте, – сказал он прокурору.
Оркестр за окнами гремел, толпа выводила в такт мелодии: «На баррикады, буржуям нет пощады…» Какие–то молодые люди ритмично скандировали: «Суд на ко–нюш–ню», с разных концов площади доносились возгласы: «Долой войну!»
Председатель суда еще раз поднялся, позвонил и попросил закрыть окна.
Никто не шелохнулся: в зале было душно, да и зачем закрывать окна, если там, за окнами, – народ, если именно там, за стенами суда, – подлинный, справедливый, народный суд?
Члены суда тревожно переглядывались. Помощники прокурора и военные юристы–защитники сидели, опустив глаза. Гражданские защитники весело пересмеивались: еще никогда не приходилось им вести защиту в подобной обстановке.
Арестанты на скамье подсудимых переговаривались между собой – все равно чтения обвинительного акта нельзя было услышать.
– Демьян, – сказал Королевич, – теперь ты видишь, что такое народ?
– Вижу.
Сердце у Демьяна учащенно билось. Да, он видел, что такое народ. И казалось, внутри у него все звенело, словно музыка и пение с улицы отдавались эхом в его собственной груди. Ему и самому хотелось запеть.
– Теперь ты видишь, Демьян, что такое – ленинская правда? Видишь, что такое – наша партия и что она может?
– Вижу… А как ваши раненые ноги, дяденька Федор? Болят?
–Что? Ноги? Болят?
Королевич тихо и счастливо засмеялся.
Дзевалтовский молчал. Он сидел, вытянув перед собой на пюпитре руки со сплетенными пальцами, и выражение лица у него было напряженно–сосредоточенное: он внимательно слушал текст обвинительного акта. Он должен был его слушать: ему дадут последнее слово, и он произнесет речь. Такую речь, чтобы ее услышали все – тут, в зале, там, за стенами суда, на улице, чтоб услышал весь город, вся страна, весь фронт и весь мир. И он скажет такую речь – в этом теперь была вся его жизнь, вся жизнь, которая еще у него осталась… Вот только нужно внимательно прослушать обвинительное заключение, чтобы ответить на каждое слово этого лживого, контрреволюционного, империалистического документа. И можете быть уверены, он не оставит без ответа ни единого лживого слова из этой жалкой и мерзкой декламации…
Чтение обвинительного акта длилось уже третий час.
И третий час, не умолкая, гремели на площади оркестры и раздавалось пение: «Вихри враждебные веют над нами», «Вышли мы все из народа», «Беснуйтесь, тираны».
3
Демьян смотрел в окно. Ему видна была голубизна небосвода, серебрящаяся в сиянии погожего сентябрьского дня, ниже, из–за косяка окна, выглядывали острые верхушки молодых тополей, на них без устали суетились воробьи; дальше, на той стороне улицы, виднелись кроны могучих каштанов – их листья по краям уже были подернуты желтизной.
Но виделись Демьяну необозримые луга над родным Здвижем – там, должно быть, уже скосили и отаву. Кто же косил? Помещик ли граф Шембек собирал сено в свои скирды, или крестьяне развезли eго по своим дворам?
Владыкой мира будет труд… —
доносилась песня с площади.
А Демьян видел: тихий, как бы застекленевший, полдень над Здвижем – вода в речке течёт медленно, неприметно. Высокие камыши склонились к воде. Терпко пахнет мята в заозерьях вдоль берега. На белых отмелях простелена рыбацкая снасть для просушки. Кто же в этом году будет брать рыбу? Шембек или, быть может, крестьяне заведут невод для себя?
А за селом, до самого леса, рыжеет стерня. Нет, надо полагать, уже начали вспашку под зябь. Кто же пашет помещику? Австрияки–пленные или, быть может, крестьяне снова пошли в панскую упряжку? За десятую, как при царе, часть? А может быть, за третью?.. А людям кто будет пахать? Выделит ли граф машины? Выделит – если люди пойдут даром пахать. А если будут отстаивать свое – разгневается граф и не выделит. Что же тогда делать?
Демьян видит: стоит его старенький батько на меже – между двумя своими десятинками и двумя арендованными у графа Шембека – и только руками всплескивает да в полы бьет. Что же ему, в самом деле, делать, как дальше быть?..
Демьян нетерпеливо заерзал на своем месте: нужно бы и самому туда, на село, – запутался же старый родитель, да еще и эта Центральная рада сбила с толку, пропади она пропадом! Вместо того чтобы дело делать, на заседания ездит: кворум составляет профессору Грушевскому да писателю Винниченко с земгусаром Петлюрой! А тут еще шуряк Иван Брыль отписал в записочке, подсунутой Демьяну вместе с передачей, что, дескать, брат Софрон, тихий да божий Софрон, зачастил вдруг к каким–то эсерам. И откуда эти чертовы эсеры взялись в Бородянке? Сроду их там не было! Впрочем, и большевиков там тоже никогда раньше не было… А есть ли теперь?.. Нужно, ой нужно ему, большевику Демьяну, поскорее ехать в родное село! Да вот горе! – видать, сразу же после суда и расстреляют…
И тут Демьяново сердце похолодело. Умереть – это же означает больше не жить… Не будет Бородянки, не будет старого отца, не будет и Вивди… Вивдя, боже мой, сердце мое! Вивдя – сладкая моя молодичка! Неужто и на этом… крест?
– Демьян! – толкнул Королевич Демьяна в бок.
– Демьян! – потянул его с другой стороны Дзевалтовский. – Тебя же спрашивают!.. Говори!
Чтение обвинительного акта, наконец, было закончено. Теперь опрашивали подсудимых: кто признает себя виновным, кто – нет?
Демьян поднялся и сказал:
– Виновным в том, что генералы сейчас прочитали, не признаю. А в том, что против войны и что за трудовой народ или за власть Советов, и что большевик в вопросах политики, – это признаю. По свободе совести…
Все семьдесят восемь подсудимых не признали себя виновными в измене родине. Но все признали, что против войны они были, есть и будут.
Затем помощники прокурора задали свои вопросы – общим числом триста три.
Председатель суда невидящим взглядом смотрел в окно. Каждый вопрос обвинения был ему известен заранее, а ответов обвиняемых он все равно не слышал: в зале шумели, переговаривались, смеялись или хлопали в ладоши, – он на это уже и внимания не обращал; в раскрытые окна вливался непрестанный шум с площади, вот уже несколько часов непрерывно гремел духовой оркестр, из конца в конец перекатывалось волной: «Bесь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…» А что должно быть «затем», этого генерал не мог себе представить. Очевидно, затем уже не будет больше ничего. Пропала Россия…
4
А «затем» было вот что.
Вердикт присяжных – представителей воинских частей фронта – на все триста три вопроса обвинения дал отрицательный ответ: нет!
Нет, не виновны!
Резюме суда о том, что обвиняемые признаны не виновными в предъявленных им обвинениях, уже никто и не слушал, да и невозможно было бы услышать: в зале гремело неумолчное «ура». Приказ – освободить оправданных подсудимых из–под стражи – некому было и отдать: стража, вложив сабли в ножны, разошлась сама. И уже все семьдесят восемь гвардейцев–повстанцев вдруг оказались высоко в воздухе – над головами людей: их подхватили на руки и понесли из зала на улицу.
Так, на руках людей, все семьдесят восемь и выплыли из дверей суда на площадь – и каждого толпа встречала новой волной аплодисментов и возгласами «ура». Знамена развевались, шапки взлетали вверх, откуда–то появились и цветы: их пригоршнями сыпали на оборванцев в лохмотьях – красные гвоздики и чернобривцы. Все три оркестра играли одновременно – может, и не в лад, но весело, раскатисто и громко. Люди обнимались и целовались, как на пасху. Люди танцевали на мостовой, как в праздник. Потому что и в самом деле это был праздник: пришла великая, желанная, но нежданная победа. Победил народ!
Героев–гвардейцев так и не опустили на землю. Так на руках и понесли их через весь город – они плыли над головами толпы, словно знамена. Да, в сущности, каждый из них и в самом деле был знаменем борьбы! Их поднимали высоко, чтобы всем было видно, и люди на тротуарах останавливались, смотрели, аплодировали и кричали «ypa! ”. И за этими живыми знаменами двинулась с площади вся масса народа: пошли оркестры, тронулись колонны заводских рабочих, замаршировали воинские части.
Это была и демонстрация, и парад–манифестация народного торжества, и она двинулась по Владимирской, затем по Бибиковскому бульвару, к помещению Коммерческого института.
В Коммерческом институте, большом актовом зале, в это время шло заседание Совета рабочих депутатов города.
И это тоже было необычайное заседание – до сих пор таких еще не было. Проходил первый пленум Совета вновь переизбранного состава – и большинство среди представителей других партий наконец завоевали большевики. Большинством голосов только что был избран председательствующий на пленуме – снова член партии большевиков впервые в истории Киевского совета председательствовать на пленуме должен был большевик.
В это время манифестация подошла к помещению Коммерческого института. И семьдесят восемь гвардейцев–гренадеров на руках людей вплыли в зал заседаний. Пленум стоя встретил их песней:
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут…
Героям–гренадерцам так и не пришлось сойти на землю – их прямо посадили в кресла первого ряда перед президиумом.
Председательствующий объявил:
– Внеочередное слово предоставляется председателю солдатского комитета славного полка гвардейцев–гренадеров прапорщику Дзевалтовскому!
5
И Дзевалтовский поднялся на трибуну.
На суде ему так и не пришлось произнести свое последнее слово, и вот теперь он имел возможность сказать его здесь – перед народом.
Дзевалтовский смотрел прямо перед собой, и взгляд его был таким же напряженно–внимательным, как и тогда, когда он слушал обвинительный акт. Только теперь он видел перед собой уже не суд генералов, а суд народа. И приговор народный светился у всех в глазах: радость первой победы, готовность к борьбе, вера в победу.
Да, победа не может не прийти, раз на борьбу поднялся весь народ. Вот они сидят перед ним – борцы и первые победители, его друзья–однополчане. Вон Демьян Нечипорук заливается счастливым смехом. Не имеет значения, что победа, которой он добился, была только первой, совсем еще незначительной победой: теперь он будет драться до конца, до окончательной огромной победы. А впрочем, и первая его победа тоже не мала: он победил смерть…
И Дзевалтовский начал свою речь, она была совсем краткой:
– Товарищи! Мы бросили оружие, потому что не захотели воевать, не захотели быть пушечным мясом в чужой войне, не захотели быть орудием убийства в руках империалистов… Теперь мы возвратимся в свою часть и… непременно возьмем оружие в руки. Потому что теперь мы поведем нашу справедливую войну против паразитов и империалистов, поведем войну против старого мира рабства – за новый мир, который мы построим сами для самих себя! Мы пойдем в бой за власть Советов! Большевистских Советов! К оружию, товарищи!
Когда овация улеглась, пленум Совета перешел к очередному делу: выборы постоянного исполнительного комитета Совета.
В результате голосования в комитет прошли: четырнадцать большевиков, семь меньшевиков, шесть эсеров, три украинских социал–демократа и один бундовец.
Итак, в президиуме Киевского совета рабочих депутатов большевики тоже вышли, наконец, на первое место.
Тогда меньшевики, эсеры и бундовцы заявили, что подобное соотношение голосов в президиуме будет не парламентарным, ибо заранее предопределяет, что будут проводить лишь большевистские резолюции, и поэтому–де они снимают с себя полномочия членов исполкома.
Зал разразился хохотом, кто–то крикнул «ура!».
Семь меньшевиков, шесть эсеров и один бундовец встали со своих мест и направились к выходу. В зале поднялся невероятный шум – люди аплодировали, стучали ногами, выкрикивали оскорбления вдогонку уходящим. Василий Боженко вырвался на эстраду, встал перед трибуной, всплеснул руками и даже присел от хохота.
– Все это уже было! – кричал он. – Было уже! Только раньше мы покидали зал, а теперь – вы! Тогда вы нас побеждали, а теперь – мы вас!
Он заложил два пальца в рот и засвистал разбойничьим свистом.
Свист подхватили тут и там. Свист, улюлюканье, насмешки неслись вдогонку представителям соглашательских партий. И напрасно председательствующий поднимал руки вверх, призывал всех к порядку, и сердито одергивал Боженко.
Весело и радостно было у всех на душе: наконец–то и меньшевики с эсерами оставили Совет в покое!
Итак, большевики завоевали большинство и в руководстве Киевского совета. Такой это был знаменательный для столицы Украины день. День первой победы.
Победы день первый.
6
Господи боже мой, да ведь это ж было его родное село!
Демьян стоял и плакал.
Это было смешно – обстрелянный, израненный, контуженый старый солдат, который провел три года на позициях и узнал там, что такое и вши в окопах, и сорокачасовые пешие переходы, и наступления, и отступления, и атаки, и контратаки, полной мерой хлебнул горя и беды, не проронив при этом и слезы, – вдруг стоит и плачет.
Эта было и неправдоподобно: узник после трех месяцев темного каземата, подсудимый, которого ожидал лишь смертный приговор, смертник, которому вот–вот уже надлежало проститься с белым светом, – вышел на волю, остался в живых и вдруг заплакал.
И это было даже стыдно: огромный детина, двадцать третий год уж миновал, и вдруг рыдает, как малое дитя.
Так размышлял Демьян, стыдя себя и смеясь над собой и в то же время не переставая плакать.
Боже мой, как чудесно вокруг! Как приятно жить на свете!
Вон там, на крестьянском углу села, яворы у дороги, а дальше, на господской стороне, – старые–престарые развесистые липы в два ряда вдоль столбовой дороги.
А вон там – мать пресвятая богородица! – да это же, среди других рыжих стрех, и петушок на верхушке Демьяновой хаты!
Отсюда, с пригорка, сразу за мостиком через речку, как на ладони было видно все село до самой экономии Шембека и все окрестности на много верст вокруг. Зеленый купол церкви, крест над католической часовенкой, крылья полутора десятков ветряных мельниц, дым из десятка сельских кузниц. Трубы над хатами не дымились: была пора, когда обед уже приготовлен, а за ужин еще не принимаются. Благословенная пора – та самая минутка, когда утомленный труженик может прикорнуть после обеда, кто где оказался. Короткий, но очень крепкий это сон – длинной ночью такого не бывает. Демьяну даже показалось, что он слышит, как село в эту минуту на сотни голосов задает храповицкого.
Демьян вытер слезы и засмеялся.
Он шел пешком. До Бабинец он подъехал на какой–то подводе, а последние километры отмахал на своих двоих – старому пехотинцу не привыкать! Идти по своей родной земле – может ли быть у человека большее счастье? Не жаль и потерянного времени, не важно, что на побывку в селе Демьяну был отпущен один–единственный день, послезавтра утром он должен явиться в свою часть и отрапортовать фельдфебелю:
– Так что, разрешите доложить: рядовой Нечипорук Демьян прибыл после трехмесячного ареста с копией приговора военно–полевого суда на руках! Оправдан, не виновен, чист, товарищ фельдфебель! Разрешите идти? А где теперь расквартирован солдатский комитет нашего полка, разрешите спросить?
Демьян хмуро взглянул по сторонам.
Мать родная! Да ведь шембековские десять тысяч десятин так и лежат сплошняком, неразделенные! Значит, правда, что проклятое Временное правительство не нарезало людям земли!
Демьян плюнул. Ну берегитесь же, паны и фабриканты! Народ не будет ждать вашего буржуйского Учредительного собрания! Уж Демьян постарается, чтобы не ждал…
Однако что же это? Куда ни глянь – всюду рыжеет стерня! Земля не вспахана, не поднята ни под озимые, ни под пар!
Демьян злорадно засмеялся. Выходит, не пожелали люди работать на графской земле! А с одними австрияками да экономическими граф, известно, не управился. А может, и экономические тоже забастовали? Красота! Видать, пролетарское самосознание пробивается и в наше темное полесское село!
Но тотчас же Демьян снова помрачнел. Не вспахано – не посеешь, не посеешь – хлеба не будет. Люди добрые! Да ведь голод наступит!
Демьян ускорил шаг, почти побежал. Пахать! Поднять людей! Пахать, пускай и графскую землю, а там – шиш барин получит!
Теперь он увидел, что село вовсе не блаженствовало в сладком и тяжелом трудовом сне. Люди были на улице. Да еще, как видно, произошло что–то важное: люди спешили прочь из села, прямо навстречу Демьяну. Вот толпа уже миновала крайние хаты и двигалась по дороге сюда, на сближение с Демьяном, – если выражаться на фронтовом языке.
Демьян приостановился и посмотрел из–под руки. Ничего не поймешь: огромная толпа, почитай полсела! На дорожные работы, что ли? Или все–таки решили выйти на графские поля? Или, быть может, на сходку, вон там, как обычно, на выгоне у Здвижа? Люди добрые! И красное знамя! Да никак демонстрация! Разве уже и по селам пошли демонстрации?
Расстояние между Демьяном и толпой все сокращалось. Слышно было уже, люди говорили все сразу, кто–то даже кричал. А впереди бежала какая–то женщина. В чем дело? Она впереди идет или, наоборот, убегает, а люди за ней гонятся? Господи боже мой! Может, снова знахарки кого–нибудь в селе ведьмой нарекли? Сейчас поймают и учинят жестокий самосуд! Или покрытку чью–то выгоняют из села? Догонят, разденут, измажут дегтем, а потом еще и в перьях вываляют! Спасать нужно, помочь, просветить темный народ!
Демьян пошел быстрее, навстречу горемычной женщине и против толпы.
Толпы он уже не видел, не смотрел на нее – сплошная масса людей. Он видел только женщину, бежавшую шагах в пятидесяти впереди толпы, да и от него уже находившуюся, пожалуй, в двухстах шагах. Юбка била ее по ногам, ветер надувал сорочку, платок развевался крыльями над головой. Женщина спешила. И вдруг она что–то крикнула, взмахнула руками и побежала еще быстрее.
Боже мой! Вивдя! Жена!
7
Демьян уже ничего не видел и тоже побежал.
И это была всего лишь минутка, а казалось, все три года войны: они бежали – Демьян навстречу Вивде, а Вивдя – навстречу Демьяну.
– Демьян! Демьянчик! – голосила Вивдя.
Небо сверху, с обеих сторон река, бор – тоже бежали рядом и навстречу. Дорога ковром стлалась под ноги.
– Демьянчик!
Демьян почувствовал это: она камнем упала ему на грудь, ощутил – не руки легли ему на плечи и обвили шею; ощутил – она задрожала, словно подстреленная, и замерла. Вдруг отяжелела, обвисла, ухватившись за шею Демьяна, и потянула к земле.
Но Демьян легко подхватил ее и как пушинку поднял перед собой на руках.
Далее – какое–то мгновение – Демьян ничего не ощущал.
Возможно, он говорил ей что–то; по–видимому, что–то говорили люди, потому что толпа уже окружила его с Вивдей на руках. Надо полагать, прошло много времени, а возможно, всего лишь миг: мелькали лица, толпа бурлила, стоял шум.
Затем Демьян снова пришел в себя – стал яснее различать лица и голоса. Мужчины хохотали и что–то кричали, женщины рыдали и причитали, не менее двух десятков кулаков молотили Демьяна по спине, кто–то целовал в левую и правую щеку, кто–то в плечо.
– Демьян! Живой! Нечипорук! Герой! Здорово! А чтоб тебе пусто было! – кричали мужчины.
– Ой боже ж мой, боже! – причитали, как над покойником, бабы.
Люди вышли встречать Демьяна всем селом. Обычно бывало так: приходил солдат с фронта – и поскорее, первым делом, в свою хату. И люди наведывались уже погодя приветствовать, поздравлять, расспросить о новостях и выпить чарку за здоровье и счастье. Но ведь Демьян был не просто солдат, а герой, целых три месяца село жило вестями из проклятой тюрьмы. Еще вчера знали – ведут на суд и смерть. Еще ночью услышали – Василий, работающий стрелочником на станции, принес эту новость: оправдали, расстреливать не будут! И о том, что Демьян выехал из Киева, в селе eщe утром стало известно – слух опередил его: из Гостомеля до Блиставицы, до Буды Бабинецкой, а из Бабинцев шустрый пастушок полчаса назад принес весточку на быстрых ногах: дядька Демьян уже идут!..
Теперь люди тесно окружили Демьяна на дороге, тянулись к нему, обнимали, поздравляли, говорили добрые слова – матрос Тимофей Гречка размахивал знаменем с надписью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ”
А сомлевшая, потерявшая сознание Вивдя так и лежала у Демьяна на руках.
– Людоньки! – кричали бабы. – Да она ведь неживая! Что же ты ее держишь так, дурень! Положи, положи на землю! Девчата, бегите скорее к речке, наберите хоть в рот воды, побрызгать нужно на сердешную! В горе, голубушка, держалась, а от радости и умереть может! А ну–ка живее!
Демьян осторожно положил Вивдю на землю. Люди расступились широким кругом. Софронова Домаха сунула кому–то из женщин своего Савку, который вопил благим матом, и принялась отхаживать Вивдю.
– Ну, теперь буржуазии амба! – все кричал и кричал Гречка, ударяя при этом кулаком то себя в грудь, то Демьяна по спине. – Раз в нашем селе объявился герой революции – аврал, под стенку паразитов, и война дворцам!
– Вивдюшка! – наклонился Демьян к жене.
Да, это было ее лицо! Три года не мог точно вспомнить, какое же оно есть, личико любимой молодой жены, – а теперь вот видит: именно такой он ее и представлял себе.
Только сильно осунулась и такая бледная–бледная, словно прозрачная, просто насквозь светится…
Демьян еще не знал, что лицо любимой в разлуке всегда как бы тускнеет, такие знакомые, дорогие черты как бы окутываются туманом и стираются – вечная мука для всех влюбленных в годину разлуки, – и три года горько упрекал себя, что забыл, как выглядит любимая; уж не утратил ли он ее любовь или же она его?
Нет, нет! Именно такой он и видел ее все время – в солдатские ночи, в окопах, на часах, под пулями в бою.
– Вивдюшка! Милая! Опомнись!
Девчата подбегали одна за другой и брызгали Вивде на грудь, на лицо. Бабы мочили платки и прикладывали ей к вискам, под сердце.
И Вивдя открыла глаза.
– Смотрит, смотрит! Уже смотрит! – покатилось в толпе. Вивдя смотрела. И видела Демьяна. Глаза Демьяна были близко–близко от ее глаз. Минутку она еще не могла ничего сообразить: глаза ее сначала уставились в одну точку, потом беспокойно забегали – и взгляд ожил. А со взглядом возвратились и силы. Вивдя порывисто села.
– Уже села! Уже сидит! – загудели в толпе.
Демьян протянул к ней руки, но она уже вскочила сама и сразу же бросилась снова Демьяну на грудь.
– Ура! – завопил Тимофей Гречка, и вслед за ним закричали «ура» все находившиеся в толпе молодые парни.
– Солдату Демьяну Нечипоруку, гвардейцу и гренадеру, герою революции – ура!
Это «ура» казалось, затопило весь свет. А Вивдя прижималась, тянулась к Демьяну, припала к его груди, прятала лицо в плечо, целовала руки, в губы целовала. С тех пор как свет стоит, такого еще не видывали в селе, чтобы при людях да так прижималась молодица, пускай и к законному мужу! Чтоб так вот при людях миловаться, да еще и – стыд какой! – целоваться…
Но ведь с тех пор как свет стоит, еще не было такой страшной войны, не было и революции, и герой революции еще никогда не появлялся с того света. А солдатке, к тому же и молодке героя революции, пускай все будет дозволено!
И люди радовались, доброжелательно подзуживали или стыдливо отворачивались. Девчата всхлипывали, бабы голосили.
А Вивдя, прижав Демьянову шею так, что он уже не мог и дохнуть, прошептала ему потихоньку на ухо:
– Демьянчик! Ребеночка от тебя хочу…
И второй раз за эти короткие минуты почувствовал солдат Демьян, что он уже ничего не ощущает, что ноги его немеют, и всего его словно пронизывает током, и кажется, что под ним прогибается сама земля.
8
Потом уже пошли, как и полагается, приветствия. Люди подходили по одному и пожимали Демьяну руку: Гречка, кузнец Велигура, батрак мироеда Омельяненко – Омелько, дед Онуфрий Маланчук – сейчас он очень хорошо все слышал; подходили и такие, которых Демьян сразу и не узнавал: школьный учитель Дормидонт Дормидонтович Крестовоздвиженский, поповский сынок, семинарист Агафангел Дудка; подходили и вовсе незнакомые, чужие, вообще не нашего народа люди: австрияки–пленные из рабочего постоя в экономии, капрал Олексюк. Словом, десятки, а может, и сотни людей, – добрых полчаса ушло на рукопожатия. Под конец подошел и сам Омельяненко, сначала он держался в сторонке, степенно, как и надлежит в селе человеку почтенному, зажиточному. Подошел, сказал: «Доброго здоровья и счастливого прибытия». И уже только после этого, последним, протиснулся к брату и Софрон.
Братья, как и надлежит по–крестьянскому, поздоровались без нежностей:
– Здорво, брат Демьян! С счастливый прибытием!
– Здорво, брат Софрон!
Вивдя стояла рядом с Демьяном, крепко уцепившись рукой за его плечи, словно боялась, чтобы снова у нее не отняли мужа, – уже розовая, расцветшая, пышная, и всем кланялась в пояс, всех благодарила, будто это именно ее и приветствовали с прибытием в село или будто это она в своем доме принимала гостей и приглашала к столу.
– А где же батько? – всполошился Демьян. – Батька Авксентия Опанасовича не вижу? Они дома меня ждут? Здоровы ли?
Отвечала сразу вся толпа:
– Да ведь дядька Авксентий, Авксентий Опанасович, еще на рассвете в Киев подался поездом – у него же теперь, как у члена Центральной рады, бесплатный проезд в вагоне! За тобой же и поехал, чтобы забрать из тюрьмы как только слух пошел, что стрелять не будут! Разминулись, выходит, ай–яй–яй! Обратный поезд только вечером будет, поздно!
Демьян на мгновение помрачнел. Занесла же нелегкая старика в эту дурацкую Центральную раду! Попервоначалу, как только услышал об этом, то ничего, даже гордился: как же – простого мужика да в самую что ни на есть в верховную власть! А потом, в тюрьме уже, как просветился, пролетарскую науку прошел, с Дзевалтовским обо всем на свете наговорился – осознал Демьян, что трудящемуся человеку лучше в эту Центральную раду и не соваться: национализм–сепаратизм супротив пролетарского интернационализма и такую же позицию о земле и заводах занимает, как и Временное правительство, клонится и туда и сюда, а более всего – к буржуазии. Так и Крыленко, пока его не выпустили из капонира, говорил, так доказывал и солдат Королевич. Но уж больно хотелось увидеть родного батька! А ведь Демьяну утром нужно спешить на станцию, а затем разыскивать полк: он теперь, согласно дислокации, расквартирован где–то под станцией Жмеринкой. Демьян крепче прижал Вивдю: бедняжка, она еще и не знает, что всего лишь одна ночь досталась им, чтоб наговориться обо всем, наплакаться и насмотреться друг на дружку. Одно лишь утешение, что не на позиции идти Демьяну, а на постой.





